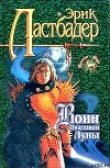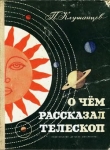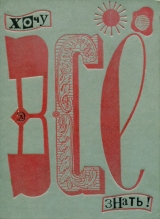
Текст книги "Хочу все знать 1970"
Автор книги: Николай Сладков
Соавторы: Борис Ляпунов,Евгений Брандис,Александр Кондратов,Павел Клушанцев,Алексей Антрушин,Тамара Шафрановская,Регина Ксенофонтова,Петр Капица,Анатолий Томилин,Александр Муранов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 31 страниц)
ИЗ ЗАПИСОК ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОГО АРХИВАРИУСА

Я тоже!
Однажды в дороге Альберт Эйнштейн вошёл в вагон-ресторан, чтобы поесть. Однако он обнаружил, что оставил свои очки в купе. Чтобы не идти за ними, прославленный учёный попросил официанта прочитать ему меню вслух. Официант не знал, с кем имеет дело. Он с сочувствием взглянул на беспомощного старика и, желая утешить, шепнул ему на ухо:
– Ничего, я тоже неграмотный!
На всякий случай
Над дверью своего загородного дома знаменитый датский учёный Нильс Бор повесил подкову, якобы приносящую счастье. Один из гостей как-то спросил Бора с удивлением: «Неужели вы, такой великий учёный, верите этому?» – «Нет, конечно, – ответил Бор, – не верю. Это безусловно предрассудок. Но вы знаете, говорят, что подкова над дверью приносит удачу даже тем, кто в это не верит».
А. Томилин, Н. Теребинская
ТРИ ЗАПОВЕДИ ЭКСПЕРИМЕНТАТОРА
Прежде всего давайте условимся, что учёные, даже самые гениальные, как и все остальные люди, имеют свои пристрастия. Вы, наверное, замечали, что среди товарищей встречаются такие, что любят всё делать собственными руками: мастерить, строить… А есть и другого склада ребята – любители порассуждать. Тоже строители, только воздушных замков.
Люди науки тоже делятся на два больших отряда: экспериментаторов и теоретиков. И хотя и те, и другие понимают, что ничего не стоят друг без друга, споры о том, кто главнее, не утихают. Экспериментаторы считают, что только опыт может считаться праведным судьёй для любой научной теории. Теоретики не отрицают значения опыта, но убеждены, что только теоретическое обобщение опытных результатов двигает науку вперёд.
Впрочем, мы не станем разбираться в этом споре. Сегодня мы на стороне экспериментаторов. Давайте посмотрим, как они работают, познакомимся с их основными инструментами и приборами. Начнём с самого простого.
Каким образом человек получает сведения (информацию) об окружающем мире? Прежде всего при помощи органов чувств: зрения, слуха, вкуса, обоняния и осязания. Это и есть главные датчики информации. И во всяком деле, во всяком эксперименте важно быть уверенным в том, что органы чувств нас не подводят. Тогда какие бы чудеса ни происходили в природе, но если я их сам увижу, сам услышу, попробую на вкус, понюхаю и пощупаю руками, никому не удастся меня убедить, что чудес этих не существует…
Самый большой объём сведений даёт зрение. Недаром народная мудрость гласит: «Лучше раз увидеть, чем сто раз услышать». Внимательные и зоркие глаза – залог успеха любого опыта. Но так люди думали не всегда.
В средние века наука представляла собой странное зрелище. Учёные философы собирались на диспуты и обсуждали всерьёз вопросы, которые сегодня могут показаться только шуткой. Например: «Сколько демонов поместится на кончике иголки?» При этом никого вовсе не волновало то обстоятельство, что самих демонов никто и никогда не видел. Или пример другого широко известного диспута: «Пройдёт ли верблюд сквозь игольное ушко?» Вы скажете: зачем спорить? Приведите верблюда и убедитесь в невозможности желаемого. Другими словами: поставьте опыт! В это-то всё и упиралось. Никаких опытов средневековая наука не допускала. Суть её заключалась в том, чтобы сто раз на все лады перетолковывать священное писание – библию. И всё! Ещё можно было обсуждать взгляды древнегреческого мыслителя Аристотеля. И то не все, а только те, что не противоречили церковным догмам. Так продолжалось долгие годы.
Даже во времена Галилея ещё не доверяли тому, что видят глаза, если это противоречило священному писанию. Тщетно великий учёный уговаривал монахов и даже кое-кого из священнослужителей высокого сана взглянуть в его телескоп – первый телескоп в истории человечества – и убедиться, что на Луне есть моря и горы… Церковники в ужасе отказывались. А вдруг правда увидят, посеется в душе сомнение. А от сомнения к безбожию – шаг!.. Галилей преодолел косность и невежество. С его удивительных работ наступил в истории науки век эксперимента. И всё-таки…
ПЕРВАЯ ЗАПОВЕДЬ ЭКСПЕРИМЕНТАТОРА: НЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ СВОИМ
Знаете ли вы, что тёмной ночью человек с нормальным зрением может разглядеть огонёк спички… за тридцать километров! Потрясающая чувствительность! Особенно удивительна она, если учесть, что днём в летний полдень солнце заливает окружающий нас мир светом в миллионы миллионов раз ярче спичечного пламени. А наши глаза не слепнут, не теряют безвозвратно свою чувствительность от такой яркости, а видят по-прежнему. Удивителен диапазон зрения. Его можно было бы сравнить с подъёмным краном, способным одинаково легко поднять железнодорожный вагон и снять пылинку с лесного муравейника. Но таких подъёмных кранов не бывает!
Сегодня физики уже построили приборы, чувствительность которых превосходит чувствительность глаза. Единицы фотонов – световых частиц – улавливают фотоэлектронные умножители. Но боже сохрани чиркнуть рядом спичкой. Прибор сразу же выйдет из строя.
Почему же мы предлагаем не верить такому замечательному устройству, как глаз?
Перенёсемся на некоторое время в Англию конца XVIII столетия, в город Манчестер. Здесь в среднем учебном заведении под названием Новый колледж преподавал в те годы математику и натуральную философию некий Джон Долтон (у нас его фамилию произносят как Дальтон). Сын манчестерского ткача, он не получил систематического образования. Но наука была его призванием, и он всецело был ей предан. Однажды, сравнивая между собой различные полевые травы, Долтон обратил внимание на странное несоответствие, которое раньше проходило мимо его внимания. Рассматривая цвета и оттенки травы, он бесспорно видел розовые и красноватые тона. Между тем люди вокруг уверяли, что трава зелёная. Порезав осокой палец, Долтон выдавил из него каплю ярко-зелёной крови… Но ведь все уверены, что кровь красная. На следующий день он поднялся рано, чтобы встретить восход. И на его глазах небо на востоке зазеленело, вспыхнуло ярким светом, и взошло солнце. Однако все считают зарю розовой…
Долтон стал внимательно исследовать своё зрение и пришёл к удивительному открытию. Его глаза путали оттенки розового и зелёного. Он их фактически не различал…
Долтон написал интересную работу о своих наблюдениях. И когда она дошла до широкой публики, оказалось, что он не одинок. В разных концах Англии, даже его родного Манчестера, нашлись люди, путающие цвета. Явление «цветослепоты» оказалось чрезвычайно распространённым. Просто раньше никто на это не обращал внимания. Со временем статистика доказала, что из каждой сотни мужчин не меньше четырёх страдают этим недостатком зрения. Исследователи назвали его «дальтонизмом», по имени первооткрывателя. Среди женщин дальтонизм встречается реже: примерно у одной из двухсот.
Как же могло быть, что люди не замечали того обстоятельства, что путают цвета? Ведь с разнообразием красок и оттенков мы встречаемся каждый день… В этом-то, оказывается, и заключена причина того, что некоторые дальтоники не подозревают о своём недостатке. Человек с нормальным зрением обычно воспринимает около сорока различных оттенков в цветах. Художники их различают до нескольких тысяч. Мозг человека, перерабатывая информацию зрения, старается сам обходиться без двусмысленных, нечётких данных и как бы подавляет сигналы от перепутанных цветов, заменяя их остальным набором точных данных. Так бывает, конечно, когда возможность подобного выбора есть. Но представьте себе, что на оживлённый перекрёсток выехал автомобиль, за рулём которого – дальтоник. В сигналах светофора выбора нет: либо красный – что во всём мире означает стоп, опасность! – либо зелёный – проезд свободен. А как быть нашему водителю, который путает эти цвета?..
Вот почему перед тем, как получить водительские права, каждый должен обязательно побывать у врача-окулиста, прочесть разноцветные таблицы с цифрами и буквами, составленными из красно-зелёных или жёлто-синих точек.
Наш рассказ касался людей с недостатками зрения. Но ведь у большинства дальтонизма нет… Проделаем опыт посложнее. Вряд ли кто-нибудь усомнится в том, что цветок подсолнуха жёлтый… Но вот мы срезали его, перенесли в тень. Изменился ли цвет растения? Конечно, нет. Наши глаза ясно видят желтизну… Ещё одна проверка. В руках у нас спектрофотометр – прибор, безошибочно определяющий цвет по самым объективным данным – по длине световой волны. Направим прибор на подсолнух… И что это? Листья растения и лепестки цветка почти не вызывают изменений в показаниях прибора. Но листья зелёные, это уж точно! А цветок?..
Впрочем, давайте сначала разберёмся: что показывает спектрофотометр? Цвет лучей отражённого от предмета света.
Яркое солнце посылает на землю много прямых жёлтых лучей, которых в тени комнаты нет. В тени – свет зеленоватый, отражённый от предметов, рассеянный воздухом и голубым небом. В нём совсем или почти совсем нет жёлтых лучей. Об этом нам и говорит прибор… А как же глаз? Увы – глаз ошибается! Сказывается привычка. Мы привыкли считать цвет свойством. А на самом деле он зависит от состава отражённых лучей.
Аппарат зрения сконструирован у нас так, что независимо от воли и желания в нашем мозгу постоянно вводится поправка на освещение. Поправка, которая позволяет одним и тем же предметам в разных условиях сохранять в нашем представлении одинаковый цвет. Помогают нам в этом светлые предметы, самые светлые, которые мы называем белыми.
Выходит, глаза лгут?.. Лгут, и лгут преднамеренно. Представьте себе на минутку, что наше зрение обладает объективностью спектрофотометра. Какая путаница воцарилась бы в окружающем нас мире! В солнечный день он блистал бы множеством ярких красок. Но стоило бы Солнцу спрятаться за тучи, как все цвета неузнаваемо должны были бы измениться. При электрическом освещении – новая перемена…
Мозг человека должен был бы перерабатывать огромное количество новой информации каждый раз, чтобы обеспечить узнавание одних и тех же предметов при различном освещении. Вместо этого экономная Природа ввела поправку, заставила глаз ошибаться.
Тому из вас, кто любит убеждаться во всём сам, я предлагаю несложный опыт. Накройте стол жёлтой скатертью. Поставьте на него вазу с чёрной розой. А теперь осветите всё это жёлтым светом. Можно вставить для этого в окошко жёлтое стекло. И вы увидите чудесную метаморфозу: на столе на белой скатерти у вас будет стоять красная роза.

Вот почему мы говорим: экспериментатор, не верь глазам своим!
ЗАПОВЕДЬ ВТОРАЯ: НА ВКУС, КАК НА ЦВЕТ, ТОВАРИЩА НЕТ
– Вы любите шоколад?
– Ещё бы! И шоколад, и конфеты, и пирожные, и мороженое… Разве есть в мире ребята, которые не любят сладостей?..
Да, пожалуй, против шоколада не поспоришь. Но вот несколько лет назад был автор в Дании. В большом кондитерском магазине на главной торговой улице Копенгагена то и дело открывались двери. Подходило рождество, и юные датчане запасались сладостями. Причём наибольшим спросом пользовались чёрные, будто слепленные из вара лакричные палочки и лепёшки. Не долго думая, автор тоже накупил лакомств датской детворы и привёз их в Ленинград. Должен сразу признаться, мои сувениры не вызвали энтузиазма ни у дочери, ни у её друзей. Нет, зарубежным сладостям они откровенно предпочли ленинградского «Мишку на севере»… Правильно говорит пословица: «На вкус, на цвет – товарища нет». Внимательный читатель может возразить: «Так-то оно так, о вкусах, как говорится, не спорят. То, что нравится одному, может не нравиться другому. Но горькое, солёное, сладкое и кислое люди должны различать одинаково… Вкус – одно из пяти человеческих чувств, приносящих нам информацию о внешнем мире. Значит, он должен быть примерно одинаков у всех людей…»

И вот оказывается, что вкус, хоть и очень важное, но на редкость капризное чувство.
Раньше, когда химический анализ был ещё развит слабо, по вкусу часто определяли качества химических веществ. Представим себе, что мы находимся на русском пороховом заводе примерно петровских времён или чуть пораньше. В заводской двор одна за другой въезжают подводы. Это купцы привезли селитру. Пороховых дел мастер выходит принимать. Вот он берёт кусок селитры из мешка, разламывает, кладёт в рот и жуёт, протягивая остаток подмастерью. Подмастерье тоже старательно жуёт селитру, морщится. А мастер учит:
– Ежели оная селитра горька и солона, то она не добра. А коли только по языку покусывает и сладко слышится, такова селитра добра есть…
Так осуществлялся качественный анализ триста лет назад. Немалую роль играл вкус и в физике прошлых веков. Вот что мы находим в записях шведского философа XVIII века Зульцера: «Если два куска металла, один оловянный, другой серебряный соединить… и если приложить их к языку, то последний будет ощущать некоторый вкус, довольно похожий на вкус железного купороса, в то время как каждый кусок металла в отдельности не даёт и следа этого вкуса».
Если вам приходилось когда-нибудь проверять исправность электрической батарейки, пробуя её контакты на язык, то вы легко поймёте, что шведский философ описал не что иное, как открытие нового явления, названного в дальнейшем гальваническим электричеством.
Открытие Зульцера не привлекало внимания, потому что наука и техника ещё не были в состоянии заинтересоваться электричеством. Прошло несколько лет, и Гальвани, итальянский врач, повторив фактически опыты Зульцера, стал считаться отцом электротехники.
Таким образом, вкус занимал серьёзное место среди методов познания мира человеком. А теперь наступило время выяснить, насколько надёжен вкусовой метод. То есть можно ли и стоит ли широко применять его для научных целей?
Те из вас, кто увлекается химией, наверняка знают вещество под названием бензонат натрия – мелкие белые кристаллики. Попробуйте их на язык… К сожалению, я не могу сказать заранее, что вы почувствуете. Каков он на вкус… Потому что одним он может показаться сладким, а другим – горьким. Третьим – солоноватым, а четвёртым – просто безвкусным. Это удивительное вещество разным людям кажется разного вкуса.
А вот другое химическое соединение – фенилтиокарбомид. Его вкус различен для разных народов. Причём вкус к нему передаётся по наследству из поколения в поколение… Иногда этим свойством пользуются антропологи, чтобы выяснить, к какой группе народов принадлежит тот или иной представитель неизвестного племени.
Вкус даже у одного и того же человека способен меняться в зависимости от состояния его организма. Больному с повышенной температурой всё кажется пресным, лишённым вкуса. Зато проголодавшемуся здоровому человеку вкусно всё!
Утром, когда еда только что вынута из холодильника, сыр и колбаса редко покажутся особенно аппетитными. Это происходит потому, что многие продукты на холоде теряют свои вкусовые качества. А есть и такие, которые их, наоборот, только приобретают с охлаждением. Например, мороженое. Стоит ему растаять – всё пропало…
Нет, вкус, конечно, может дать какое-то представление о веществе. Но это представление крайне субъективное. А то, что правильно для одного и неверно для других, – научным считаться не может. Значит, исследователю вкус – не велик помощник.
ЗАПОВЕДЬ ТРЕТЬЯ: СЛЫШЕН ЗВОН, ДА ОТКУДА ОН?..
Слух не зря ставят сразу после зрения, перечисляя человеческие чувства. Он действительно несёт множество сведений об окружающем мире.
Так и в науке, и в технике слух играет чрезвычайно важную роль. Люди с давних пор пользовались слухом для всевозможных исследований.
Вернёмся на минуту снова на старинный пороховой завод и встретимся со знакомым мастером и его подмастерьем.
На этот раз они принимают серу. Купец-поставщик услужливо развязывает рогожный куль. Мастер берёт кусок серы.
– Тихо, тихо, оглашенные! – кричит купец на приказчиков и возчиков.
Во дворе воцаряется полная тишина. Даже кони перестают похрапывать.
Мастер подносит к уху зажатый в кулаке кусок серы. И замирает. Слушает. Проходит минута, другая.
– Гожо! Сгружайте! – следует его приказ.
Облегчённо вздыхает купец: «Пронесло!» Можно таскать кули на склад.
Опять на наших глазах произведён анализ вещества. Только на этот раз – анализ на слух.

Как же определил мастер качество серы?
Оказывается, зажатый в кулаке кусок чистой серы слегка нагревается от тепла руки. Нагревается неравномерно. И там, где сера теплее, распадается она на крупицы, чуть слышно потрескивая, – рассыпается. Вот это потрескивание и должен услышать мастер.
«Голос» серы как бы говорит: «Качество хорошее, можно употреблять в дело».
Но горе поставщику, если его сера «молчит». Это значит, она плохо очищена и теплопроводность её иная. Она уже не начнёт рассыпаться, потрескивая, от тепла руки. Порох из загрязнённой примесями серы вырабатывать опасно – он может взорваться сам по себе. «Молчащую» серу остаётся только выкинуть на свалку, а купца-поставщика гнать в три шеи да ещё наложить штраф…
Анализ «на слух» – самый скорый. Но далеко не самый точный. Кроме того, надо иметь изощрённый слух, чтобы различить слабое потрескивание. Поэтому не всякому дано распознать таким способом качество серы.
Нельзя забывать, что у разных людей слух не одинаков. Меняется он и с возрастом. Люди, жизнь которых проходит на природе, как правило, обладают более тонким слухом. Но даже они не способны воспринимать многие природные звуки. Наше ухо улавливает лишь звуки, которые имеют не меньше 20 – 25 колебаний в секунду.
По сравнению с морскими животными, например, человек просто глух.
Перед штормом, задолго до того, как разразятся его первые порывы, некоторые животные спешат уйти подальше от скалистых берегов и укрываются в бухтах. Они чувствуют, слышат приближение бури. Специальные чувствительные органы воспринимают мощные инфразвуки, которыми непогода предупреждает о своём наступлении.
А человек не слышит этого предостерегающего голоса. Хотя уловить его очень важно. Приходится строить специальные громоздкие и сложные приборы, с помощью которых можно поймать голос разбушевавшегося океана, узнать о приближении страшных цунами – гигантских волн, вызванных подводными землетрясениями и извержениями вулканов.
Так же, как низкие – инфразвуки, нужны человеку и сверхвысокие – ультразвуки. Те, что уже не могут быть услышаны невооружённым ухом. Вы спросите: зачем? Приведу несколько примеров. Каждый читатель, наверное, знает, что в море, в толще солёной воды, радиоволны распространяются плохо. Свет тоже довольно быстро угасает. Как же переговариваться двум подводным лодкам, находящимся в плаванье?
И вот оказалось, что в воде великолепно распространяется звук. Особенно ультразвук, который как луч прожектора может лететь в непроглядной океанской мгле. Люди построили такие приборы. Сначала построили, а потом узнали, что природа давно научила пользоваться ультразвуком многочисленных обитателей моря. Сначала гидроакустические приёмники рассказали нам о «рыбьих разговорах», а несколько лет назад открыли голоса дельфинов. Некоторые учёные даже считают, что, пересвистываясь неслышными человеку ультразвуковыми сигналами, дельфины разумны и имеют свой дельфиний язык…
Мы рассмотрели три чувства из пяти, которыми наделён человек, и обнаружили, что все они ненадёжны. А сколько есть явлений, которые человек вообще принципиально не способен улавливать…
Тут и радиоволны, и потоки всевозможных частиц, ультрафиолетовое излучение и магнитные поля. Да многое, многое можно перечислить из того, о чём мы знаем по показаниям мудрых приборов, построенных благодаря разуму.
Правда, каждый прибор, так же как и органы чувств самого исследователя, вносит в изучаемое явление какую-то свою ошибку. Но чем дальше движется общество по пути прогресса, тем ближе к истине приближаются и наши знания. Однако, как бы близко ни подошли мы к ней, какие бы сверхтонкие приборы ни окружали исследователя, его главной заповедью всегда будет:
доверяй, но проверяй!
И касаться она всегда будет и показаний самых точных приборов, и своих собственных наблюдений.
ИЗ ЗАПИСОК ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОГО АРХИВАРИУСА

Неплохая идея
Томас Эдисон обладал чувством юмора. Его многочисленные посетители нередко выражали своё удивление по поводу того, что дворовые ворота у него нелегко открываются. Кто-то из его приятелей сказал:
– Такой мастер, как ты, мог бы сконструировать не такие тугие ворота.
Эдисон засмеялся:
– Мои ворота очень хорошо сконструированы.
– Ты шутишь?
– Вовсе нет. Я соединил ворота с цистерной, что находится во дворе. Каждый мой посетитель автоматически накачивает в эту цистерну двадцать литров воды.