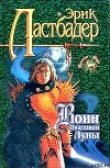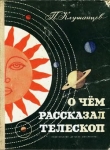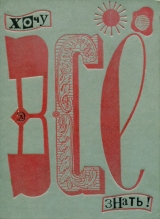
Текст книги "Хочу все знать 1970"
Автор книги: Николай Сладков
Соавторы: Борис Ляпунов,Евгений Брандис,Александр Кондратов,Павел Клушанцев,Алексей Антрушин,Тамара Шафрановская,Регина Ксенофонтова,Петр Капица,Анатолий Томилин,Александр Муранов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 31 страниц)
И. Квятковский
БЕССМЕРТНЫЙ КРЕЙСЕР
Не зря говорят про корабли, что они, как и люди, имеют свою судьбу. Их было три совершенно одинаковых крейсера, названных именами древних богинь: «Паллада», «Диана» и «Аврора». Но только ей одной – «Авроре» – было суждено бессмертие.
Её создали в Ленинграде. Сталь дали ижорцы, корпус построили на Ново-Адмиралтейском заводе, машины – на Франко-Русском. Десятки предприятий нашего города поставили вооружение и оборудование для этого крейсера.
11 мая 1900 года корабль торжественно спустили на воду. Так «Аврора» оказалась ровесницей XX века, века техники и грандиозных событий. И никто не сможет упрекнуть её в том, что она оказалась недостойной своего времени.
Иной военный корабль плавает десятилетия, не сделав ни одного выстрела по противнику.
Иначе сложилась биография «Авроры». Едва вступив в строй боевых кораблей Балтийского флота, она пошла навстречу врагу. Началась русско-японская война. На Балтике сформировали Вторую тихоокеанскую эскадру, в состав которой вошла «Аврора».
По тем временам это был сильный крейсер. Его артиллерия состояла из восьми 152-миллиметровых орудий и 24 пушек калибром 75 мм, водоизмещение корабля превышало 6700 т. Три машины общей мощностью 11610 л. с.обеспечивали полный ход в 20 узлов, то есть около 37,2 км/час. Экипаж состоял из 550 матросов и 20 офицеров.
Русским морякам предстоял длинный и трудный путь. Они должны были пройти Атлантический океан, обогнуть Африку, пройти Индийский океан, Южно-Китайское море и прорваться во Владивосток. На всём этом длиннейшем пути Россия не имела ни одной собственной базы, где бы корабли могли пополнить запасы угля, провизии, пресной воды или произвести какой-либо ремонт. Полный запас угля на «Авроре» позволял ей идти без захода в порты около 4000 миль. Англия относилась к Японии дружественно, и под английским влиянием ряд иностранных государств не только отказал русским кораблям в помощи, но даже запретил вход в их порты. Вот почему вместе с боевыми кораблями шли буксирные, госпитальные и транспортные суда с углем, провизией, пресной водой и даже пароход-мастерская «Камчатка».
Утром 12 мая 1905 года, когда до Корейского пролива оставались мили, над морем нависла мгла и моросил дождь. Раздувшийся вовсю зюйд-ост срывал гребни волн, превращая их в серую мокрую пыль.
Нашим морякам временами казалось, что «Аврора» на Балтике, а не в Южно-Китайском море, вблизи Японии. Погода вселяла надежду прорваться во Владивосток без боя. Но туман неожиданно растаял, и в далёкой дымке сигнальщик «Авроры» различил очертания какого-то судна. Это был японский разведчик, следивший за эскадрой. Прорыв не удался, и нашим морякам предстояла одна из величайших морских битв, вошедшая в историю под названием Цусимское сражение.
Раздался сигнал боевой тревоги. Из-за гористого острова Котсу-Сима вышел японский крейсер «Идзуми», за ним шли и другие крейсера. Заговорили пушки «Авроры», и начался бой.

Бой закончился 14 мая 1905 года с заходом солнца. В ночь на 15 мая продолжались ночные атаки японских миноносцев.
«Аврора» героически выдержала неравные бои, которые она вела борт о борт с другими русскими крейсерами против противника, превосходившего их по численности и силе. Героизм русских матросов и офицеров, мастерство командира крейсера спасли корабль, но сам командир капитан I ранга Евгений Романович Егорьев, смертельно раненный в голову, погиб. В музее «Авроры» вы можете увидеть его портрет, оправленный в пробитый снарядом металл и раму из обгоревших палубных досок.

После русско-японской войны крейсер возвратился на Балтику.
В декабре 1908 года в итальянском городе Мессина, расположенном у подножия вулкана Этна, произошло сильнейшее землетрясение. Оно разрушило город и под обломками зданий заживо погребло десятки тысяч людей. В тот день на рейде у берегов Сицилии стояла эскадра русских военных кораблей. Получив известие о несчастье, эскадра снялась с якоря и пошла в Мессину. Шлюпки, спущенные со всех русских кораблей, устремились к берегу. Русские моряки разбирали руины и вытаскивали людей. В первый же день было спасено более тысячи мессинцев. На берегу моряки организовали перевязочный и питательный пункты. Спасательные работы длились около двух недель, в течение которых удалось спасти огромное количество жителей пострадавшего города.
В 1911 году «Аврора» по приглашению муниципалитета Мессины пришла в порт и приняла адрес и золотую медаль – знаки благодарности за помощь, оказанную городу русскими моряками.
Большевистская партия давно вела подпольную революционную работу на кораблях Балтийского флота, укрепляла связи с военными моряками, призывала их на борьбу. Немало матросов-большевиков служило на «Авроре»: радиотелеграфист Богданов, машинист Усов, сверхсрочник Лимонов. Большевики вели пропаганду среди матросов, распространяли большевистские листовки и прокламации.

Новый революционный подъём, нараставший в строю, чувствовался не только на «Авроре». На линейных кораблях «Слава», «Цесаревич», «Император Павел I», «Андрей Первозванный» и других большевики действовали особенно активно. Многие из них были осуждены, и среди осуждённых немало матросов «Авроры» приговорено к ссылке. Вместо них приходили другие, и революционная работа продолжалась. В 1912 году начал службу на крейсере машинист Пётр Курков, ещё до призыва во флот связанный с большевиками. Впоследствии он стал одним из руководителей Советского Военно-Морского Флота. Перед началом первой мировой войны прибыло много революционно настроенных матросов-новобранцев, которые впоследствии стали активными участниками великих революционных событий в нашей стране. Среди них был и Александр Белышев, будущий первый комиссар «Авроры».

В годы первой мировой войны крейсер вновь становится боевым кораблём. Он охраняет подступы к Финскому заливу, ведёт разведку, несёт боевой дозор, обеспечивает минные постановки.
В ноябре 1916 года крейсер «Аврора» после двухлетнего пребывания на передовых позициях в Балтике пришёл в Петроград и стал на капитальный ремонт у Франко-Русского, ныне Адмиралтейского, завода. Общение с рабочими-большевиками этого завода, постоянная связь с Петроградским комитетом РСДРП(б) подготовили команду корабля к активным революционным действиям.
Приближалась Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 года.
26 февраля 1917 года в Петрограде вспыхнули политическая стачка и демонстрация, которые переросли в восстание.
К восставшим присоединились части армии и флота. В ночь на 1 марта поднялся Кронштадт. 3 марта к восставшему Петрограду присоединились все корабли в Гельсингфорсе.
Самодержавие пало. Был создан Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов. Одновременно буржуазия образовала Временное правительство. В стране установилось двоевластие.
Весть о победе революции вызвала у матросов «Авроры» огромный революционный подъём. В этот день они захватили корабль. На «Авроре», как и на броненосце «Потёмкин» в 1905 году, на мачте полыхал красный флаг.
1 марта 1917 года на крейсере «Аврора» был избран судовой комитет в составе девяти человек. Но влияние большевиков на крейсере было ещё слабым. Только два человека из состава комитета вступили в большевистскую партию, остальные впоследствии примкнули к меньшевикам, эсерам и анархистам.
12 мая 1917 года на Франко-Русский завод, где стояла на ремонте «Аврора», приехал Ленин. Его речь произвела на матросов и рабочих огромное впечатление.
Росту политической сознательности команды крейсера помогала работа, которую вела среди матросов петроградская большевистская организация. Влияние большевиков на «Авроре» непрерывно росло. Более трёхсот авроровцев участвовали в июльской демонстрации 1917 года и у особняка Кшесинской, где помещался Центральный Комитет большевиков, слушали выступление В. И. Ленина.

В начале сентября 1917 года команда крейсера произвела перевыборы судового комитета. На этот раз в него вошли в основном большевики. Председателем единогласно был избран машинист А. В. Белышев. 25 сентября 1917 года в Гельсингфорсе на яхте «Полярная звезда» открылся II съезд моряков Балтийского флота. Съезд высказался за переход власти к Советам и выразил недоверие Временному правительству. Было подтверждено решение Центробалта не выполнять его приказы и распоряжения.
Это решение съезда моряков встретило единодушную поддержку авроровцев. К Великой Октябрьской революции матросы «Авроры» были уже политически зрелыми людьми.
Стремясь разобщить силы революции, Временное правительство 22 октября отдало распоряжение развести основные мосты через Неву и этим разобщить районы города. Однако красногвардейцы и революционные солдаты успели взять их под охрану. Юнкерам удалось захватить и развести только Дворцовый и Николаевский мосты. На «Авроре» было получено предписание всеми имеющимися на крейсере средствами восстановить движение по Николаевскому мосту (теперь мост Лейтенанта Шмидта).
Комиссар А. В. Белышев сообщил об этом распоряжении командиру крейсера Н. А. Эриксону и сразу же собрал судовой комитет, который постановил вывести корабль к мосту и высадить на него десант. Командир корабля отказался выводить крейсер, ссылаясь на неизвестные и, возможно, слишком маленькие глубины. Тогда комиссар корабля приказал измерить глубины на участке реки между заводом и мостом. Вскоре от борта корабля отвалила шлюпка. Через полтора часа выяснилось, что глубины свободно позволяют крейсеру подойти к мосту. Но даже после этого командир отказался вести корабль.
Тогда комиссар поставил часовых у салона, в котором находились офицеры, и приказал никого из них не выпускать. Команда готовилась самостоятельно вести корабль. Только в последний момент, когда начали работать машины, командир поднялся на мостик и начал командовать.
В 3 часа 30 минут утра 25 октября 1917 года загрохотала якорная цепь «Авроры», и крейсер встал у Николаевского моста. Спущенные на воду шлюпки доставили на берег десант, который устремился к мосту вместе с матросами второго Балтийского экипажа. Юнкера, охранявшие мост, бежали. Судовые электрики быстро включили механизм разводной части и сомкнули пролёты.
Красногвардейские и солдатские отряды двинулись с Васильевского острова. Днём 25 октября в Неву вошёл минный заградитель «Амур», эскадренные миноносцы «Самсон» и «Забияка» и многие другие корабли.
А в Морском канале встал на якорь линкор «Заря Свободы» (бывший броненосец «Император Александр II»). Его пушки держали под прицелом станцию Лигово. В случае наступления контрреволюционных войск линкор должен был обстрелять Лиговский железнодорожный узел.
К 10 часам утра 25 октября 1917 года Петроград фактически находился в руках восставших. Уже были заняты вокзалы, главный почтамт, центральный телеграф и центральная электростанция. Только в Зимнем дворце ещё укрывалось Временное правительство.
В тот же день 25 октября 1917 года радиостанция «Авроры» передала ленинское воззвание «К гражданам России», возвестив о победе пролетариата. И сегодня на бронзовой пластине у входа в радиорубку корабля можно прочесть чеканные слова: «Первой радиостанцией на службе пролетарской революции была радиостанция крейсера „Аврора“».

Станция была установлена в ноябре 1916 года вместо устаревшей французской аппаратуры. Она передавала отчётливые тональные звуки и позволяла гораздо точнее выдерживать длину волны. Вот почему «Аврора» смогла оповестить мир о победе Великой Октябрьской социалистической революции в России. Её передача была принята не только радиостанциями нашей Родины, но и Эйфелевой башней Парижа, и другими радиостанциями мира.

Оставалось покончить с Временным правительством. Несмотря на ультиматум, его министры, укрывшиеся в Зимнем под охраной юнкеров, казаков и роты женского ударного батальона, отказались сдаться. 25 октября 1917 года в 21 час 45 минут на мачте кронверка Петропавловской крепости показался красный огонь. Сразу же раздалась команда комиссара А. В. Белышева, и комендор Е. П. Огнев выстрелил холостым зарядом из носового орудия. Цепи красногвардейцев, солдат и матросов ринулись в атаку. Среди них был отряд авроровцев. В ночь с 25 на 26 октября 1917 года в 2 часа 10 минут Временное буржуазное правительство пало.

Весной 1921 года X съезд партии принял решение о восстановлении Рабоче-Крестьянского Флота, и осенью 1922 года специальная комиссия начала приёмку «Авроры». Командиром крейсера Советская власть назначила военного специалиста Льва Андреевича Поленова, служившего на нём мичманом ещё в царское время.

В июне 1924 года «Аврора» ушла в первое океанское плавание; впоследствии такие плавания стали традицией. Было что-то символичное в том, что именно этот крейсер, а не какой-нибудь другой корабль вышел в Атлантику. Это был не просто первый учебный поход, а первый после создания пролетарского государства выход советского военного корабля, свидетельство существования советского Военно-Морского Флота.
СНОВА ЗА РОДИНУ
Началась Великая Отечественная война. Гусеницы фашистских танков скрежетали по нашей земле, волна за волной летели самолёты со свастикой на крыльях. Они сбрасывали бомбы на военные корабли и жилые дома с одинаковой методичностью и жестокостью. Фашисты захватили Таллин, за ним пала Нарва.
Гитлеровские войска заняли оба берега Финского залива, корабли ушли в Неву, в Кронштадтскую гавань, флот оказался взаперти. Корабли сражались, стоя на месте. Только подводные лодки умудрялись пробираться сквозь немецкие минные поля в Финском заливе и, выйдя на просторы Балтики, топили корабли противника.
Фашисты рвались к Ленинграду, клином они врезались в наши позиции в районе Петергоф – Стрельна, пытаясь на воде замкнуть кольцо блокады и задушить Ленинград. Но моряки Балтийского флота сражались не на жизнь, а на смерть.

В это время «Аврора» стояла в Ораниенбаумской гавани и отбивалась от атак фашистских самолётов с помощью счетверённых пулемётов. На ней было очень мало матросов, всего лишь 15—20 человек, и в иные минуты было невыносимо трудно постоять за корабль. Но решительные и умные действия матросов не только сохранили жизнь «Авроре», но и облегчили её восстановление, когда пришло время.
24 августа 1944 года исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся принял решение установить краснознамённый крейсер «Аврора» навечно у Петроградской набережной Большой Невки.
В октябре 1948 года, после окончания дноуглубительных работ, крейсер занял своё место и стал учебной базой Нахимовского училища.

В 1956 году на «Авроре» создали филиал Центрального военно-морского музея. В нём собрано много интересных фотографий, моделей, предметов и различных подлинных документов, рассказывающих о революционной деятельности балтийских моряков, жизни и боевой учёбе экипажа «Авроры» и её истории. На корме корабля развевается военно-морской флаг СССР с изображением двух орденов. Орденом Боевого Красного Знамени «Аврора» была награждена в 1927 году в связи с десятилетием Октября. 22 февраля 1968 года, в связи с 50-летием Вооружённых сил СССР, правительство наградило крейсер орденом Октябрьской Революции.

Тяжела и завидна слава «Авроры». Четыре войны с жестокими боями прошёл этот корабль. Враг наносил ему тяжёлые раны, но не мог поразить его.
Подлинное бессмертие крейсер обрёл в 1917 году. Для нас «Аврора» – памятник Великой Октябрьской революции, участник и свидетель грандиозных событий, открывших человечеству новую эру.
ИЗ ЗАПИСОК ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОГО АРХИВАРИУСА

Бутылочный клуб
В Австралии существует Международный бутылочный клуб, члены которого переписываются друг с другом с помощью «бутылочной почты». Основал клуб житель Сиднея Эдуард Бейли в 1926 году.
Однажды он проплыл морем от Британской Колумбии до Австралии, бросив в океан пятьдесят бутылок с письмами следующего содержания: «Нашедшего эту бутылку прошу написать мне в Сидней». И указал адрес. Бейли получил 22 ответа из разных концов света.
В клубе хранится коллекция особенно «заслуженных» бутылок. Одна из них, например, приплыла из Австралии в Сан-Франциско, где её вскрыли, вложили ответ и снова бросили в море. Затем бутылку подобрали у берегов Перу в Южной Америке. Уже с третьим письмом она отправилась дальше на юг, обогнула мыс Горн и вернулась к берегам Северной Америки, в Калифорнию.
Оранжерея под землёй
Население земного шара каждый год увеличивается более чем на 50 миллионов человек. В 2000 году на нашей планете будет уже шесть миллиардов людей.
Перед человечеством всё острее становится проблема продуктов питания. Для того, чтобы накормить такое огромное количество людей, нужно будет превратить все неосвоенные земли в житницы и цветущие сады. Но и этого может не хватить.
На помощь придёт подземное земледелие. В многоярусных подземных тоннелях с огромными залами будут расти овощи и хлебные злаки. Мощные искусственные «солнца» будут заливать их ярким светом. Подогрев же воздуха в подземных оранжереях и теплицах будет осуществляться за счёт внутреннего тепла Земли. За ростом растений будут следить автоматические приборы. В подземельях растениям не страшны суховеи и бури, заморозки и засухи, град и грозы.
Евг. Брандис
У ИСТОКОВ ПОЭТИЧЕСКОЙ ЛЕНИНИАНЫ
Как сейчас помню газету с портретом Ленина в чёрной рамке, завывание гудков, костры на улицах. Я учился тогда в первом классе. В один из траурных дней, в лютый мороз, нас повели всей школой по московским бульварам и впустили без очереди в Колонный зал. Всюду были еловые ветви и венки, увитые лентами. Пахло хвоей, как летом в лесу. Казалось, Ленин только заснул, вот-вот прищурится и откроет глаза… У изголовья стояла согбенная Надежда Константиновна и поодаль – Михаил Иванович Калинин, ещё не такой старый, как на поздних снимках.
В третьем классе нам выдали учебник по обществоведению. Помню изображение дощатого Мавзолея (я видел, как его строили на Красной площади) и подборку стихов о Ленине.
Сколько раз потом на школьных вечерах произносились незабываемые строки Александра Жарова:
Не кипучий смерч землетрясений
Мир хлестнул неудержимым шквалом…
Это весть о том,
Что умер Ленин,
Весть о том,
Что Ленина
Не стало…
Солнце, стой!
Эх, солнце, сделай милость:
Подожди лучом в снегах звучать!
Ты не знаешь, что остановилось
Огненное сердце Ильича?!
Никогда уж больше не прольются
Искры слов, взметнувшие пожар.
От горящей домны революций
Отошёл великий кочегар!
И в полях, где голос в песне звонок
И широк лихой, просторный зык,
Видел я:
Заплакал, как ребёнок,
Никогда не плакавший мужик.
С такой же покоряющей силой, но в ином поэтическом ключе, выразил свои чувства Николай Полетаев:
Портретов Ленина не видно:
Похожих не было и нет.
Века уж дорисуют, видно,
Недорисованный портрет.
Перо, резец и кисть не в силах
Весь мир огромный охватить,
Который бьётся в этих жилах
И в этой голове кипит.
Глаза и мысль нерасторжимы,
А кто так мыслию богат,
Чтоб передать непостижимый,
Века пронизывающий взгляд?
Но, пожалуй, ещё сильнее волновали детскую душу печальные стихи Веры Инбер, потому что её описание «пяти ночей и дней» в точности соответствовало виденному и пережитому в январе 1924 года:
И прежде, чем укрыть в могиле
Навеки от живых людей,
В Колонном зале положили
Его на пять ночей и дней…
И потекли людские толпы,
Неся знамёна впереди,
Чтобы взглянуть на профиль жёлтый
И красный орден на груди.
Текли. А стужа над Москвою
Такая лютая была,
Как будто он унёс с собою
Частицу нашего тепла.
И пять ночей в Москве не спали
Из-за того, что он уснул.
И был торжественно печален
Луны почётный караул.
Взрослея, мы увлекались «Партбилетом» Безыменского, поэмой Маяковского «Владимир Ильич Ленин», «Высокой болезнью» Бориса Пастернака.

Ещё при жизни Владимира Ильича начала создаваться мировая поэтическая Лениниана. Несмотря на то, что Ленин пресекал всякие попытки отмечать его личные заслуги и запретил официальные торжества по случаю своего пятидесятилетия, поэты разных стран посвящали ему вдохновенные стихи.
Демьян Бедный призывал в своём «Истинном привете» доказывать преданность ленинским идеям не на словах, а на деле:
Друзья, приветствуя сегодня Ильича,
Ответной похвалы лишь будет тот достоин,
Кто тяжким молотом (не языком) стуча,
Спасает наш корабль от тысячи пробоин.
В 1920 году появилась проникнутая духом интернационализма поэма Николая Тихонова «Сами», немедленно получившая признание и переведённая на многие языки.
Злой сагиб-англичанин больно бьёт стэком маленького слугу-индийца, не прощая ни малейшей оплошности:
– Ты рождён, чтобы быть послушным,
Греть мне воду, вставая рано,
Бегать с почтой, следить за конюшней,
Я властитель твой, обезьяна.
Но Сами, узнав о существовании человека, который освободил свой народ от сагибов, гордо выпрямляет спину:
– Тот, далёкий, живёт за снегами,
Что к небу ведут, как ступени,
В городе с большими домами,
И зовут его люди – Ленни…
…Во время длительной болезни Владимира Ильича тревога потерять его сменялась надеждами на выздоровление.
Ранним утром счастливые вести
Мне газеты опять принесли,
И о том, что волненья в Триесте,
И о том, что здоров Ильич, —
писал совсем ещё юный Михаил Светлов. К этому периоду относится и стихотворение Маяковского «Бюллетень», с найденной раз и навсегда поражающе точной метафорой:
Вечно будет Ленинское сердце
Клокотать
у революции в груди.
Из произведений, написанных до роковой вести о смерти Ленина, можно было бы составить не одну антологию. Но это лишь первая страница в истории поэтической Ленинианы. Её продолжение – бесчисленные стихи и поэмы, созданные в нашей стране и за рубежом в дни всенародного траура 23—26 января 1924 года и в последующие за скорбным событием месяцы.
Поэтический поток был неиссякаем, как и людские толпы, стекавшиеся к гробу Ленина. Это была поистине массовая поэзия. В создании её участвовали не только известные поэты и начинающие литераторы, но и рабочие, крестьяне, красноармейцы, чьи безыскусственные, зачастую не очень грамотные стихи были продиктованы теми же чувствами, что и произведения, которыми мы вправе гордиться.
Не случайно этот очерк начинается с детских воспоминаний. В преддверии столетней годовщины захотелось оглянуться в прошлое, проверить свои давние впечатления, прочитать сегодняшними глазами раннюю поэтическую Лениниану. Зная, что материал необъятный, я решил ограничиться стихами русских поэтов.
В Публичной библиотеке сразу же удалось установить, что нет необходимости рыться в старых газетах и журналах: в 1924—1925 годах, на протяжении приблизительно полутора лет, в нашей стране было издано не менее пятнадцати литературно-художественных ленинских сборников. Выходили они в разных городах, по инициативе партийных, профсоюзных и литературных организаций. Некоторые раздавались бесплатно (на обложке стояло: «Без цены»), доход от других поступал «в фонд памятника Ильичу», на строительство школ, общежитий или в помощь учащимся.
Составители сборников старались отобрать из периодической печати все самое характерное и заслуживающее внимания. В них представлены чуть ли не все активно действовавшие советские поэты того времени: Н. Асеев, А. Безыменский, Д. Бедный, В. Брюсов, С. Есенин, А. Жаров, В. Инбер, В. Маяковский, Н. Полетаев, М. Светлов, Н. Тихонов, И. Уткин и многие, многие другие.
В предисловиях подчёркивалось, что это лишь первые робкие шаги на пути увековечения всемирно-исторического подвига Ленина средствами поэтического слова.
«Ленин-Ильич найдёт самое многогранное отражение в нашей литературе, поэзии в частности, – читаем мы во вступительном слове к сборнику, изданному в Иркутске в 1924 году. – Как в странах угнетённого человечества о Ленине будут создаваться легенды (они уже есть и теперь), так и в нашей литературе художественное творчество отдаст всё лучшее для воплощения образа Ильича, Ленина».
Но и тогда уже было сделано немало.
«Если бы сейчас, – заметил Илья Садофьев в предисловии к ленинградскому сборнику – собрать всё написанное современными поэтами о жизни и смерти любимого Ильича, – перед читателем появилась бы многотомная эпопея, простого и великого ленинского пути».

А вот ещё одна выдержка – из введения к сборнику, появившемуся в городе Вятке (теперь Киров): «Ни одна эпоха не нашла такого яркого выражения своей сущности в одном человеке так, как наша эпоха в Ленине. О нём написаны тысячи книг и десятки тысяч стихов. У нас в Союзе нет ни одного рабоче-крестьянского поэта, не написавшего о Ленине ни одного стихотворения, не посвятившего ему того или иного художественного произведения. Имя Ленина окружено уже прекрасным поэтическим венком».
Не забудьте, это было сказано в 1925 году.
Лучшие стихи, ставшие хрестоматийными, повторяются почти во всех сборниках в окружении менее значительных, преходящих, а то и вовсе неудачных поэтических опытов, которые, как это ни странно, на общем фоне не выглядят неуместными, благодаря неподдельной искренности и естественной силе чувств.
Всё это, вместе взятое, создаёт волнующий эмоциональный накал, содержит драгоценные приметы времени, многозначительные исторические подробности.

Известен, например, такой факт. При прощании в Горках, перед тем как тело Владимира Ильича было отправлено специальным поездом в Москву, управляющий делами Совнаркома Н. П. Горбунов снял с себя орден Красного Знамени и прикрепил к гимнастёрке Ленина.
С орденом Красного Знамени на груди Ленин лежал потом в Колонном зале.
Слухи о человеке, совершившем по велению сердца этот необыкновенный поступок, претворились в легенду. В сборнике ростовских писателей мы находим стихотворение Н. Щуклина, в котором инвалид, прошедший все фронты, будёновец, краснознаменец, задержавшись в Колонном зале у гроба,
Сурово обвёл глазами
Белый задумчивый лоб.
А потом…
Надо было спешить.
Притвориться спокойным,
Каменным, —
Потом инвалид положил Ильичу
Орден Красного Знамени.
Среди многих стихов безвестных авторов выделяется поэтической свежестью и редкой для того времени конкретностью образов стихотворение в прозе Марии Озерных «Умер!», напечатанное в сборнике Иркутского литературного объединения. Эта вещь кажется мне незаслуженно забытой. Судите сами.
«– Умер Ильич! Умер Ильич! – протяжно, скорбно и безысходно выли сирены – в один и тот же миг, в один и тот же час по всей необъятной шири СССР.
– Умер Ильич! – стонуще-резко, пронзительно кричали остановленные в пути паровозы, остановившиеся машины и аппараты, – замершие от горя, остановившие своё движение – в единственную в истории мира, неповторимо скорбную минуту.
– Умер Ильич! – никли к земле отягченные снегом старые ели и сосны, спрятанные в самой глубине суровой сибирской тайги…
– Умер Ильич! – скорбным стоном однозвучно прошло во всей Великой Республике Труда…»
Говоря о «приметах времени», следует ещё раз напомнить о «Партбилете № 224332» Александра Безыменского. Этому стихотворению, с его эффектным зачином:
Весь мир грабастают рабочие ручищи,
Всю землю щупают, – в руках чего-то нет…
– Скажи мне, Партия, скажи, чего ты ищешь?
И голос скорбный мне ответил:
– Партбилет…
и бьющей прямо в цель концовкой:
Пройдут лишь месяцы – сто тысяч партбилетов
Заменят ленинский потерянный билет, —
суждено было занять почётное место в поэтической Лениниане. Всякий раз когда с эстрады звучал «Партбилет» Безыменского, в зале стояла напряжённая тишина, а потом долго не смолкали аплодисменты.
«Новым коммунистам (ленинскому призыву)» посвятил стихи и Демьян Бедный, сумевший выразить в сжатой форме то главное, что определяло в те дни идеологическую линию партии:
Нет Ленина, но жив рабочий класс,
И в нём живёт – вождя бессмертный гений.
Говоря о «приметах времени», хочется также вспомнить стихи Сергея Есенина.
Его уж нет!
А те, кто вживе,
А те, кого оставил он,
Страну в бушующем разливе
Должны заковывать в бетон.
Для них не скажешь:
«Ленин умер!»
Их смерть к тоске не привела.
Ещё суровей и угрюмей
Они творят его дела.
Поэтов разных направлений объединяло и сплачивало в те дни одинаковое отношение к роли и личности Владимира Ильича.
Удивительно созвучен ленинским стихам 1924 года яркий публицистический очерк Михаила Кольцова «Человек из будущего», перепечатанный в одном из сборников.
«Ленин среди нас, коммунистов, – писал Кольцов, – действительно, может быть, единственный человек оттуда, из будущего. Мы все по уши в повседневном строительстве и борьбе, он же, крепко попирая ногами обломки старого, строя руками будущее, ушёл далеко вверх, в радостные дни грядущего мира и никогда от них не отрывался… Безупречный воин за мировую справедливость, человек из будущего, посланный заложником грядущего коммунистического мира в нашу вздыбленную эпоху угнетения и рабства – вот звание, категорически признанное обоими лагерями классово-воюющего человечества за Владимиром Ильичём, при жизни его, на пятьдесят четвёртом году».

Именно так: как великого революционера, чей приход подготовлен многовековой историей классовых битв и чья короткая во времени деятельность будет иметь неисчислимые последствия для человечества, – осознают поэты историческую миссию Ленина.
Хорошо и просто сказал об этом Михаил Герасимов:
Его шагов стальную силу
Ковали долгие века.
Валерий Брюсов, поэт-символист, безоговорочно принявший Советскую власть, развивает ту же мысль в привычной для него системе отвлёченно-гиперболических образов:
Товарищи! Но кто был он?
Воль миллионных воплощенье!
Веков закрученный циклон!
Надежд земных осуществленье!
В стихотворении «Эра», говоря о «земном Вожатом народных воль, кем изменён путь человечества, кем сжаты волны веков, волны времён», Брюсов предрекает космические вселенские масштабы распространения ленинизма. Придёт время, когда люди передадут учение Ленина жителям других населённых миров:
Земля! Зелёная планета,
Ничтожный шар в семье планет.
Твоё величье – имя это,
Меж слав твоих – прекрасней нет!
Он умер; был одно мгновенье
В веках; но дел его объём
Превысил жизнь, и откровенья
Его – мирам мы понесём.
Пётр Орешин, принадлежавший к группе крестьянских поэтов, посвящает В. И. Ленину стихотворение «Через сто лет», которое иначе не назовёшь, как научно-фантастическим:
Не узнать родной моей столицы:
Мост висячий, в небе провода,
Над Кремлём – серебряные птицы,
За Кремлём – трамвайная звезда.
Под Москвой – стеклянные туннели,
Поезда – как вольные стрижи.
Вся земля пьяна железным хмелем,
Спят в железе зданий этажи.
Город весь захлёбывался светом,
Весь горел под радугой реклам.
С тёмных башен падали ракеты
И фонтаны пели по садам…
Нечего и говорить, что нарисованная поэтом картина будущей преображённой Москвы теперь не только не поражает, но выглядит несколько обеднённой. Действительность во многом превзошла смелые, как казалось тогда, ожидания автора «Через сто лет».