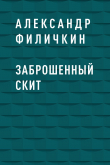Текст книги "Дикие рассказы"
Автор книги: Николай Хайтов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 11 страниц)
(Ока – старинная мера веса, равная 1283 граммам.)
– Ладно, – говорит фельдфебель, – отправляйся!
Я – ружье за спину и в путь. Иду и мозги выворачиваю, какую бы мне такую пакость сотворить. Овчарню поджечь – за овец душа болит. Дом подпалить– чего доброго, и жена сгорит. Хлеб уже смолочен, так что и хлеб не сожжешь. И решил я тогда пасеку раскидать.
Пришел я в село ночью, прирезал двух коз, освежевал, сделал два меха, наполнил водой. Оседлал коня и отправился на пчельник. Пять-шесть ульев залил, повыбрал оттуда соты, а остальное покидал с обрыва. Покончив с этим делом, ускакал прочь – никто не видал, никто не слыхал. Но на полпути я призадумался, а что проку, что я стариковы ульи в речку покидал, коль он не узнает, кто ему этот гостинец поднес? Поворотил я назад, встал в стременах перед его воротами и крикнул:
– А ну-ка, выйди, дед Ангелачко, выйди, я скажу тебе, почем нынче оплеухи!
Двух дней не прошло, засадили меня в гарнизонную тюрьму за решетку, а там и войне конец. Из нашей третьей роты сорок первого резервного батальона ни один человек назад не пришел! Кабы не тестевы оплеухи, быть бы и мне среди «почивших в бозе героев».
После войны пересилила вторая моя судьба – добрая. Отец надумал поделить нас с братом и дал мне овец – тридцать голов. Поскольку был я «ран-ник», то овцы достались мне какие похуже, все больше яловые. Я взял их да продал. Попас, подкормил немного и сбыл одному барышнику из Греции, Адилом его звали. Часть Фракии, что у моря, у нас отняли, но границу особенно не стерегли, переходить было дело плевое. Адил скупал овец на нашей стороне, потому что у них в те годы голод был. По золотому за овцу платил! Получил я тридцать золотых и думаю: а не отправиться ли мне в Петвар. либо в Оси-ково, там небось за один золотой четырех овец отдают! Переправлю их через границу моему барышнику и за свои тридцать сто двадцать золотых возьму! Неужто мне век в дураках ходить? Бочонок вина пограничной страже, жареного барашка – и дело сладилось. Границу-то не больно стерегли, переходи сколько хошь, не как теперь.
Сбыл я сто двадцать овец, сотню золотых сразу получил на руки, а остальные Адил принес мне домой в Катраницу, как говорится, самолично. Честная душа! Через кордон пробирался, на риск шел, только бы мне деньги в срок отдать. Я на эти деньги еще овец купил, перегнал на ту сторону, продал и так покупал и продавал еще много раз, покуда не скопилось у меня полтыщи золотых лир! Коли у тебя никогда враз по полтыщи не бывало, могу рассказать тебе, что это значит – такие деньги иметь! По земле иначе ступаешь, откашливаешься и то иначе, долго этак, басовито, и пока ты прочищаешь горло, все стоят, молчат и слушают. А ты неторопливо откашляешься и пойдешь себе дальше, тоже неторопливо, вроде, мол, шагать тебе неохота, а охота перешагивать через все: через людей, скотину, дома, через горы даже! Вот что оно такое – полтыщи лир! А главное дело, каждый золотой так и подзуживает положить в карман второй! Их у тебя пять сотен, а тебе тыщу подавай! Вот я и взялся из пяти сотен тыщу сделать. Уговорились мы с Адилом, что пригоню я ему еще тыщу овец: трижды по триста тридцать голов. Разослал я во все концы скупщиков, нанял чабанов. Сколько барашков было скормлено, сколько подарков роздано, но точно в срок, как уговаривались, первая отара была переправлена через границу, на другую ночь – вторая, на третью – третья. Это мы нарочно так уговорились – по частям, а сам я чтобы прибыл с последней отарой, тогда, мол, и получу свои лиры. Прибыл я. Адил уже дожидается.
– Аида, – говорит, – друг, со мной в Скечу (тогда Ксанти так называлось). Аида, там мы с тобой разочтемся, а то здесь всякий народ шатается, так что боязно мне было такие деньги с собой возить.
Сели мы на коней – ив путь. Подъезжаем к Аз-маку, откуда дорога на Габриште отклоняется, Адил и говорит:
– Вот тебе повод, подержи моего коня, а я схожу по нужде, – говорит, – подожди немножко.
Жду немножко, жду множко, а моего Адила нет и нет. Принялся звать – никто не отзывается. Стал в лесу искать – может, худо ему сделалось, а его и нет нигде. Понял я тогда, какую шутку сыграл со мной мой разлюбезный Адил, и поскакал что было духу назад, отару хотя бы повернуть. Какое там! Не только овец, хвоста овечьего не нашел. А поскольку дело-то было контрабандное, то ни к грзкам, ни к болгарам – ни к кому с жалобой не сунешься. Застал я на месте только одного чабана – дожидался меня Тодор из Широкой Лыки, чтобы в обратный путь вместе двинуться.
– Тодор, – говорю ему, – у тебя посох какой?
– Кизиловый, – говорит.
– Коли, – говорю, – кизиловый, то я лягу, а ты колоти. А зачем и почему, не спрашивай. Колоти, – говорю, – ^не то не видать тебе от меня ни гроша!
Десять раз вытянул меня Тодор своим пастушьим посохом, а потом сели мы на коней и вернулись восвояси. Принялся я слезы лить – не текут слезы, принялся пить – ни вино меня не берет, ни ракия… «Беда, – говорю я себе, – > ох, беда!..» И того не ведал, что эта беда еще не беда, что самая-то беда впереди. На другой день прибыли в село пристав Перпе-лан с двумя стражниками из Девлена и прямиком к нам в дом. Ни «здрасте», ни «добрый день».
– Именем закона, ты арестован! – А стражникам велит: – Вяжите его!
– Да почему такое? За что?
– Шагай и не спрашивай!
Пригнали меня в участок, и началось следствие:
_ Какие у тебя дела со шпионом? Говори!
_ Ты что, обалдел? С каким таким шпионом?
Знать не знаю никаких шпионов.
Заиграли они "дубинками, и мало-помалу уразумел я: этот самый Адил, с которым мы в моем доме пили, ели и торговлей занимались, на самом-то деле шпионом был. Так что он не только обчистил меня, но еще под монастырь подвел. Я клялся, божился, что ведать ничего не ведаю, да разве поверят? Из участка в участок, от одного жандарма к другому, от другого к третьему, пока не очутился я опять под замком, один-одинешенек. Судили меня и присудили расстрел. И как пить дать, отправили бы меня на тот свет, кабы не поймали Адила. Разобралися тогда, что к чему, и выпустили меня из тюрьмы.
С той поры я берусь отличить, кто родился: самец или самочка, козленок или барашек, хилый или здоровый, но лиха от добра не отличаю. И не берусь, и не суюсь.
Год… не то год, не то два тому, не скажу, приходит сын мой, Ангелачко, и говорит:
– Отец, а отец, приглядел я себе в Кричиме хорошую девушку. Как думаешь, жениться мне?
– А ты, – спрашиваю, – с чего взял, что хорошая она?
– Так видать ведь.
– Кабы, сынок, с одного виденья понять можно было, что хорошо, а что худо, я бы сейчас в окружных начальниках ходил. В лес, в партизаны в свое время подался бы… Но тогда за лесом не разглядеть было, что к добру, а что на беду.
Так или иначе, женился мой Ангелачко на той девушке, и зажили они припеваючи. Он по каменотес-ному делу немалые деньги получал, но ведь деньгами никогда не насытишься; взбрело ему определить жену в город, в телефонистки. Тому-другому подмазал и определил.
– Вот теперь, – говорит, – отец, чистая благодать. Дом, – говорит, – у нас новый, галдироб еще купить, и ничего мне больше не надо!
Он, значит, так предполагает, о телефонисточка по-своему располагает. Спуталась с телефонным начальником, а мой-то малый их и застань. Задал он ей хорошую трепку, она сбежала в родное село, а он с горя напился да и поджег дом, чтобы вышибить из памяти и дом и жену.
Люди жалеют нас. «Вот горе-то! Вот несчастье!» И слышу, толкуют меж собой: «Постарел, – говорят, – Милю, из ума выживать стал, вон сидит, улыбается как ни в чем не бывало. Господи, спаси и помилуй!» А я перебираю четки и в ус не дую, потому что знаю наперед: рано ли, поздно ли мутная вода стечет и опять побежит прозрачная!
И она побежала – да не из одного, из трех желобов разом! Как расчищали мы пожарище, то ковырнули старую кладку, еще от дедова дома, и нашли там в медном кувшине – как думаешь, что? – клад старого Ангелачко! Тридцать империалов австрийских и сотню лир!
Вот теперь ты мне и скажи, что к добру, а что во зло! Я и втолковываю моему Ангелачко: «Чудной этот мир, мудреный, и никогда наперед не узнать, что к добру, а что на беду».
ГОЛОВА ЕЛОВАЯ
Осерчал на нас церковный певчий. Батюшка, вишь, когда крестил или отпевал, не звал его, а плату, и певческую, и поповскую, себе в карман клал.
И вот на тебе, в петков день пришла одна тетка, просит молебен отслужить. Мы раз пробили в колокол, другой, а певчего нет как нет. А без певчего какая служба!
– Сходи, – посылает меня батюшка, – покличь Илию.
Иду к Илие.
Два раза в колокол звонили, чего не идешь?
Третьего раза дожидаешься? Батюшка без тебя службу начать не может!
– Пущай, – говорит, – один служит! Коль он мастак сам денежки получать, пущай сам и служит!
Что делать? В церкви народ ждет – не здешний народ, из города. Тут вспомнил я, что один из писарей у нас в сельсовете малость поет. В молодые годы на попа учился, да архиерей прознал, что он из красных, и отказался его рукоположить. Бегу к нему:
– Свечи горят, в колокола прозвонили, а службу начать нет возможности, потому певчий у нас забастовку объявил! Выручай!
– Нет, – говорит, – не могу!
– Почему не можешь?
– Начальство не велит! Бегу к председателю.
– Разреши, товарищ председатель. Приезжий народ у нас, нельзя осрамиться.
– Пускай идет! – говорит председатель. – Кто ему не велит!
– Пошли! – говорю я писарю. – Начальство разрешает!
– Это он сейчас разрешает, а потом голову с меня снимет. Охота была наживать неприятности!
Иду к батюшке – так, мол, и так, дело дрянь, службу придется отложить до завтра, а тем временем пошлю я записочку Маню Быкларову в горы, на пастбище, чтоб оставил своих овец и спустился в село. Малый он не шибко грамотный, но голосишко какой-никакой есть.
Согласился батюшка. Послал я записочку, и к вечеру Маню был уже в селе. Утром отслужили мы молебен, и я говорю батюшке:
– Раз певчий у нас блажит, давайте прогоним его и возьмем певчим Быкларова, а жену его старостой церковным сделаем.
– Не по мне это занятие, – говорит Быкларов. – Я порядка не знаю, еще не там вступлю.
– Коли ты из-за этого, – говорю я ему, – так я тебя научу, где вступать, небось не первый день в причетниках состою.
– А-а, тогда ладно! – согласился он.
Мы и назначили: жену его – старостой, его – певчим.
Месяца эдак через два подошло время луга церковные в аренду сдавать. Иду я к Быкларову и даю ему такой совет:
– Собери, Маню, попечителей и устрой ты на луга торг, может, тогда храму нашему перепадет лишний грош, а то народ стал не тот, коммунизм ему больше по душе пришелся, в церковь не ходят, даров не несут, так хоть за луга лишний лев выручим, а то на какие шиши храм божий содержать будем?
– Ты, – отвечает мне Быкларов, – знай себе звони в колокол, а в мои дела не суйся.
«Ах, так? – думаю я про себя. – Ну, ладно сам ломай себе голову!» И отступился. А он сладился с какими-то типами, получил с них денежки, а сколько получил и сколько батюшке отдал, одному богу известно.
Прихожу я однажды в церковь. А у меня такой обычай: беру свечки, зажигаю, а платить – плачу за все разом, когда ухожу. Так вот, подхожу я к свечному ящику и говорю Быкларову:
– Дай-ка свечек!
– Сколько тебе?
– Столько!
– Сперва, – говорит, – деньги, а потом уж свечи.
– Сейчас, – говорю, – старуха моя придет, тоже свечи ставить будет, так мы сложим ее расход и мой и, когда будем уходить, за все разом расплатимся.
– Нет, ты мне деньги давай! Для чего я тут поставленный?
– Я-то знаю для чего! Это ты не знаешь! Вынул я десять левов.
– На, держи!
Через какое-то время встречаю я его у магазина. Кто-то привез с личного участка лук-порей продавать, а Маню, зажав нос платочком, подходит к нему. Хотел, видно, луку купить, но увидел меня, лук бросил, ко мне подходит.
– Известно тебе, – говорит, – что все часовни взломаны и лампады в них переколоты?
– Да кто ж это мог все лампады переколоть?
– Ты знаешь кто! Беспременно знаешь, а прикрываешь их! Но это, – говорит, – их не спасет! Хоть под землей, а найду и в тюрьму запрячу!
– А чего тебе их искать, если я их знаю?
– Знаешь, знаешь, – шипит. – А известно тебе, что из часовни икону святого Димитрия унесли? Или это тебе тоже не известно?
Разговор этот у нас был перед обедом, а после обеда отправился он в совет, наплел председателю, что я украл икону святого Димитрия и продал какому-то посольству за шесть тысяч левов. В это самое время сидел в кабинете у председателя Каручел из автодорожного управления – приехал дорогу проверять, можно ли по ней автобусы пустить, – так что Каручев тоже про это услыхал. Очень это ему интересным показалось.
– Что за человек? – спрашивает председателя.
– Да так, – сказал тот, – баламут!
Поговорили они между собой и пошли в закусочную выпить. Маню как увидал их, решил, что он тоже из начальства, и подсел к ним. А Каручев, веселый человек, вздумал над Маню подшутить.
– Слушай, про какую икону у вас разговор шел? Большая она? Столько на столько будет? – и показывает, значит, сколько на сколько.
– Будет, – говорит Маню. – А что?
– А то, что сын у меня, – ¦ говорит Каручев, – ездил в город на промышленную выставку и видал – в одном посольстве на стенке точь-в-точь такая икона висит.
– Она это! – подскочил Быкларов. – Святого Димитрия! Она самая!
– Кто же знал! – заахал Каручев. – Мы же вполне могли поднять вопрос, и была бы икона сейчас на своем месте! А мне и в голову не пришло, что икона эта ваша!
Наплел Каручев от нечего делать с три короба, а неделю спустя является ко мне рассыльный из совета:
– Пошли, – говорит, – дядя Вранко, председатель вызывает.
– А кто там у него?
– Милиционер при портфеле.
Иду в сельсовет и впрямь вижу: сидят милиционер с председателем. Смекнул я, что будут они у меня про что-то выпытывать.
– Садись, дед! – говорит мне милиционер. Сажусь. Председатель помалкивает. Слово, значит, за милицией.
– Что нового слышно?
– У нас в селе, – говорю, – ничего не слышно.
– Ладно, выкладывай.
– Чего выкладывать?
Тут отворяется дверь и входит Быкларов. Милиционер к нему обращается:
– А ну, бай Маню, давай ты скажи!
– Об чем?
– Вот про деда Вранко скажи!
– А чего сказать-то? – отводит Маню глаза, на меня косится. – Нечего мне говорить!
– Ничего он такого не сотворил?
– Ничего!
Председатель глядит на него, усмехается.
А милиционер как напустится:
– То есть как это «ничего»? А я какого лешего сюда явился? Может, я так, ни с того ни с сего явился? – Лезет он в портфель и достает оттуда бумагу. – Твоя подпись?
Быкларов надевает очки, кивает:
– Моя!
– Раз признаешь, что твоя, рассказывай! Милиционер, значит, допытывается, а Быкларов на своем стоит.
– Ничего он не сотворил!
– Ах, ничего? – строго спрашивает милиционер. – А это кто написал? Может, я? – И читает. – «Начальнику милиции. Товарищ начальник, довожу до вашего сведения, что объявился у нас в селе один мошенник, такой туполобый, что ни председатель не может его вразумить, ни милиция приструнить. Ничем эту башку не прошибешь, потому как еловая она. И даже не еловая, а дубовая. И зовется эта башка Вранко Йотов – тот самый, который украл из храма икону святого Димитрия и продал ее посольству за шесть тыщ новыми деньгами!»
– Это вот и есть Вранко Йотов? – спрашивает его милиционер. – Что же ты, когда тебя спрашивают, твердишь: «Ничего не сотворил»? Отвечай сейчас же, что он сотворил, если голова у него еловая?
Тот, знай, отмалчивается. Ухватил его тогда милиционер за шкирку, дверь распахнул и вышвырнул вон.
– Катись, – говорит, – болван!
На том история с иконой и кончилась.
Вышел я из той истории чист, но взяла меня злость, что Быкларов грязью меня поливает, и созвал я церковных попечителей – батюшки в ту пору в селе не было, он у нас на три села один, так что приезжает только, когда надо кого отпевать либо венчать. Из пятерых попечителей двое пришли, остальные в город перебрались.
– Этому человеку, – говорю, – в церкви не место.
– Почему? – спрашивают попечители.
– Потому что творится в церкви неладное. Худые дела делаются.
– Какие?
– На руку он нечист!
– Не пойман – не вор, – говорят попечители.
– А как его поймать, когда вы в церковь ни ногой!.. Вы загляните, – говорю, – в церковь и увидите! Он снял подзор с пресвятой богородицы, срезал с него кружева и кружевами этими украсил свечной ящик, за которым жена его сидит, свечи продает! На Иисуса Христа повесил платок носовой, пришпилил к челу кнопками! Трем святителям глаза фуфайкой прикрыл, чтобы не видели глаза их, что он творит в храме божьем. Раньше-то, – говорю, – как переступит человек порог церкви, все святые смотрят на него – видят, значит, кто входит и выходит, и про себя замечают. А Быкларов всем им глаза заслонил, чтоб не видели глаза их, как он ворует!
– А ведь верно! – говорят. – Нам и невдомек. Поручаем тебе за ним присмотреть.
Я и стал присматривать. Подарили церкви двух ягнят.
– Дед Вранко, – спрашивают попечители, – что делать будем с ягнятами? Кто их пасти будет?
__ Берите их, отведите на площадь к магазину и продайте с торгов. Как всегда делается.
Быкларов так и вскинулся.
– Чего, – говорит, – лезешь не в свое дело? У меня свой ягненок есть да двое церковных – будет трое. Мне своего все равно пасти, так попасу заодно и этих, а осенью, как подрастут, продадим их живым весом, чтоб побольше за них взять!
– Молодчина, Маню! Хорошо придумал!
Пришла осень. Встречаю я как-то Маню и спрашиваю:
– Что с ягнятами? Много ли выручил?
– Батюшка, – говорит, – угнал их в Чепеларе, там продал, а деньги записал в приходную книгу.
Когда приехал батюшка в село, я пошел к нему в алтарь. Быкларов в это время пел на клиросе, но, как услышал, что мы с батюшкой разговор ведем, петь бросил, чтобы послушать, про что это мы говорим.
Батюшка, – спрашиваю, – сколько вы взяли за ягнят?
– Каких ягнят?
– Церковных, которые вы в Чепеларе продали.
– Ничего я не продавал, – удивился батюшка. – С чего ты взял?
– Певчий сказал.
– Да ведь он, – говорит, – прошлый раз меня спрашивал, что с ягнятами делать, я и велел продать с торгов. Потом я его спросил, как он ими распорядился, так он сказал, что торги устроить не удалось и он сбыл их с рук на руки – одного за семь левов, другого за пять.
– Батюшка, – говорю я, – нет у меня к этому человеку доверия. Давай снимем его жену со старост. Чтоб не было ему доступу к даяниям и деньгам, пускай свое певческое жалованье получает, и хватит с него.
– Обидится, пожалуй, – говорит батюшка, – и уйдет.
– Не уйдет. Больно жаден.
– Коли так, подыщите нового старосту. Только чтоб с Нового года!
Передал я об этом попечителям, они спорить не стали. Под Новый год надоумил я их отобрать у Бык-ларова ключ от церкви, а он не отдает.
– На кой вам ключ? – спрашивает.
– Как мы есть попечители, – отвечают те, – то желаем произвести ревизию.
– Не отдам я вам ключ, – разорался Маню. – Вы мне никто. Ключ я только благочинному могу отдать.
– Этот полоумный, – говорят мне попечители, – нам ключа своей волей не отдаст. Придется силой.
А я их наставляю:
– Коли он не в своем уме, так вам ума лишаться не к чему. Есть порядок. Идите, – говорю, – в совет, возьмите там две полоски бумаги – длинные такие, узкие, в магазине клею возьмете, воску я вам дам, печать у вас в руках, запечатаете храм, а поверх печати: «Церковь закрыта на ревизию». Посмотрим, насмелится ли он отпереть ее!
– Да ведь он ненормальный, – говорят. – Отопрет!
– Еще, – говорю, – лучше! С прокурором будет дело иметь!
На другой день приезжает батюшка.
– Ну, – говорю, – батюшка, молодчина ты у нас! В какое время уговаривались, в. такое и прибыл!
– Покончили вы, – спрашивает, – с Быкларовым?
– Не отдает, – говорю, – Быкларов ключа, так что пришлось нам церковь опечатать.
– Вот те на! – покатился со смеху батюшка. – Пошли отпечатывать!
– Отпечатать-то можно, но нужно ревизию сделать. Опись имущества!
– Чего там описывать? – говорит батюшка. – Иконы на месте. Чаша водосвятная на месте, книги тоже, остается только ларь с пожертвованиями. Если из-за них, чего ж, делайте опись!
Вынесли попечители ларь и стали переписывать: штаны, платки разные – прихожанки много всего нанесли.'Когда кончили они переписывать, я говорю попечителям:
– Намедни принесли фартук один тканый в дар пресвятой богородице. Что-то этого фартука не видать! Спросите Быкларова, где он.
– Маню, – говорят, – неси фартук!
– Какой еще фартук?
– Тот, который намедни принесли!
– Это, – говорит, – вы из своей головы выдумали! Не было никакого фартука!
– Маню, – говорю, – когда вешали тот фартук на икону богородицы, тетка Трендафила в церкви была, я был, старуха моя тоже была! И завмагова жена тоже тот фартук видала… Что же это получается?
– Кто да что видал, этого я не знаю. Знаю только, что я никакого фартука в глаза не видел!
– Ты спроси, – говорю, – у жены у своей. Может, ей тот фартук по вкусу пришелся, она и прибрала его, а тебе не сказалась?
Пошел он у жены спрашивать.
Я попечителям говорю:
– Если есть в нем хитрость и соображение, то он спросит у жены, воротится и скажет, что и впрямь жена фартук забрала, думала заплатить, да только предупредить о том не успела… Полезет, – говорю, – в ту лазейку, которую мы ему открыли. А коли он, – говорю, – дурак, то сам ту лазейку захлопнет и в капкан попадется.
Ворочается наш Маню.
– Ну что?
– Говорил я вам, никакого фартука у ней нету! Напраслину возводите, чтобы очернить меня!
– Как же так? – спрашивает один попечитель. – Как могут десять душ одно и то же выдумать?
– А коли у этих десяти глаза не видят, кто тут виноват?
– Выходит, один ты у нас зрячий, – говорю. – Коли ты такой зрячий, скажи, куда ты девал тех церковных ягнят? Кому продал?
– Одного за семь левов продал, другого за пять, всего, выходит, двенадцать, и деньги эти, – говорит, – у батюшки заприходованы!
– А есть свидетели, что ты за тех двух ягнят не двенадцать, а сорок левов просил!
– Может, и сорок, но только не за двух, а за трех – вместе с церковными и мой ягненочек был.
– За три головы – сорок, разделить на три – получается двадцать шесть за церковных, а не двенадцать!
– Мой, – говорит, – толще был.
– Ас чего это он толще был, если ты их вместе пас?
– А уж это, – говорит, – от самого ягненка зависит! Не в одной пастьбе дело, а еще и в породе! Чем я виноват, если мой лучшей породы оказался!
– И не совестно тебе? Мы тут перед тобой, как говорится, святой синод храма сего, а ты нам в глаза заливаешь, что продал своего ягненка вместе с церковными? Да ведь ты, – говорю, – своего Кыркелану отдал, а тот прирезал его и скормил шоферам, которые ему камень привозили дом строить. Думаешь, слепые мы? А церковных ягнят ты леснику продал, он их на грузовик – и увез. Может, ты и впрямь с него только двенадцать левов взял, но по какой причине? Чтобы он зятю твоему лесу дал!
– Довольно! – говорит батюшка. – Не будем созывать все село, и без того ясно! Давай сюда клю-, чи, Маню!
Тот не отдал – швырнул ключи.
– Нате вам ключи, – говорит. – И до свиданья! С увольнением, значит, дело решилось.
В тот день в селе у нас свадьбу играли. Повенчал батюшка новобрачных и говорит мне:
– Пошли, дед Вранко, к молодым в гости.
– А меня не звали!
– Со мной пойдешь! Ты уже десять лет причетни-<ом состоишь при нашем храме. Вполовину, можно сказать, попом стал! – смеется батюшка.
Идем мы с ним к молодым в гости, а дорогой я батюшке и говорю:
– Знаешь, батюшка, чего я надумал? Быкларов оговорил меня, будто я икону святого Димитрия украл, и осталось на мне пятно, которое ни мылом не смоешь, ни щеткой. Облил он меня грязью, и, чтоб очиститься от той грязи, подам я на него в товарищеский суд за уворованные из церкви вещи. А когда назначат над ним суд, мы по радиоузлу объявим на все село: пусть, мол, каждый, кто при Быкларове приносил в храм какие-нибудь пожертвования, о том заявит, чтобы подсчитать, сколько всего уворовано.
Батюшка так посередь дороги и встал.
– Помилуй! – говорит. – Все, что хочешь, только не это!
– Да отчего же, батюшка? Он меня может грязью обливать, а я не моги? Нет, я тоже его оболью, да так, что ему ни в какой реке не отмыться!
– Господом богом прошу! – взмолился батюшка. – Если имеешь ко мне уважение, не делай этого! Церковь нашу на осмеяние выставишь! Мы и так у всех как бельмо в глазу!
– Так ведь не церковь воровала, чтобы ее на смех поднимать! Певчий воровал!
– Выкинь ты это из головы! – раскричался батюшка. – И думать позабудь! Если хочешь ревизию, составим комиссию из своих людей, проведем ревизию, начет на Быкларова сделаем – и конец! Разве моя вина, что он воровством занимался!
Расстроился почему-то наш батюшка и на свадьбе гулял без всякого удовольствия. Барабаны бьют, гай-да наяривает, а ему никакой радости. Ворочаемся мы со свадьбы, а Быкларов батюшку дожидается – жалованье свое получить.
– Батюшка, – говорю, – никакого ему жалованья! Его жалованье арестованное!
Маню говорит:
– Подавай сюда деньги, батюшка! Подавай деньги или я не знаю что сделаю!
А я говорю:
– Никаких денег! Я-то знаю что сделаю! Оказался батюшка меж двух огней, но мой огонь ему показался опаснее.
– Нету у нас сейчас в церкви никаких денег, Маню, и потому не могу я тебе жалованье заплатить.
А Маню говорит:
– Как это нету? А аренда за луга? А свечные деньги?
– Это по другим статьям! – объясняет батюшка.
– Что ты с ним цацкаешься? – говорю я батюшке. – Зачем прямо не скажешь, что жалованье его арестованное?
Взъярился тут Быкларов и говорит попу:
– Пропади, – говорит, – пропадом мое жалованье, но и тебе, батюшка, солоно придется, имей в виду! – И пошел прочь.
Оробел батюшка, бросился вдогонку, и стали они толковать о чем-то за оградой. Хотел я послушать о чем, но на ухо туговат стал, так ничегошеньки и не разобрал. Воротился батюшка, в лице даже переменился: было у него красное лицо, стало белое.
– Чем он, – спрашиваю, – тебя напугал?
– Написал, – говорит, – жалобу благочинному.
– Подумаешь, велика беда! Пускай пишет, мы тоже напишем и посмотрим еще, чья возьмет!
Оглянулся батюшка по сторонам. В одну сторону посмотрел, в другую и спрашивает меня:
– С коих пор ты у нас в храме причетником? Нету разве у тебя желания повышение получить, старостой церковным стать?
Сколько времени о новом старосте речь шла, он слова не обронил, а тут вдруг: «Нету желания старостой стать?»
– Подумать, – говорю, – батюшка, надо.
– Подумай, – говорит, – и да просветит тебя мать пресвятая богородица, чтобы не подкапывался ты под святую нашу церковь!
И теперь вот сидим мы с моей старухой и думаем-гадаем, как лучше: раскапывать дальше или в старосты пойти?