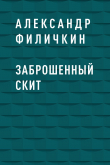Текст книги "Дикие рассказы"
Автор книги: Николай Хайтов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 11 страниц)
И выкладываю ему, значит, всю историю с мериносом. Он раза три в лице переменился: видать, тоже рыльце в пушку. Дослушал меня до конца и спрашивает:
– Что же ты предлагаешь?
– А то я предлагаю, чтобы организовать в клубе курсы для мужиков наших, повышение квалификации… Мериноса приведем, чтоб поглядели на его обхождение, а словесную часть я на себя возьму.
– Постой, постой! – кричит председатель. – Ты соображаешь, что несешь? Приводить барана в клуб, где у нас культурные мероприятия проводятся! Да еще не одного, а с овцой!
Я говорю:
– А это разве не культурное мероприятие» дорогой товарищ, чтобы люди знали, каким манером друг друга любить полагается? Ты погляди, сколько кругом мужей с женами разводятся!
Смотрю, зачесался мой председатель – затылок чешет, шею, потом за ляжки принялся.
– Одного, – говорит, – в толк не возьму: почему именно ты в эту баранью историю ввязался? Можешь ты мне это объяснить?
– Обидно мне стало, товарищ председатель, что люди у нас любовное обхождение хуже понимают, чем скотина. И потому вовсе эта история не баранья, а самая что ни на есть человеческая!
Призадумался председатель. Думал, думал и наконец решился:
– Так и быть, организуем курсы! Но только не в клубе. Лучше наверху, в кошаре. Выделим транспорт, доставим туда мужиков. Проведем под маркой какого-нибудь мероприятия – ну, скажем, «Реконструкция овечьего стада» или еще что-нибудь в этом роде. Может, просто «Реконструкция». Но смотри у меня! Чтоб никто ничего не пронюхал, а не то, если поднимут вопрос, я тебя не видал и не слыхал. Ясно?
– Ясно, —говорю.
– Действуй!
Вот я теперь и действую.
И одно только у меня сейчас желание – засело в сердце, как заноза, – чтоб в один прекрасный день. прошли б мимо моего дома все, какие есть мужики в нашем селе, и чтоб у каждого за ухом цветок красовался, как у Юмера!
Тогда простятся мне мои прегрешения и на сердце наконец полегчает!
КОГДА МИР СБИЛСЯ С ПАНТАЛЫКУ
Один, бывает, пострадает на войне, другой – от бабы, а меня заел «Бакиш». Поедом меня ел и чуть не довел до погибели. Но лучше я тебе все с самого начала расскажу, по порядку.
Был я чувячных дел мастером. Ты не путай, чувячный мастер это не то что башмачник. Башмачники – они потом объявились, кусок хлеба у нас отняли. А раньше-то, пока они нас не выжили, мы, чувячных дел мастера, на базаре заправляли. Лавки наши помещались все у фонтана, в самом, можно сказать, центре города, восемнадцать их было, одна за другой, точно бусины на четках. Как выставим свой товар перед дверью, до того весело и пестро: тут тебе и белое, и черное, и коричневое, и красное – как на ярмарке, право слово.
Каких мы только чувяков не шили! Если ты ще «голь – греческие покупаешь, носки у них загнутые, как птичий клюв, только кверху, и кисточки шелковы© болтаются. К ним носили шапку набекрень и кинжаЯ за поясом. Для людей посолидней мы другие шили-^ с тупым носком, на толстой подошве. К таким кара «кулевую папаху надевай, желтые четки царьградски? в руки бери. Был еще особый фасон – плотогонский! белые, плоские, сзади язычок, мягкие да легкие, как голубиное крылышко. Покупали их больше плотогонь! с Марицы, потому и прозывались они плотогонскими, но кто толк понимал в красоте, тоже их брал. Были чувяки пожарничьи – для пожарников с каланчи, без задников, но с ремешком сзади, чтобы быстрее надевались и крепче держались. И каких еще только не было! Для мастеров и подмастерьев, для буйных и смирных, холостяков и женатых. Никаких TOFfla не требовалось бумаг и удостоверений – глянул, что у человека на ногах, и сразу все ясно: в каких он годах, умен иль не очень, при деньгах или в карманах ветер свищет, смирного он нрава или буйного, каких занятий и в каком квартале живет – Амбелинос, Жаб-лица или Метошка. Теперь не то! Все обуты одинаково. Поди разбери, что за человек, откуда, кто таков.
И по сю пору не могу я взять в'толк, отчего это люди прельстились башмаками. Разве они лучше чу* вяков? Нет! Куда им до чувяков! И сравнения ника «кого. Дешевле они? Тоже нет! Дороже еще! И все-таки взяли они, треклятые, верх над чувяками. Сначала объявился один башмачник – не знаю уж откуда, потом прибился еще один – двое их стало, значит. Чужаки они были, и гильдии своей у них не было, но народ кинулся к ним, а наши молотки и колодки начали ржой покрываться.
Собрались мы все – и молодые мастера, и ста* Rbie;– чтобы вместе обмозговать, как дальше быть.
Мы, кто помоложе, яримся, предлагаем столкнуть обоих башмачников в реку – мол, напугаются тогда и дадут деру. А старики не соглашаются. В особенности турок один, Али по имени. Он мудрый у нас, башковитый был, борода седая, шея малость криво-ратая. Так вот он нипочем не соглашался, чтоб мы башмачников в реку сбросили.
– Дело, ребятки, – говорил он, – не в чувяках и не в башмаках, дело в том, какой на свете порядок! Коли стал мир чувяки скидывать, не помешать тому, нипочем не помешать. Коли он, – говорит, – потури скидывает, то и чувяки скинет беспременно. Не трожьте вы башмачников А лучше, кто еще молодой, позабудьте про чувяки и садитесь башмаки шить!
(Потури – мужские штаны из домотканой шерстяной ткани.)
Мы все на Али набросились, крик, шум поднялся, еще немного и его б самого в реку сбросили. Стали кричать, что подкупленный он, из ума выжил и бог весть еще чего наговорили. Под конец мы, молодые/ рассудили по-своему: собралось нас пять молодцов, на ногах чувяки, за поясом кинжалы острые, подкараулили этих несчастных башмачников и спихнули в воду. А сами отправились в корчму к Петру Бледной Немочи, наняли шарманщика, вина маврутского заказали, и пошло у нас веселье: до самого утра песни пели, вино рекой лилось, стаканы в зубах трещали. Ни у кого и мысли не мелькнуло, что последняя это у нас, чувячных дел мастеров, гульба. Только мы собрались по домам разойтись, слышим – в набат бьют, пожар! Выбежали поглядеть, где горит, и вмиг протрезвели: наши лавки полыхают. Ну, тут и ведра с водой, и половики мокрые, и пожарники с кишкой! Да разве тремя бочонками загасить старые, сохшие-пересохшие строения, которые от одной искры вспыхивают? Стены рушатся, крыши сами в огонь срываются, а чувяки пищат в огне точно живые!
Башмачники-то оказались не робкого десятка – мы их в реке искупали, а они нам красного петуха пустили, рассчитались око за око, зуб за зуб. Кинулись мы бока им намять, а их уже давно след простыл. После пожара большинство из нас бросили свое ремесло, разбрелись кто куда. Кое-кто отстроил лавки заново, а я – один из всех – остался без лавки и без гроша ломаного. Сунулся туда-сюда, никто даже и не сулит ничего. Наконец повстречался мне однажды мясник Колю, по прозвищу Прыщ.
– Слыхал я, Коста, – говорит, – будто ты все еще лавкой не обзавелся.
– Так оно и есть, – говорю.
– А коли так, могу тебя безо всякой платы в свою лавку пустить, но при одном условии: исхлопочи мне в городской управе разрешение мясные туши вешать на крючьях перед дверью, на улице, как раньше заведено было. Если выгорит это дело, мне лавка только вечером нужна будет, а днем шей свои чувяки сколько душе угодно.
Обеими руками уцепился я за ту соломинку и бегом к городскому голове:
– Будь отцом родным! Бога за тебя молитЬ буду, гостинцами завалю, только разреши Колю Прыщу мясо на крюках перед лавкой вывешивать, он меня за это в лавку свою пустит. Погорелец я, не оставь без помощи!
А тот – ни в какую!
– Как я могу дать такое разрешение, когда от ветеринарного начальства приказ есть, чтоб не висели мясные туши на улице. Одному разрешишь, за ним остальные вылезут, и тогда конец гигиене.
Но я не отступался, умолял, улещал, посулился летом у него на винограднике отработать и в конце-концов уломал.
– Ладно, – говорит, – только сперва Таратора уговори.
А Таратор был у нас важная шишка, депутат и все такое прочее. Пошел я к нему: так, мол, и так. Он говорит:
– Нет, нет и нет!
Но я все-таки нащупал его слабое место.
– Вроде бы, – говорю, – скоро выборам быть? В нашем роду сорок пять душ, не считая троюродных и четвероюродных. Могу тебе их всех скопом привести, сорок, а то и пятьдесят голосов прибавится_глядишь, тебе депутатство и обеспечено! Возьмем, говорю, флаг вашей партии и пройдем по всем торговым рядам, только устрой то дельце, о котором я хлопочу, ведь сущая пустяковина!
Ну, этот тоже сдался.
Ночью Прыщ врыл перед дверью столб, к столбу крюк приладил, повесил тушу, а еще через день все мясники вывесили туши на прежних местах. Ветеринар столбы валить не осмелился, и мясной ряд возродился снова.
Взял я денег взаймы, купил новую машину «Зингер», новых колодок, подошв, сафьяну и опять занялся своим ремеслом. Всяких чувяков нашил – греческих, плотогонских, пожарничьих, всех цветов и фасонов, – ¦ черные, белые, красные, тупоносые и остроносые, с язычками и без язычков, нанизал их на веревку и повесил перед входом в лавку, кто ни пройдет – взглянет, кто ни взглянет – остановится. Одни только поглядят, другие купят, и вроде дела мои пошли. Еще до пожара была у меня невеста, а тут набрался я храбрости и сыграл свадьбу. Сняли мы с ней пустую, можно сказать, комнату, два стула да столик, но ведь у меня в руках ремесло было, и рассчитывал я, что заработаю и на дом собственный, и на всякую утварь домашнюю. Но тут – надо же – объявился этот «Бакиш»!
Как-то раз утречком говорю я Колю Прыщу.
– Послушай, бай Колю, давай сегодня на пару пообедаем – ты мясца дашь, я овощей куплю.
Дал я ему денег, пошел он на базар. И что-то долго его назад нету. Потом возвращается, картошки несет, укропу, луку и еще издали кричит мне:
– Беги, Коста, на базар, погляди на диво-дивное! Царвули из резины продают! Чуть не задаром!
Екнуло у меня что-то внутри. Отложил свой молоток и пошел. Наро-одищу-у-у! Не подойти, не протолкнуться, облепили лоток со всех сторон, а на нем доверху царвули навалены. Взял я в руки один царвуль, перевернул вверх подошвой, на подошве написано «Бакиш». Резиновая фабрика и все такое прочее.
– Почем? – спрашиваю продавца.
– Пара – десять левов. А три пары возьмешь – могу скидку сделать, по восемь отдам.
Гляжу я на царвули эти, щупаю: тяжеленные, как гири! Куда им до моих, к примеру, плотогонских чувяков с желтым кантом, легких как перышко! Но это я понимаю, а для других что тяжелые, что легкие – все одно! Народ набежал простой, что блестит, то им и любо, хватают эти утюги резиновые почем зря! Старую обувку с ног скинут, новую, резиновую, наденут и скорей бежать к фотографу – на карточку сняться в «Бакише» на ногах. Муторно мне, скажу я тебе, стало. И не из-за чего другого, а из-за карточек. Столько лет шил я свои чувяки, столько умения положил и старания и ни от кого спасибо не слыхал. А эти мокроступы, в которых ни красоты нет, ни души, ни умения – с прилавка и сразу на карточку!
Ни одного человека не нашлось с пониманием, в чем она есть, истинная красота.
В лавку я ворочаться не стал, а отправился прямым ходом в корчму и нализался так, что не помню, как меня домой приволокли. С той поры дела мои пошли хуже некуда. «Бакиш» отбил у нас всех заказчиков и покупателей, и застопорилась наша торговлишка. Сбавили мы цену на свой товар. «Бакиш» тоже сбавил. Он продавал за наличные, мы надумали в кредит торговать и тем его одолеть, но опять остались в накладе. Покупатели взяли привычку только в долг и брать, наличными совсем платить перестали. Один говорит: «Жалованье получу – отдам». Другой: «Вот виноград продам – расплачусь». Третий сулится отдать, как хлеб обмолотит, пятый, шестой – в том же роде, конца-краю нету. Я уж не говорю про всяких там любителей поживиться на даровщину – приставов, финансовых агентов, стражников – те берут, тащат и спасибо даже не скажут. Про них и говорить нечего. Один тебе саблей грозит, другой – бумагой казенной. А у городских полицейских одна угроза: «Смотри, заставим мясников убрать свой товар в лавки!» И брали у меня чувяки, кто для бабки, кто для жены, кто для ребятишек, все будто до следующего жалованья, а ни один гроша медного не заплатил, не отдал!
До того я с этим кредитом влип, что даже в церковь к причастию мы с женой и тещей стали по очереди ходить – потому на троих всего одна пара чувяков была!
Как увидал я, что вконец прогорает моя торговля, решил твердо-натвердо: «Никому больше в долг не даю! Хоть сам господь-бог с неба явись, отправлю ни с чем, пока не выложит денежки наличными!» Даже клятву дал. Встал на колени и вслух поклялся: «Господи Иисусе Христе, чтоб мне ослепнуть, чтоб мне свету божьего не видать, если я с этого дня хоть одному человеку в долг поверю!» Осенил себя крестом, но еще не успел с колен встать, вижу, входит дружок родителя моего из Козанова, был у него такой, Митю, Воркун по прозвищу. Улыбается во весь рот, на плече – торба, кричит с порога:
– Привалило тебе, Коста, счастье! Пришел я для тридцати свадебщиков чувяки покупать! Показывай товар, у меня с собой мерки есть! – И вынимает из мешка горсть лучин – мерки, по которым он чувяки покупать собрался свадебщикам в подарок. Вот эти ему подай и те! И вон те еще и эти! Почти все, что у меня наработаны были, отобрал, в торбу свою затолкал и к выходу.
– Постой, а деньги?
– Хлеб обмолочу – отдам! – отвечает. – Запиши в долг!
– Ах, в долг? Давай сюда товар!
Он глаза вылупил. Хочет уйти, а я его назад тащу. Схватились мы крепко, отобрал я у него торбу, вытряс оттуда чувяки, схватил у Прыща секач и давай их рубить на мелкие кусочки. Все соседи сбежались.
– Да погоди, Коста! Будет тебе! Перестань!
– Никаких «погоди», никаких «перестань»! К чертовой матери, пропади они пропадом и чувяки эти, и ремесло мое распроклятое, и «Бакиш», и покупатели– обманщики и разорители, и весь этот растрек-лятый мир, который совсем сбился с панталыку.
Чертыхаюсь и рублю, рублю и чертыхаюсь, пока не порубил все чувяки в мелкую крошку. А потом швырнул секач и пошел. Но не домой пошел, а вниз по реке, потому кипела во мне ярость и не хотелось на людей глядеть. Сел я на берегу, голову в воду окунул, поостыл, и вдруг до того мне легко стало! Нету больше должников, нету налоговых агентов, нету хапуг-полицейских, нету «Бакиша» – душителя моего. Ничего нету! Нету! Нету!
Да-а… Их-то нету! А жена есть, и дом есть. Пустой дом, голодный. А в доме теща. И всегда-то она мне в руки смотрит с хлебом иду или без, и тут же глаза на жену переводит: дескать, видала? Она ведь уговаривала ее не за меня идти, а за внука Хаджи Фаницы, у которого восемнадцать декаров бахчи. Но Минка за меня пошла, и мать не может простить ей этого. Как я сейчас ей в глаза посмотрю? Как скажу, что у меня за душой гроша ломаного нету? Уж лучше в реку вниз головой – и покончить с этим позором!
Встал я, походил по берегу, поискал, где поглубже, сказал: «Прощай, Минка!» – и бултых в мутную вод^. Хотел поглубже нырнуть, чтоб поскорей утопнуть, а ткнулся во что-то мягкое. Открыл глаза – кошка! Дохлая кошка плавает. Тошно мне стало, и я давай скорей на берег выбираться. Сел пообсохнуть и стал размышлять. Для чего мне топиться? Чтобы Минка внуку Хаджи Фаницы досталась? А почему бы мне не дернуть в Америку? Заработаю там на целых две бахчи, пускай тогда теща локти себе кусает!
В Америке у меня как раз двое парней знакомых было – они еще до четырнадцатого года подались в Детройт. А когда война началась, они – патриоты, вишь – назад из-за океана приплыли, чтобы пролить кровь за Болгарию. Зачислили их в роту капитана Чел-бова. Однажды на марше, когда мы месили грязь на дороге, один из них ненароком обрызгал капитана. Капитан, сукин сын, сразу за хлыст. «Куда прешь, сволочь?»– кричит. И хрясь американцу по шее. Тот солдатчины-то еще толком не хлебнул, дисциплине военной не обученный, как пошлет капитана по матушке! Челбов – за револьвер. И пристрелил бы его, как пить дать, еле удержали. Приказал он влепить американцу двадцать пять палок. Я тогда при Чел-бове денщиком состоял и умолил его наказывать американца не перед всей ротой, а в палатке, подальше от глаз, чтоб не осрамить вконец парня– все ж таки по своей воле приехал помирать за отчизну. Послушался меня капитан и поручил мне провести экзекуцию. Ввел я американца в палатку, велел вопить во всю глотку и начал: р-раз палкой по ранцу, американец ревет, будто его режут. Я колочу, он ревет, пока не досчитали мы до двадцати. Пять только раз ударил я его по-настоящему – для пущего вероятия. С той поры паренек просто молился на меня, в огонь и воду за меня был готов. Когда подошла демобилизация, он при расставании сказал мне:
– Здесь у вас, Коста, при таких, как Челбов, не жизнь! Махнем лучше со мной в Америку. Капиталец сколотишь, а потом будет охота, так и вернешься.
Вспомнились мне эти слова, и решил я: в Америку, другого выхода нет! Авось повезет!
Воротился я домой веселый. Жене и теще ни гу-гу., Послал письмо своему американцу, через месяц с небольшим пришел ответ: «Приезжай! Жду! Встречу по-царски».
Исхлопотал я себе пачпорт – в те времена пач-порт исхлопотать было раз плюнуть, а жене по-прежнему ни полслова. Крик поднимет, плач, попробуй успокой. Я так решил: уеду втихую, а из Америки пришлю весточку. И день уже назначил – двадцатое августа. Велел жене сварить в тот день обед с мясом. Отобедали мы, и я пошел… Пойти-то пошел, да вдруг защемило у меня сердце, жалко стало с городом родным расставаться, будь он трижды неладен. «С женой не простился, – думаю, – дай хоть с городом родным прощусь». Времени до поезда еще оставалось порядочно… Прошел я по торговым рядам, спустился к Чинаре, где у нас Офицерское собрание было. В окнах свет горит. В самый раз напоследок на родную болгарскую фуражку поглядеть. Окошки там низкие, заглянул я внутрь и вижу: господа офицеры, сволочи, сидят за столом, посередке стола бочонок поставили, цедят из него что-то желтое, пенистое и пьют. «Пиво!» – смекнул я. И раньше слыхал я, что появилось такое питье, но какое оно – ни видать, ни пить не доводилось. Так вот, значит, сидят господа офицеры, пьют, кружками стучат. Они пьют, я гляжу.
И вдруг вспомнились мне слова старого Али: «Коли стал мир чувяки скидывать, не помешать тому, нипочем не помешать. Коли он потури скидывает, то и чувяки скинет беспременно». Вон она – новая мода! Просто моча желтая, можно сказать, а господа офицеры дуют во всю, потому – в новинку! Но только на сей раз и я с этого дела пенки сниму! А там будь что будет! Америка, рассудил я, никуда от меня не уйдет. Пачпорт тоже. Подхватился я – ив Прангу, в родное село.
– Отец, – говорю своему старику, – один раз ты меня родил на свет, роди во второй!
– Ты что, Коста, – удивился старый, – нешто может человек дважды на свет родиться?
– Может, – говорю. – И три раза может! Отдай ты мне мою долю от своего сада, я продам ее и сделаю то, что задумал.
И рассказываю ему, на какую я жилу набрел. Отец у меня прежде в лесной охране служил, уразумел что к чему и – прости ему, господи, его прегрешения– спорить не стал. Завязал я в платок десять золотых, купил патент, привез из Пловдива пива, бочонок льду, жаровню – мясо жарить, две тарелки, две кружки, а Вангелаки – богомазу велел нарисовать святого Георгия на коне – в одной руке кружка с пеной через край, в другой – копье, а на копье котлета нацеплена, под картиной – подпись громадными буквами, черными по желтому полю: «ПИВО ЛЕДЯНОЕ ОФИЦЕРСКОЕ».
Народу слетелось – туча! Народ ведь как кинется– его не остановишь. Пиво – горечь одна. А им, дурачью, все равно! Некоторые интересовались, отчего оно офицерское.
А я говорю:
– Уж такое оно есть.
Фотограф увидал, как люди пиво мое лакают, поставил свой аппарат возле моего ларька и стал снимать всех любителей с кружкой в руке рядом со святым Георгием. Простых любителей он снимал с кружкой в руке, а самым ретивым на голову еще желтую каску напяливал, какие пожарники носят.
Попросил я Вангелаки подсобить мне; он котлеты жарит, продает, я пивом торгую, и уже к обеду выцедили мы все пиво до последней капли. Денег я напихал полный ящик!
И говорю я Вангелаки:
– Охота тебе была святых малевать? Не видишь разве, что на святых теперь тоже спрос поубавился? Давай лучше вместе торговать – ты будешь котлеты жарить, я пиво разливать.
– Давай! – говорит Вангелаки. – Все одно у нас в городе никто в иконах и картинах не смыслит. Коль я тебе подхожу в напарники – давай! Я ведь и фигуры лепить могу, так что котлеты наделаю – первый сорт!
Купили мы в Избегли буйволиную тушу, наготовили фаршу. У Вангелаки пальцы длинные, ловкие, котлетки он лепил аккуратненькие. Я десять бочек пива привез, и завертелась у нас такая торговля, что «Бакишу» впору мне завидовать. Пошло дело! Деньги повалили валом! К вечеру чуть не мешок их набирался, даже считать было лень.
– На, посчитай! – пихает мне бывало выручку Вангелаки. – А то я с ног валюсь.
– Считай ты! – отмахиваюсь я. – Я сам валюсь. В конце концов решили так: один день он выручку считает, другой день – я.
Взыграла у меня душа от таких доходов, купил я жене шелковой материи на платье и велел сшить у самой дорогой портнихи, какая есть в городе. Жена показала подарок матери и похвасталась, кому шить отдаст. У тещи аж глаза на лоб полезли:
– Ты в своем уме иль нет? Чтоб жена какого-то лотошника платья портнихам шить отдавала? У муженька еле-еле на хлеб хватает, а ты форсить будешь, точно госпожа какая!
На другой день спрашиваю у жены, почему она новое платье не надела.
– Оно, – говорит, – не сшитое. – И рассказывает про то, что мать не разрешила шить его и какие при этом говорила слова.
– Скажи своей матери, чтобы завтра вечером спать не ложилась, а сидела и меня дожидалась!
На другой вечер ссыпал я выручку в мешок, не считая, мешок на плечо взвалил и домой. Жена с тещей сидят, дожидаются. Говорю жене:
– Постели скатерть.
Она постелила, я мешок вытряс, зазвенели монеты, покатились во все стороны, теща чуть умом не тронулась.
– Давай, – говорю, – тещенька, поработаем, денежки вместе пересчитаем. Ты, – говорю, – шестиле-вовые монеты считай, Минка пятилевовые, а я бумажки складызать буду!
Старуха слова сказать не может. Три раза глаза терла – проверяла, не во сне ли такое привиделось, а потом взялась считать. Считали мы, считали, а как пересчитали все – сгреб я две пригоршни ассигнаций и бросил жене на колени:
– Держи, жена! – Это, – говорю, – тебе, чтоб портнихе платить. А это – кидаю две пригоршни ше-стилевовых монет теще – тебе, старуха, чтобы запомнила ты те времена, когда мир сбился с панталыку.
Ну, про Али я тоже не забыл. Взял его к себе в зазывалы, потому что это он мне глаза раскрыл, объяснил, что к чему, и от «Бакиша» спастись помог.
Али здорово зазывал, на совесть. Шея у него была кривая, чалма драная, но уж коли он брался за какое дело, то всю душу в него вкладывал. Только почему-то «ледяное» он выговорить не мог и кричал: «Пиво ильдяное! Ильдяное пиво-о!»