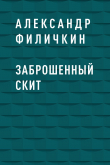Текст книги "Дикие рассказы"
Автор книги: Николай Хайтов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 11 страниц)
ВРЕМЕНА МОЛОДЕЦКИЕ
В те давние-то годы был я парень удалец, буйная головушка. Ростом невысок, зато крепенек. За спиною ружье торчит, за поясом нож к ножу топырятся. Два ли, три ли – того не помню, а левольверт – вот тут, на боку. Слава про меня шла, что лихости мне не занимать, так что, когда собирался кто невесту умыкать, ни к кому другому – ко мне шли. В ту пору девок в жены брали без обхаживаний да улещиваний – времена были молодецкие.
Был у меня тогда сосед один, приглядел он себе в Настане девушку и как-то раз зазывает меня к себе.
– Сколько, – говорит – возьмешь, чтоб выкрасть ее и свадьбу мне с ней сыграть?
– По сотне, – говорю, мне и двум сподручникам, сверх того две сотни на троих – всего, выходит, полтыщи, и можешь свадьбу играть.
На том и сладились, А через несколько дней-отправились мы в Настан. Ну, а когда в селе трое чужаков появились, ясное дело, сразу слух пошел. Упредили девку: так, мол, и так, умыкать тебя будут! Она из дому носу и не кажет. А братец ее ружье зарядил.
– Пущай, – говорит, – только сунутся, живо им башки продырявлю!
Ну ладно, ждем день, ждем два – девки все не видать. На третий день – дружок у меня в Настане был, Шукри звали – прибегает ко мне Шукри этот и говорит:
– Пошли они в Блатниште поле пахать. Туда идите!
– А девка?
– И девка, – говорит, – само собой, там.
Куда уж лучше! В чистом поле за нее и вступиться-то некому. Братец у нее, правда, крепкий орешек, но он один, а нас трое.
Захватили мы с собой винца, ракии и зашагали к Блатниште. Где прямиком шли, где в обход и притаились под высоченными елями возле родничка. Сидим, ждем. Поле рядом, нам видать, как они там пашут – девка и брат ее.
– Давайте, – говорю, – хлебнем ракии, а в обед девка придет сюда волов поить, тут-то мы ее и сграбастаем.
Я, значит, так располагаю, да вышло не по-моему. Приметил нас пастух один, залез на сосну и давай оттуда орать что есть мочи:
– Э-э-эй, Шебан-ага! (Брата ее тоже, как и меня, Шебаном звали.) В овраге люди чужие хоронятся, сестру твою умыкнуть хотят! Чужие лю-у-ди-и!
Говорю я своим:
– Плохо наше дело! Пойдем в открытую!
Брат ее, как увидел нас, топор – в руки, сестру собой загородил и орет:
– Ворочайтесь назад, откуда пришли, не то худо будет!
И ну пулять в нас камнями, чтобы ближе не подходили.
Он пуляет, а мы знай себе идем, и я кричу на ходу:
– Эй, тезка, зря стараешься, все равно по-нашему выйдет. А насчет того, что худо будет, так еще посмотрим кому, нам или вам! Брось, – говорю, – топор и проваливай, а сестру твою мы не в плохое место отведем, в город, – говорю, – в Девлен отведем ее!
– Назад! – не унимается он. – Не то башки прошибу?
У сподручников моих поджилки трясутся, а мне нипочем, иду и иду. Одна рука – на рукояти ножа, другая – на левольверте.
– Ежели башки прошибать, сучий сын, так давай прошибать!
И – на него, а он – на меня, да с топором, и разрубил бы, как пить дать, не отскочи я в сторону, так что топор только по руке моей проехался, вот тут, пониже локтя. Рассек рукав и в мясо врезался. Враз ослабла у меня рука – на счастье, левая. Крепкий я в ту пору был, здоровущий, спуску обидчику не давал. Схватил я его здоровой рукой за шкирку, повалил на землю, коленом прижал, дотянулся до какой-то дубины, звезданул ему по башке и, как бритвой, кожу снял от макушки до лба. Потом размотал на нем пояс, и прикрутили мы парня к сосне, крепко-накрепко прикрутили, чтоб не трепыхался. Рану тоже тем же поясом перевязали – навертели дай бог, что твоя чалма. И тут только спохватились: сестры-то его нету, ищи-свищи. Пока мы с ним возились, удрала девка и след простыл. Как быть? Говорю жениху:
– Где у тебя глаза были, сучий ты сын? Ослеп, что ли?
Ну ладно, сунулись мы туда-сюда и нашли ее за грабами – лежит, шалью прикрылась, затихла, молчит. Мы – к ней, а она – скок на ноги и давай отбиваться! Нас трое, она одна, а заставила попыхтеть здорово! Но как ухватили мы ее за косы – тут уж она угомонилась. Повели назад, в поле, к брату, а тот взмолился:
– Отпустите, – говорит, – не губите душу мою, не оставляйте у этой сосны погибать!
Ну мы и отпустили. Жалость разобрала. А он как даст стрекача – быстрее ветра помчался! И про соху позабыл, и про сестру, и про все на свете. Сиганул в овраг да и был таков.
– Ну, все, – говорю я невесте, – все! Пойдешь теперь с нами, женой этому доброму молодцу будешь.
– Уж не этому ли сопляку? Тьфу! – Плюнула она в его сторону. – Нипочем, – говорит, – не пойду за него!
Ну, мы опять схватили ее и поволокли в гору, а она упирается, не идет и все тут! Волосы у нее в косички тоненькие заплетены, так мы, почитай, половину тех косичек выдрали, а она знай вырывается – и ни в какую! Тогда подхватили мы ее за руки, за ноги и так дотащили до Джиндовой топи.
Не впервой мне было невест умыкать, но такой, как эта, еще не доводилось: ядреная, норовистая, и все при ней – и кость, и мясо, а про то, что спереди, и говорить нечего – ходуном ходит, огнем пышет, так что глядеть – не наглядишься, тискать – не натискаешься.
Из лесу поворотили мы на Грохотное. Опаска меня взяла, что братец ее кликнет в селе подмогу и припустит в погоню за нами. Поэтому пошли мы не на Девлен, а в обратную сторону. Несли мы невесту, несли, а потом притомились. Стали волочить ее за собой, так что шальвары у нее вскоре изодрались в клочья. Жених и говорит вдруг:
– Отпустим ее, братцы, а? Ведь зверь лютый, а не баба!
– Да ты что, – говорю, – рехнулся? Чтоб она потом по всей округе раззвонила, что верх над нами взяла?
Волокем ее, значит, дальше, все вниз и вниз, до самой речки. А там надо было переправиться на другой берег, чтобы потом через Хамамбунар повернуть на Девлен. Легко сказать – переправиться, а как? Вода в реке прибыла, мутная да буйная, аж кипит! Мост через нее есть, да, как говорится, не про нашу честь – посередке села он. Хошь не хошь, а надо вброд идти. Сподручники мои оба назад повернули, побоялись в воду лезть. И невеста тоже упирается – своей волей в воду не идет. Велю я тогда жениху:
– Взваливай ее на спину!
Оно бы хорошо на спину, да девка-то высоченная, жених ей по плечо еле-еле, как он ее «взвалит»? Я говорю:
– Ты пригнись, на корточки сядь, а она на тебя верхом!
Он-то присел, да она – опять ни в какую! Попробовал я толкануть ее, но одной рукой несподручно. Она уперлась ногами – и ни с места! Вытащил я тогда нож, приставил ей к груди:
– Сейчас, – говорю, – всю кровь враз из тебя выпущу!
Я, значит, надавливаю нож, она увертывается, я надавливаю, она увертывается, потом все ж таки легла жениху на спину, и он подтащил ее к самой воде. А уж там – делать нечего – обхватила она его за шею.; – Топай! – говорю ему. – И не оборачивайся, а я ее за ноги придерживать буду!
Ну, идет он, идет и вдруг – бултых в яму и исчез под водой. И невеста с ним. Одни лишь чулки ее у меня в руках остались! Эх, думаю, жаль девицу-красавицу! И тоже – плюх в воду! Я верткий, плавать умею, воды не боюсь, но та вода и не вода была, сплошняком каменюги да коряги. Одна коряга чуть мне брюхо не вспорола, другая по плечу двинула, третья по ребрам прошлась – и не знаю уж, то ли самому спасаться, то ли других спасать? Добро бы я еще при обеих руках был, а каково с одной-то рукой! Ну, делать нечего, с одной, так с одной. Ухватил я девку за ногу – зубами ухватил, не рукой, рукой-то вцепился в какой-то комель и по нему выполз на берег. Два часа кряду мы слова, вымолвить не могли, сидим синие, от холода зубами лязгаем. А уж на небе месяц светит. С братом ее мы сшибались в обед, покуда девку ловили – уж солнце село, а пока остальное все – и луна взошла.
Ну посидели мы сколько-то, я и говорю:
– Поднимайтесь, дальше пошли! А невеста опять за свое.
– Не пойду, – говорит, – дальше! Лучше в реке меня утопите!
Я сначала по-хорошему:
– Будет тебе, Эмина, кочевряжиться! Вставай, ц пока по-хорошему просят!
– Нет и нет! У меня, – говорит, – в Драме брат есть, разбоем занимается, ежели попрошу – золотом тебя осыплет, только отпусти, не хочу я за этого замуж идти! Отпусти!
Жених заробел, сидит и ждет. В глаза мне засматривает.
– Вставай! – цыкнул я на нее. – Замуж тебя выдавать будем. Вот тебе муж, не парень – орел!
– На кой он мне сдался, орел твой, отпусти ты меня! Умру, а шагу дальше не сделаю!
Выхватил я свой левольверт и упер ей в грудь.
– Восьмерых, – говорю, – я на тот свет отправил, ты, – говорю, – девятой будешь! Восемь душ – ты девятая, коль немедля не встанешь и вперед не пойдешь!
Струхнула девка, встала. Идем мы, идем – светать начало. Смотрю – перевалили мы уже через Хамам-бунар и по Кривому гребню к Девлену спускаемся. Всю ночь шли: где по тропе, где напрямки, через кусты да заросли продирались, так что лоскутка целого на нас не осталось – точно гребнем прочесало, каким шерсть чешут. Ладно, нам-то плевать, хоть нагишом, без штанов идти, а вот девке, как ей-то в городе показаться? Говорю я жениху:
– Шагай в город, принеси ей одежи, не вести же: ее в Девлен– такой оборванкой!
А он отводит меня в сторону и шепчет:
– Пойти-то пойду, только ты пока оставь меня а нею один на один, маленько я ее приласкаю может, она тогда поукротится…
– Ладно, – говорю.
Прошли мы немного, и принялся я пояс себе разматывать.
– Идите, – говорю, – вперед, я малость поотстану, нужду справлю.
Они дальше пошли, а я стою. Но из виду их не выпускаю. Гляжу, остановились посередь дороги, жених вроде что-то сказал ей и подножку поставил. Она растянулась, а он повалился на нее. Не поддалась девка: как подожмет ноги, да как вытянет, жених и полетел кубарем прочь, два ли, три ли раза кувырнулся – уж и не знаю. Эх, думаю, растяпа. Коль не по тебе дело – не берись!
Догнал я их, пошли мы дальше. Послал я жениха за одежей, а мы с Эминой сели аккурат над самым Девленом дожидаться, покуда он одежу эту принесет. Уставилась на меня Эмина и говорит:
– Зачем позволяешь слюнтяю этому меня обслюнявливать? Не надо мне такого мужа. Скорее руки на себя наложу? а в Девлен не пойду!
– Пойдешь, – говорю, – нельзя не пойти. Мне за тебя деньги плочены!
– Коли в деньгах дело, – Эмина мне в ответ, – мой брат тебя с ног до головы золотыми засыплет, только отпусти ты меня!
– Уговор, – втолковываю ей, – дороже денег. Не миновать тебе в Девлен идти.
– С тобой, – говорит, – не только в Девлен, на край света пойду, а с ним – ни в жисть!
Ишь ты, куда дело-то повернуло! У меня, правда, дома своя баба была, да разве этой чета? Эта бела, как сметана, глаза точно нож в сердце вонзаются, а грудь, брат ты мой, ну – печь горячая: тесто кидай, хлеб пеки да ешь!
– Согласен? – спрашивает. – Вот она я!
И тогда – ох, сладок грех! – опрокинул я ее на одном краю поляны, а опамятовались мы аж на другом краю. Ни единой травинки, скажу я тебе, непримятой не осталось! Пока что, думаю я, все любо-дорого, а дальше как быть? Взять ее за себя – ремесло свое опозорить. Не взять – ранить ее в самое еердце! Она почуяла, что засомневался я.
– С тобой, значит, пойду? – спрашивает, а глазищами так и сверлит. В самое нутро мое вонзилась, проклятая баба! Дброго бы я дал в такую минуту, чтоб два сердца иметь – одно, значит, чтоб честь соблюсти, другое – для утехи, а оно, неладное, всего ведь одно! Хоть рассеки его, хоть пополам разорви – все равно одно и есть!
Ну, честь все ж таки перетянула, и сказал я ей:
– Не со мною пойдешь, а с ним. Ничего не поделаешь.
Как она тут завопит:
– Не пойду!
– Пойдешь! – говорю.
– Не бывать тому! – И кинулась прочь. Только что лежали мы, в глаза друг дружке глядели, а она прочь бежать. Я швырком на брюхо и хвать ее за пятку. Она ни встать мне не дала, ни приподняться – завертелась волчком, кружит, волокет меня по камням да колючкам, поляну-то, как гумно, можно сказать, измолотила, несчастная! Но я мертвой хваткой держу ее за ногу, не выпускаю. Под конец умаялась она и упала. Я тоже себе бока поднамял, да что делать было?
Передохнули мы, посидели малость, я и спрашиваю:
– Ну, а теперь как – пойдешь, что ль?
– Делай, – говорит, – со мной, что хочешь.
Тут наконец и жених явился. Приодели мы ее и стали в город спускаться. До дому, как говорится, рукой подать – мост перейти и все. Закончили, значит, дело, как следует быть, полегчало у меня на сердце, повело песни петь…
Да-а… Самое, оказалось, время для песен…
Только это мы к мосту подошли, глядь – бросается нам наперерез кто-то, лица не разглядеть, и орет:
– Сто-ой, гад!
Увидал я дуло ружейное – ну, метрах в десяти от себя, самое большое. Да еще голову перевязанную увидал, и тогда дошло до меня: ведь это брат ее, невестин-то… Знал' он, что к Девлену ниоткуда больше не подойти, вот и поджидал нас у реки, под мостом. Жених как расчухал, в чем дело – а шел он позади меня, – нырнул в межу, под куст, а я остался один посередь дороги. Одна рука на перевязи, левольверт за пояс глубоко засунут, покуда выхватишь, тот сто раз меня из ружья своего прикончить успеет,
– Стой, ни с места! – орет мне невестин брат и, значит, навстречу идет – сестру отымать… А ружье свое на меня наставил. Но тут, брат ты мой, хошь верь – хошь не верь, сестрица его, которую мы целую ночь волоком тащили, все на ней в клочья изодрали, вдруг – прыг! – : сбоку от меня была, а впереди очутилась. По своей воле! Ухватил я ее за пояс здоровой рукой и кричу брату:
– Шаг один сделаешь – брошусь с твоей сестрой в реку!
А река под ногами так и кипит – страшное дело! Ну, он и застыл на месте, а я задом, да через мост – на ту сторону. Сестру его крепко держу, не отпускаю, а он только смотрит – ни вдогонку не бежит, ни стрелять не стреляет… Вот когда привелось увидать: человек что мумия, что свеча восковая, в лице – ни кровинки! Постоял он, будто окаменелый, потом ружье швырнул, лицом в ладони уткнулся и – заплакал! Никогда я до того не видал, как мужик плачет, а вот привелось… Хотел я вернуться, отдать ему сестру, а нельзя: одно дело – хотеть, другое дело – мочь, а третье и четвертое – взять да сделать.
Так вот и доставили мы невесту в Девлен. И первым делом к мулле, чтоб окрутил их. Мулла спрашивает ее:
– Согласна ли ты стать женой этого человека?
– Не согласна! – кричит. Тут и мулла раскричался:
– До чего супротивная баба! Живого места на ней нет, а она – свое! Веди, – говорит, – Шебан, ее назад в лес, пускай посидит там одна, может, в разум войдет.
Испугалась тогда девка – и сдалась. Окрутили их…
– Ну, а потом, Шебан-ага, что потом с ними стало? – спросил я.
…Потом-то? Два месяца прожили они, самое большое… Как-то раз говорит она моей жене:
– Пойдем, соседка, со мной в поле. Поучи меня кукурузу сажать, потому не умею я сажать кукурузу-то.
Муж отпустил ее (а до того дня никуда не пускал), и пошли они с женой моей, чтоб жена поучила ее кукурузу сажать. Пошли, значит, вместе, а воротилась жена одна. Молодайка-то не воротилась – через реку перебралась да назад в родное село ушла.
Вскорости прислала она мне весточку – приходи, мол, потолковать надо. Я, конечно, пошел, и вот что она мне сказала:
– Разведи меня со слюнтяем этим, а я за это дам тебе все, что попросишь.
– Что же дашь-то? – спрашиваю.
– Два золотых, материи на три пары обмоток и кожи на царвули …
(Царвули – крестьянская обувь из сыромятной кожи.)
Вон сколько всего посулила.
– Коли так, – говорю ей, – не беспокойся. Считай, что дело сделано.
Воротился я в Девлен и сразу принялся за своего соседа:
– Брось ты ее, – говорю ему, – что ты ни делай, по своей воле она к тебе не воротится. Хочешь, чтоб женой тебе была – надо сызнова умыкать ее, как в тот раз умыкали.
– Ни за что! – перепугался он. – Нипочем вдругорядь за такое дело не возьмусь, лучше уж бобылем
свой век буду доживать.
– Коли так, – говорю, – брось ты ее, мы тебе другую умыкнем, смирную, чтоб жить тебе да поживать и горя не знать!
– Сколько, – спрашивает, – возьмешь с меня в этот раз?
– Да по сотне, – говорю, – мне и сподручникам моим, да две сотни на пропой, всего, выходит, полтыщи.
– По рукам! – говорит. – А той, бешеной, поди скажи, чтение надо мне ее больше!
– Зачем я ей говорить буду? Сходим вместе в Настан, мулла разведет вас, и дело с концом!
Сходили мы в Настан, развели их, потом другую невесту ему присмотрели и умыкнули ее. Только на этот раз умыкание совсем другое было: чуть ухватили ее за косы, она сразу притихла…
А та, как посулилась, и два золотых отдала, и все прочее… Много я баб умыкал, но эта, брат ты мой, присушила мое сердце, потому – всем бабам баба, что ни возьми – все при ней! По сию пору вспоминаю о ней и жалею. Да ведь как давеча говорил я тебе: одно дело – хотеть, другое дело – мочь, а взять да сделать – это уж третье и четвертое.
ЗАНОЗА В СЕРДЦЕ
Сижу это я на днях у себя во дворе, старые кости на солнышке грею, вижу – идет мимо Юмер, пастухом он у нас в кооперативе, Расиму зятем доводится.
– Здорово, – говорит, а сам головой мотает.
– Здравствуй, – говорю, – здравствуй! Чего это ты башкой вертишь?
– Оттого, – говорит, – верчу, что мы там, в кошарах, не знаем, где подмогу найти, людей нету, хоть рожай, а ты тут посиживаешь, носом клюешь. Пошли, говорит, подсобишь малость, а то– я с ног сбился.
И деньжат подработаешь, и посмотришь, как искусственное обсеменение делается.
– А вы чего обсеменяете? Пшеницу, рожь?
– Какая пшеница? Ты что? Овец обсеменяем! Вишь ты, овец обсеменяют! Какая мода пошла!
– Это что же, Юмер, – спрашиваю, – бараны все перевелись, что вы взялись овец обсеменять?
– Перевелись, – говорит, – не перевелись, а нехватка есть. Пошли, сам увидишь. А я тебе каждый вечер куркмач варить буду!
С того дня, как я себе ногу повредил, я ни разу в лесу не бывал, даже заскучал по нему, да и погодка выдалась славная, солнышко ровное такое, нежаркое. Отчего, думаю, не сходить с Юмером на овечье зимовье, поразмяться малость да поглядеть? Крикнул я своей старухе:
– Давай неси ямурлук! Да хлеба в мешок положи!
(Ямурлук – суконная бурка.)
Юмер до того обрадовался, что подмогу себе нашел, рожа расплылась от уха до уха. Подхватил и ямурлук мой, и мешок, чуть меня самого на загорбок не посадил! Старуха, было, осерчала, но я посулился грибов принести, и она смилостивилась.
Ать-два, ать-два, и полезли мы на Кривой верх, где у нас кошары стоят. А верх этот не зря кривым зовется – тут тебе и тенек, и припек, и кругом все видать как на ладони! И до чего же много всего видать, аж дух забирает! Перелиица, к примеру, стоит, насупротив, вся темной елью точно чадрой укутанная. А левей нее Карлык белолобый, мало ему на земле места, так он в небо полез, невесть чего ищет! А за Карлыком еще вершины тянутся, друг к дружке жмутся – зеленые, желтым прихваченные; какие – острые, как песий клык, какие – округлые, гладкие. Загляденье, да и только!
Юмер говорит мне:
– Хватит, дядя Каню, глаза таращить, давай дело делать, покуда светло, потому скоро смеркаться начнет.
Пошли мы с ним в барак ихний. Внутри барак как барак, в одном углу пол настлан, и окошко есть, и печка, а в другом высится этакий космётый барани-ще – меринос! Уставился на меня, глаза кровью налитые, шею напружил, вот-вот бросится и подцепит меня своими страшенными рогами.
– Юмер, – говорю, – остерегись!
– Ничего, – отвечает Юмер. – Он оттого злобится, что третий день ни овцы, ни ярочки не видал. – А как, – говорит, – мы ему сейчас овцу предоставим, он враз отойдет, перестанет злобиться. Веди, – говорит, – сюда овцу, только смотри – беленькую какую, до черных он не больно охочий… Он, – говорит, – у нас русской породы и, видать, больше к светлым привык.
Приволок я из загона овцу. Баранище, как увидал меня, голову задрал, с ноги на ногу переступил, всхрапнул да и застыл на месте.
– Пускай овцу! – говорит Юмер. – А сам у двери стань.
Ну, отпустил я овцу, отошел к двери, а баран не на овцу глядит – на меня.
– Стесняется, – говорит Юмер. – Да ничего, привыкнет. Ты не бойся! Обсеменение, – говорит, – зоотехник проводить должен, а он заместо того, чтобы дела делать, дернул в Лясково к учительше, а здесь все на меня свалил. А мне одному нешто управиться? То ли овцу держать, то ли у барана семя собирать…
Юмер, значит, приговаривает себе, а я с барана глаз не свожу. А уж баран, доложу я тебе! Хоть и хромый я, а все равно стоит на гору влезть, чтобы на такого глянуть. Да это, милок, и не баран даже, цистерна цельная – знаешь, бочки такие бывают, литров на двести! Вообразить невозможно! Лохматый, косматый, шерсть до самой земли свисает, чуть шевельнется, так тебя жаром и обдает! У нашенских баранов взгляд ангельский, а у этого глазищи сверху словно бельмами занавешены, а снизу он как глянет на тебя – точно ножом полоснет! О рогах и говорить нечего – закручены почище иной чалмы! «Эта махина, – думаю, – только тронет овцу – вмиг раздавит,
А коли, не дай бог, рогом ткнет – от овцы одно мокрое место останется!»
Пока я все это соображал, меринос одолел стыд и пошел к овце. Подступился к ней, шею вытянул и – глядь! – мордой к ее морде прижался и замер. Целует, значит! Овца стоит как привязанная. А он голову повернул, проверил, на месте ли вымя, да опять взялся лизать ее к ушам, вроде как причесывает. Как до ушей дошел, всхрапнул. Овца шевельнулась.
Кричу Юмеру:
– Держи овцу! Убежит! А Юмер мне:
– Не бойся, уговорит он ее. Пускай чуток поломается, женский пол без фасону не может. Ты, – говорит, – покури пока, еще время есть! Кавказские мериносы, они особого нрава. Об одном, – говорит, – прошу. Как соберется он на нее вскочить, ты хватай ее за уши и держи, чтоб смирно стояла, а я подставлю посудину, чтоб зоотехниковское дело сделать. Покуда милуются они, время есть, а вот как кончат – не зевай!
Только он это сказал, баран наш как начнет загребать копытами, вроде землю роет… Шею выгнул, то одним копытом притоптывает, то другим, потом морду задерет да раза два-три обежит вокруг овцы, космы тек и развеваются. Потом опять замрет, и опять примется перебирать копытами, плясать…
Уж и не знаю, пляска то была или это он силу свою перед овцой показывал, удивить, поразить ее хотел, но чудно было глядеть, как этакая махина носится, развевая космами, молотит по земле копытами, распаляется и сопит, пока пена не выступила. Тут баран, запыхавшись, опять подошел к овце и лизнул ее в морду. Она тоже его лизнула… И тогда, попригладив ее от ушей до хвоста, он полез покрывать ее…
– Держи ее за уши! – заорал Юмер.
– Сам, – отвечаю, – держи! Я посудину подставлю!
Юмер, значит, ухватил овцу за уши, а я подставлять посудину не стал, отпихнул ее' ногой, и меринос покрыл овцу по всем законам божьим… Обидно мне показалось, чтобы после таких целований да милований все прахом пошло!
Юмер как на меня напустится:
– Рехнулся ты, что ли, или шутки шутишь? Да мы с одного такого захода могли б не одну, а с полсотни овец обсеменить!
– Ничего, – говорю, – он еще сдюжит.
– Да ведь ему еще разогреваться надо! А на дворе, глянь, смеркается уже. -
– Разогреется небось. Это тебе не разогреться, а он разогреется!
Тут мой Юмер совсем взъярился:
– Ты на что это намекаешь? А ну, выкладывай!
– Садись, – говорю, – и нечего на меня глаза выкатывать. Угости цигаркой, я тебе все и выложу… Только не забывай и на барана поглядывать.
– Чего мне на него глядеть? После драки кулаками не машут!
– Вот сейчас самое время на него и глядеть – после драки-то. Ты скажи мне, он чего сейчас делает?
– Овцу лижет.
– То-то и оно! Ты б на его месте уже давно бы храпел, а он кавалер, лижет ее, благодарит, значит.
Засмеялся Юмер:
– Ишь, до чего додумался!
– А ты, каждый божий день на овечьи свадьбы глядючи, никогда ни до чего такого не додумывался?
– Додумывался, – говорит, – как не додумывался.
– И до чего ж ты, – спрашиваю, – додумался? Посудину подставлять? «Додумался» он… Ладно, давай следующую свадьбу ладить, а то стемнеет. Да не на пуп свой, а на барана гляди, как он действует. И ума у него набирайся!
Вывели мы первую овцу, привели вторую. Я думал – вторая свадьба на дню, так баран долго цацкаться не будет. А он, брат ты мой, опять обхаживает ее, целует да шерсть расчесывает, и опять – пляски, поклоны да угождения!
Сыграли мы и третью свадьбу, и четвертую, материала для обсеменения собрали не на полсотни – на полтыщи Овец.
Тут я Юмеру говорю:
– Давай корми мериноса и спать пошли!
– А куркмач варить не будем?
– Не будем! Спать ляжем!
Загнали мы овец в кошару и легли. В бараке, показалось мне, духотища так что легли мы на вольном воздухе под Открытом небом, как говорится. А уж небо в ту ночь было —и не пересказать! Звездочки высыпали яркие, то Росой умытые, одни этак робко-робко помаргивав другие – сурьезные, – не шелохнутся, в глаза тебе заглядывают и допытываются:
«Ну как, дядя Каню
«Да вроде хорошо все
«Хорошо-то хорошо, а могло бы ку-уда лучше быть! Ну-ка, поразмысли!
«Да уж мыслил, хватит с меня! Время спать!
«Может, и время, да ведь не уснуть тебе! – Так и режет мне правду в глаза С9мая высокая и ясная звездочка. – Потому что совесть У тебя нечистая. Сорок лет с женой живешь, а скажи честно, как на духу: хоть раз в жизни поплясал ты так перед женой перед своей? Поплясал, а? Догадался ль хоть раз приласкать ее? На ухо словечко любезное шепнуть, как шептали друг дружке баран с овцой
– Юмер!.. Дай-ка спичку» ~ говорю. – Костер разожгу. Не спится что-то.
– Чудно! – говорит Кечер. – И мне тоже.
– С чего бы?
– Да жестко. Должно, мало сена подстелил.
– Что ж, говорю, подстели побольше. Только хоть копну целую подстели мягче тебе не станет. Потому не снаружи тебя колет а изнутри. Понял, нет?
Сник мой Юмер, словечка в ответ не сказал, но поднялся. Разожгли мы с ним костер, искры запрыгали, звезды попрятались, и остались мы с ним вдвоем с глазу на глаз.
– Болит, – говорит, – у меня вот тут, внутри!
– Может, баран задел?
– Не баран, – говорит, – а ты меня задел, ты! Словами своими! Так задел, что по сю пору очухаться не могу!
Уж коли Юмер, завзятый молчун, за один раз столько слов вымолвил, значит, и впрямь крепко его зацепило.
– Ты, – спрашиваю его, – не слыхал, какие слова мне давеча звезды говорили?
– Звезд я не слыхал, я слушал, как птичка тут одна заливалась: пе-ень… пе-ень… Слушал я ее и дивился: как это она меня раскусила?
– А звезды? – говорю. – Как это звезды раскусили меня и такого мне давеча наговорили! – И пересказываю ему все слово в слово, а Юмер мой глазами сверкает:
– Хватит, хватит! Не о том вовсе речь!
– А об чем, – говорю, – тогда речь? Скажи, может, полегчает тебе малость! Тут, по крайности, никто не услышит. Вон и звезды попрятались, и птичка угомонилась, ни от кого помехи не будет.
– На мне, – начал Юмер, – на мне, – говорит, – дядя Каню, столько грязи, что хоть все стадо овечье на сало перетопи да из того сала мыла навари, все одно меня не отмыть! Я, – говорит, – когда пьяный напьюсь, а жена со мной не ложится, так я, – говорит, – ее к кровати веревкой прикручиваю!
– Не вздыхай ты так горько, и на мне грех есть, только и разницы, что я свою и без веревки скручивал!
– Смолкни, – говорит он, – кончай! А то зверь какой или птица услышат и ославят нас на весь лес.
Сидим мы у костра, греемся и молчим, а потом Юмера опять разобрало:
– Скажи что-нибудь, – говорит. – Не молчи!
– Я свое отжил, что я сказать могу? Мне только и остается, что казнить себя, а тебе, – говорю, – всего тридцать четвертый пошел! Гляди на барана, бери с него пример и посмотришь, что тогда будет.
– Ну хорошо, – говорит Юмер. – Неужто мне плясать вокруг жены? Хоть мы, – говорит, – с тобой по крови братья, но я, перво-наперво, мусульманской веры, и люди меня на смех подымут, ежели я вокруг бабы плясать начну.
– Ну, друг, – говорю, – ты впрямь дурак или только прикидываешься? Перво-наперво плясать ты будешь не посередь села, а дома, у себя в четырех стенах. Да, и попляшешь! Без притопов там всяких и прихлопов, а просто заведешь патефон, возьмешь жену за руку и… Ты бабу свою целуешь когда?
– Я, – говорит, – прямо тебе скажу, зубами я на нее скриплю, а на поцелуи времени не хватает.
– Времени у него, вишь, не хватает! Накостылять бы тебе сейчас по шее как следует, а за что и про что, и объяснять не надо. Такая ему смирная жена попалась, а он на нее зубами скрипит! Как волк ощеряется! Ну, а она что? Когда ты на нее зубами скрипишь?
– Лицо покрывалом закроет, дрожит, как тростиночка, и молчит.
– Смолкни, – говорю, – кончай!
Опять замолчали мы. Юмер палкой угли ворошит, голову на грудь свесил и знай вздыхает. Золу вздохами своими, как мехами, раздувает. Жаль мне его стало, но я все ж таки опять принялся цеплять его.
– Был бы я на твоем месте да в твоих годах, поглядел бы ты тогда на меня! Воротился бы я в село, завернул в корчму, запихнул бы за пояс бутылочки две вина да заявился домой ужинать. «Давай, жена, – : сказал бы я, – откушаем с тобой да выпьем по стаканчику за красу за твою да здоровьичко!» Потом подсобил бы со стола прибрать… а там… «Поди-ка сюда, жена милая, приляг, сердце твое отогреть хочу…» Женское сердце отогреть легко. Ни огня не нужно, ни пламени, ни щепок на растопку, нужно только словечко ласковое на ушко шепнуть, вон как давеча баран овце шептал. Чего уж легче! Я овечьего языка не знаю, но все понял, чего он ей нашептывал: «Душа моя, – говорит, – до чего ж ты хороша, до чего люба мне». По головке легонько погладишь – видал, как беран-то овце шерсть приглаживал? Рукой погладишь– у барана рук нету, а у тебя есть! Понял?
– Смолкни! – вскинулся опять Юмер. – Кончай!., Все я понял.
– А коли понял, собирайся да шагай домой, село – вон оно где, село наше, а я посторожу овец до утра, покуда ты вернешься.
…На другое утро приходит мой Юмер, а за ухом у него цветок красный заткнут.
– Как дела? – спрашиваю.
– Красота! – ухмыляется Юмер. – Твой баран, – говорит, – в подметки мне не годится! Но я ему благодарен, будет он мне как брат родной, на каждый рог ему по свечке большой поставлю – одну от меня, другую от моей Незифе.
Три дня пробыли мы с Юмером в горах, а потом насобирал я грибов, хворосту немного и воротился домой. Вытряхнул старухе эти дары – и прямиком в совет.
– Скажи, председатель, ты свою бабу к кровати прикручиваешь?
– Зачем мне ее прикручивать? Я только гляну на нее, и все!.. А что это тебя прихватило – в твои-то годы? Почему спрашиваешь?
– А потому спрашиваю, что у нас в селе мужики жен либо к кровати прикручивают, либо зубами скрипят, либо взглядом страх наводят. Так отчего б не раздать мужикам пистолеты? Наставишь на нее пистолет– и дело с концом!
Встал председатель со своего стула, подошел ко мне:
– А ну, – говорит, – дыхни! Дыхнул я.
– Вроде не пьяный, чего ж с утра звон поднял? -
– Я тебе, – говорю, – скажу, чего.