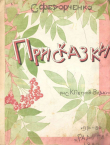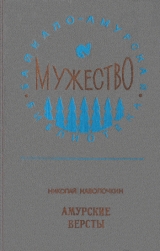
Текст книги "Амурские версты"
Автор книги: Николай Наволочкин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 24 страниц)
– Николай Николаевич в гневе на моряков. Мне рассказывали в Усть-Зейской станице, какую грубую гонку он устроил капитан-лейтенанту Сухомилину, когда тот с большим опозданием привел «Лену» из Шилкинского завода, – говорил Венюков. – Никаких оправданий капитана генерал и слушать не хотел, он отрешил Сухомилина от командования и довел его до истерики, у него даже пошла горлом кровь. Я застал Сухомилина в Усть-Зее больным, брошенным в неопределенном положении. Он не знает: в ссылке он там или просто забыт, и говорит о Муравьеве только с чувством глубокой ненависти.
– Я догадываюсь, что у генерал-губернатора накипели на сердце против моряков, – сказал Дьяченко, достав приказ о возвращении батальона и показывая его Михаилу Ивановичу. – Видите, вместо станицы или указания другого места, где состоялся приказ, он написал: «Пароход «Лена» – и не удержался, чтобы не прибавить слов: «на мели». И я думаю, что если бы это не была официальная бумага, то Николай Николаевич написал бы: «разумеется, на мели».
– Да, надпись примечательная, – согласился Венюков. – А у вас постройки идут живо, и число домов значительнее, чем где-нибудь. Значит, будете возвращаться в конце сентября?
Дьяченко кивнул.
– А успеете пройти по Шилке до ледостава?
– Рассчитываю успеть. Пойдем налегке. На баржах будут только солдаты да провиант. Четвертую роту, сплавившуюся на плотах, возьмем к себе на баржи.
Венюков со своей командой заночевал в Кумаре, снял ее план и на следующий день отправился дальше вверх по Амуру.
Проходил сентябрь. Все чаще вплавь на лодках или на лошадях «вершими», как говорили казаки, стали заезжать в станицу офицеры, возвращавшиеся на Шилку, а потом державшие путь в Иркутск.
Линейцы поговаривали о Шилкинском заводе, как о своем доме. Как-то со временем забывалось, что там начнется строевая муштра, а потом, глядишь, придется делать биржи для новою сплава. Снова готовиться в путь, а куда – неизвестно. Но все это было далеко. Главное, скоро на зимние квартиры!
Михайло Леший угодил сотнику, сложил ему отменную печь, и тот пожаловал его стаканом спирта. Хватив стакан, Михайло лишь чуть-чуть захмелел и решил в этот день пошабашить. А чтобы Ряба-Кобыла не дал ему какой новой работы, отправился в лес, по дороге, проторенной казаками на сенокос.
Уже золотились, пока только с вершин, осины. Издали похожий на усыпанный цветами куст пламенел клен. Краснели зонтиками ягоды рябины. Цветом янтарного меда желтели листья берез. И воздух в лесу, казалось, впитал в себя запах сотового меда, приятную горьковатость рябиновых ягод и опавших листьев.
В стороне от дороги Михайло увидел пожухлую листву невысоких кустов лещины, решил набрать орехов и забрался в чащу. С края зарослей орехи кто-то уже обобрал, или ребятишки из станицы, или казаки, ходившие на покос. Зато дальше орехов оказалось много. Набивая карманы очищенными орехами, Михайло вдруг увидел, что со стороны покоса идет женщина. Он пригляделся и узнал Дуню.
С того дня, когда Михайло так старательно крутил ей жернов, он обходил казачку, чем очень обрадовал Кузьму. Старый солдат был доволен – нечего лезть к мужним женам. Как-то Леший пытался с ней заговорить, но казачка, сверкнув белозубой улыбкой, не задерживаясь, пробежала мимо. Солдат вздыхал, глядя ей вслед. Он не мог забыть тот единственный счастливый денек, когда ласкал ее, такую отзывчивую. Но, видно, Дуня больше его не приветит. И сейчас, увидев женщину, он отвернулся, будто занятый орехами. «Окликнет – заговорю, а нет – пусть себе бежит».
Обрывая орехи, Михайло прислушивался к шагам на дороге. Вот Дуняша приближается, вот поравнялась, сейчас окликнет: «Здравствуй, солдатик!» Нет, пробежала мимо. Леший обернулся. Казачка уходила торопливым шагом, не оборачиваясь. В руке у нее покачивался узелок, наверно, носила мужику своему обед. Солдат пожалел, что сам не окликнул Дуню, а потом подумал, что так лучше, и принялся рвать орехи в фуражку. «Нарву, – подумал он, – полный картуз и понесу Кузьме с Игнатом».
Занятый орехами, он даже вздрогнул, когда совсем рядом услышал тихий голос:
– Михайло!
Солдат поднял глаза и увидел Дуню. Она подошла неслышно и стояла у самого орешника. Встретившись взглядом с Михайлом, Дуня опустила глаза и почти зашептала:
– Ой, стыдобушка какая. Увидела тебя и обмерла. Думаю: пробегу мимо, а ноженьки-то сами завернули, и вот я тута…
Она отступила на шаг, словно стараясь перебороть себя и убежать от этой встречи. Михайло, выронив из рук фуражку, шагнул к ней и прижал казачку к себе.
– Ой, солдатик ты мой, – говорила потом Дуня, пряча от Михайлы блестящие от слез глаза. – Казак-то мой уже побивать меня начал. Пятый год живем, а дитя у нас нету. Может, будет теперя, ты же вон какой крепкий…
25 сентября, в пасмурный неуютный день, прибыла в Кумару рота подпоручика Прещепенко. А на следующее утро, такое же по-осеннему хмурое и сырое, первая рота расставалась с построенной ею станицей.
На берегу собралось все, от мала до велика, население станицы. Давно перезнакомившиеся солдаты и казаки тянули друг другу кисеты, услужливо подносили тлевший трут, говорили:
– Кланяйтесь там Аргуни-матушке.
– Бывал и я в Шилкинском заводе, вот где народу-то, и как там люди живут.
Богдашка шагу не отходил от Кузьмы, тянул к нему свою робкую младшую сестренку. Кузьма давно познакомился с отцом и матерью мальчишки. Даже как-то помог им ставить стог сена. И сейчас говорил степенно:
– Живите тут, не робейте.
– Так куда денешься, придется, – отвечал казак.
– Заезжайте. Как будете в другой раз проплывать, милости просим, – приглашала его жена.
– Спасибо, – поблагодарил Кузьма.
Прозвучала команда на посадку, потом – «убрать сходни» и наконец – «отваливай!» Обернувшись к берегу, сложив руки рупором, капитан Дьяченко крикнул:
– Счастливо оставаться, казаки!
С берега неслось: «Бог в помощь!» Казачки утирали уголками платков глаза. Улыбалась сквозь слезы и махала платком, увидев на корме баржи Михайлу, Дуня.
13-й линейный Сибирский батальон отправлялся на зимние квартиры.
14
«О-сень, о-сень», – холодно плескались мутные амурские волны, накатываясь на песчаные отмели, замывая следы солдат-линейцев. «Осень», – шелестел ветер сухой и ломкой листвой тальника над кострищами солдатских бивуаков. Ушли солдаты с Буреи и Хингана в Усть-Зейский пост, с Верхнего Амура – в Шилкинский завод и оставили по левобережью реденькую цепочку из пятнадцати станиц.
Тянули над новым жильем с севера на полдень вереницы гусей и журавлей. Быстрыми стаями проносились утки. Пусть и не в родные для казаков места торопилась птица, а все равно днем и ночью тревожила она новоселов своими криками.
– Крылышки бы нам, – кручинились казачки, провожая глазами говорливый клин. – Слетать бы в родные места, взглянуть бы хоть одним глазом, как оно там.
В конце октября, когда отгомонили последние косяки, в станицу Толбузину прибыли запоздалые путники. Две вконец измученные лошади, еле переступая сбитыми ногами, тащили вьюки. С двух других спешились тучные, бросившие давно бриться и смотреть за собой, полковник и подполковник. Офицеров сопровождал младший урядник и два казака из новоселов станицы Ольгиной.
Остановились приезжие у дома урядника. Офицеры, косолапя после долгой езды верхом, сразу ушли в дом, а младший урядник и казаки принялись развьючивать лошадей.
Дед Мандрика ладил стайку, однако не удержался и поковылял посмотреть на свежих людей.
– Да никак это Роман! – воскликнул он, признав в младшем уряднике сына сотника Кирика Богданова из родной Усть-Стрелки.
Роман, исхудавший и измотавшийся за дорогу, тоже узнал станичника. Прежде, у себя в Усть-Стрелке, бедняка да еще и малолетка Мандрику он почти не замечал, а тут обрадовался:
– Здорово, дед! – пошел он навстречу, протягивая руку. – Ай живешь тут?
– Тута мы, – сказал Мандрика. – Всем гнездом. Я с Марфой да Иван с молодой женой.
– Иван! Да когда же он женился?
– На Амуре, – щуря глаза в улыбке, объяснял Мандрика. – Рассказать, паря, не поверишь! Прямо на плоту свадьбу играли.
– Кого он взял-то? – интересовался Роман, сам оставивший в Усть-Стрелке невесту.
– Так соседа моего покойного Кузьмы Пешкова дочку Настю.
– И Настя здесь?
– И где ей быть, ежели она законная жена, – засмеялся Мандрика.
– А как наши там в Усть-Стрелочной? Может, слышал?
– Где слышать, давно мы оттудова. А ты сам откель бежишь, Роман Кирикович?
– Ой, дед, издалека, с самого Хингана. Да рассказывать о том долго.
– Ну ты заходь, заходь до нас. Чайку попьем да побалакаем. Вон он мой дом.
– Спасибо, непременно зайду. Вот только кладь во двор снесем да господ своих устроим.
Еще в начале июля приказом по войскам Роман был произведен в младшие урядники и назначен писарем путевой канцелярии подполковника Хильковского. Подполковник направлялся наблюдать за постройкой станиц Иннокентьевской и Пашковой.
Поехал Хильковский с неохотой, но рьяно взялся за дело, часто из станицы Иннокентьевской, где он жил, выезжал в Пашкову, придирчиво осматривал новые дома, вникал во все дела. Но в средине августа в Иннокентьевскую прибыл сотник Кукель и передал подполковнику пакет от генерала.
«Может, отпускает меня Николай Николаевич, – обрадовался Хильковский, давно пора домой», – и аккуратно вскрыл пакет. Но по мере того как читал он строку за строкой полученное письмо, лицо его все больше наливалось краснотой. А добравшись до генеральской подписи с росчерком, сердито брошенным вниз, подполковник несколько минут не мог произнести ни слова. Да и было от чего растеряться и выйти из себя командиру второй конной бригады, владельцу множества табунов, одному из первых богатеев Забайкалья, замеченному и, как ему казалось, оцененному генерал-губернатором.
После сухого обращения генерал писал: «По окончании постройки домов в Иннокентьевской и Пашковой, предписываю Вашему высокоблагородию возвратиться в Забайкалье, к месту своего жительства, и подать в отставку, не показываясь мне и наказному атаману Забайкальского казачьего войска, иначе будете преданы суду за неточное исполнение моих распоряжений о назначении казаков к переселению на Амур. Лично мне известно, что Вы брали взятки; вместо богатых, коим доставался жребий, посылали бедняков, которых придется с первых же дней одевать за счет казны.
Для возвращения на Усть-Зейский пост можете занять солдат, которые строят дома, а для дальнейшего следования будет своевременно сделано особое распоряжение…»
Еле придя в себя, подполковник сердито спросил у Кукеля:
– Эт-то что такое? – но, несмотря на сердитый тон вопроса, губы Хильковского тряслись.
Молодой сотник полюбовался, сколько позволило приличие, растерянностью важного и недоступного еще несколько минут назад подполковника и рассказал, как генералу, не узнав его, пожаловалась на Хильковского казачка.
Никогда не ожидавший такого поворота в своей судьбе Хильковский забросил дела. В Пашкову он теперь посылал писаря. Знал подполковник, что генерал относится к Роману благосклонно, и, подозревая молодого казака, не раз выпытывал, не он ли доносит на него его высокопревосходительству. А заметив, как Роман что-то записывает в книжку, стал требовать, чтобы он показал свои записи.
– Ты, шельмец, наверно, за мной следишь, а потом все доносишь!
Записи свои Роман показать отказался, и отношения его с начальником окончательно испортились.
– Он меня, дед, загонял, – жаловался Роман, хлебая щи за столом у Мандрики. – Не успею вернуться из Пашковой и занести в журнал постройки, что там сделано, как он кричит, чтоб я ему постирал. Я у него был и поваром, и лакеем, и прачкой. Все пришлось делать, пока не приплыли в Иннокентьевскую казачки. А теперя опять гоняет. И уж как отделаться от него, не знаю.
Марфа и Настя сочувственно слушали казака, потчевали его всем, что было в доме. Как же, свой человек, усть-стрелочиый казак. Иван только раз заскочил в дом за уздечкой, поздоровался с Романом, но слушать ему было недосуг: надо было бежать за станицу, привести коня. Урядник отрядил его и еще одного казака сопровождать господ до Албазина.
– Как у вас тут кони, справные? – поинтересовался Роман.
– У нас, слава богу, ничего. У нас теперя два коня – у Ивана с Настей свой да у меня Васьки Эпова – с гордостью рассказывал до этого безлошадный Мандрика. – Иван то на одном, то на другом ездит. А у других, у кого по одной, беда как загнаны. Вроде тех, на каких вы до нас добирались.
Плохие лошади у казаков, – подтвердил и Роман, принимаясь за жареных карасей. – До Усть-Зейской станицы плыли мы на лодках. А дальше плетемся ни пешими, ни на конях. У Хильковского одного имущества на две лошади. На одной с самой Зеи ящики какие-то везет, на другой вьюки. До Бибиковой ехали хорошо, на семи лошадях. На трех – вьюки, а еще на четырех подполковник, я и казаки-коневоды. А в Бибиковой оказалось всего пять лошадей, да и те так изнурены, что жалко на них смотреть. Выбрали там четыре лошади: три под вьюки да одну Хильковскому. Я с казаками до Корсаковой шел пешком. А там догнали полковника Ушакова, что нынче с нами приехал. Увидел я его и обмер. Он на меня еще с лета серчает.
– Господи, полковник! А чего бы это он на тебя сердце держал? – спросила Марфа.
– Ой, долго про то баить… Как еще в Усть-Зейской были, генерал приказал мне докладывать о всех прибывавших: кто на чем и с чем приплыл, сколько у него сплавных и каких именно судов. От начальников отрядов я брал записки, что сплавлялось и куда.
Когда пришла лодка Ушакова, я тоже спросил: кто приплыл? А он увидел, что спрашивает простой казак да и закричал: «Тебе-то какое дело? Убирайся к черту!» Я ему тогда докладываю, что имею личное приказание генерал-губернатора спрашивать всех, и каждый обязан говорить. Он мне на это: «Убирайся отсюда, болван, пока я не приказал тебя высечь. Я начальник гражданского сплава полковник Ушаков». А я спрашиваю: «С чем плывете и куда?» Полковник совсем рассвирепел: «Ты еще здесь, наглец ты этакий! Марш с моих глаз. Сейчас я сам приду к его высокопревосходительству и лично доложу. Не твоего это ума дело!»
Я явился к генералу и все доложил. «Тут ли баржи?» – спросил он. Я ответил, что Ушаков прибыл на лодке, а плывущих по Амуру барж не видно.
Скоро подошел Ушаков и начал докладывать. Но генерал перебил его: «Где баржи?» – «Остались на мели…» – пробормотал полковник и хотел что-то объяснить. Но генерал не дал ему больше сказать ни слова. Отчитывал он его, отчитывал, а потом схватил меня за руку, подтянул к Ушакову и спросил, как он смел ругать посланного им казака. Полковник стал отпираться, а генерал опять перебил его и заявил: «Этому мальчику я больше верю, чем вам. Не смейте марать его! Он все мои приказания выполняет в точности! А вы, господин полковник, немедленно возвращайтесь обратно и не показывайтесь в Усть-Зее без барж!»
Вот с ним-то, с полковником этим, я и встретился опять в Корсаковой. Ушаков меня сразу узнал и тут же сказал Хильковскому, что я доносчик, испортил его отношения с генералом и навредил ему в дальнейшей службе. А когда они решили ехать вместе, я совсем перепугался. И с Хильковским мне было худо, а с двоими будет еще хуже.
Марфа и Настя вздыхали, Мандрика сосал свою пустую трубочку, а Роман, допивая молоко, продолжал свою историю.
Когда Хильковский и Ушаков сговорились ехать вместе, Роман хотел бросить их и бежать обратно в Усть-Зею. Но его очень тянуло домой. Там еще с весны ему была сосватана невеста, свадьбу отложили до зимы, и он решил терпеть.
В станице Корсаковой оказалось шесть загнанных лошаденок. Четыре из них заняли под вьюки господ, а на двух поехали Ушаков и Хильковский. Роман и корсаковские казаки шли пешком. Не раз в пути еле живые лошади ложились, и тогда хозяева их получали оплеухи, а то и розги, за то, что совсем обленились и плохо содержат коней!
Кое-как добрались до станицы Кумарской, потом до Аносовой. В Аносовой нашли только четыре истощавшие лошади. Хильковский и Ушаков решили здесь отдохнуть. Романа с вьюками отправили в следующую станицу Кузнецову, приказав ему, оставив там вьюки, спешить обратно. «Особенно смотри за ящиками. Там у меня подарки для его высокопревосходительства», – наказывал Хильковский.
Вернулся Роман по первому мокрому снегу, только на седьмой день.
– Угодил, думаю, – рассказывал молодой казак, – вошел в избу, а они оба напустились с руганью: где, мол, меня так долго черти носили. Ушаков стал кричать, что меня надо высечь. И высекли бы, да Хильковский вспомнил, что я сын офицера и от наказания розгами избавлен. Пока они ругались, я, веришь ли, дед, без разрешения выскочил на улицу, проплакался там, а потом вернулся и заявил, что далее идти не могу, сапоги совсем изорвались, и ноги я стер и сбил.
«Ну-ка, разуйся!» – не поверил Хильковский. Я снял сапоги – на ногах раны, думал: начальники мои сжалятся, а они давай меня же ругать. Я, мол, до того обленился, что даже за собой не хочу присмотреть.
Спал я на печке в соседнем доме. Утром казак заходит, говорит: «Иди, твои начальники ехать собираются». А я отвечаю: «Заболел». Думаю, останусь тут и буду ждать лета… В другой раз казак пришел, передает: «Иди, зовут». Я же решил: не поеду, и все, пусть лучше суду предадут. Тогда сам Хильковский в дом ввалился, стал грозить: «Не пойдешь – к лошади привяжем, а поведем. А если и так не пойдешь и не будешь исполнять, что я приказываю, суду предадим». На это я ему ответил: «Суда-то вы лучше сами бойтесь. Он над вами над обоими висит, а мне бояться нечего, у меня обязанность не конюха и не прислуги, чем вы меня сделали. Оставьте меня лучше тут. Не пойду же я босиком по снегу».
Он побегал по избе, постращал еще. «Все равно пойдешь, – сказал, – а обо всех твоих проделках, как о любимце генерал-губернатора, будет доложено ему же». А я ему: «Я и без вас могу написать всю правду генерал-губернатору».
Хильковский выскочил из дому, вернулся со своими старыми сапогами. «На, – говорит, – надевай!» И стал меня уже по-хорошему уговаривать. Вот так мы и идем…
На улице, у дома урядника, послышался шум, ругань. Роман вскочил.
– Ну, я побежал. Это Хильковский разоряется. Спасибо, хозяева, за хлеб и соль!
Лошади в Толбузиной были справнее, чем в других станицах. Одна из них, на которую навьючили ящики Хильковского, вырвалась из рук пожилого казака, ящики грохнулись оземь, раздался звон стекла. Лошади попятились прямо на ящики и поломали доски. Из проломов полилась красная жидкость.
Хильковский рассвирепел. Надавал затрещин казаку и приказал тут же его высечь. Оказалось, что в одном из ящиков он вез бутылки с наливкой «Шери-Кордиаль», в другом глиняные банки с японским вареньем, доставленным вместе с другими грузами в Усть-Зею пароходом «Амур» из Николаевска. Роман, хотя и ему досталось от подполковника, радовался, что теперь не придется на каждой остановке снимать эти почти трехпудовые ящики, а потом опять их навьючивать. Радовался и Иван Мандрика. Сначала ящики собирались вьючить на его лошадь, но потом Ушаков выбрал ее для себя, а то не миновать бы Ивану розог.
В Албазине Романа ожидала свежая лошадь, прислал ее отец. Но лошадь забрал себе Хильковский, а молодому казаку дал другую, похуже.
Запомнилось Роману это возвращение домой: немало упреков, окриков, а то и прямой ругани пришлось выслушать ему. Но вот миновали наконец станицу Игнашину. До Усть-Стрелки оставался всего один переход. В Игнашиной Хильковский вернул Роману его лошадь. Половину пути проехали без приключений, здесь уже была проторена хорошая вьючная тропа. Но верст за тридцать до Усть-Стрелки встретился путникам крутой подъем. Пришлось снимать с лошадей половину вьюков и каждую отдельно, понукая и подталкивая, заводить на гору.
Хильковский поднялся пешком, а Ушаков приказал, чтобы один из казаков и Роман помогли ему заехать на гору на лошади. Казак тянул ее за уздцы, Роман подталкивал, а сам Ушаков, восседая на лошади, хлестал ее плеткой. Но лошадь с тяжелым седоком не смогла взять даже первого, самого пологого подъема. А впереди было еще два.
Тогда полковник, обругав своих помощников безмозглыми дураками, отправил казака с лошадью вперед, а Роману приказал тянуть его за веревку.
Сначала все получалось так, как задумал полковник. Роман с одним концом веревки карабкался вверх и, найдя там подходящую опору, останавливался. Ушаков, обвязав себя другим концом, по сигналу Романа начинал и сам взбираться.
– Тяни! – покрикивал он – Ох ты, господи, ну и дорога! Да тяни ты! Стой! Дай дух перевести!. Пошел! – кричал он, передохнув.
Так преодолели треть подъема. Началось самое крутое место. Роман поднялся на несколько саженей вверх, сел за пень и, окликнув полковника, начал его вытягивать. Полковник ухватился руками за веревку и стал взбираться. На самой крутизне сапоги его заскользили по щебню, и он поехал вниз. Роман не смог удержать свой конец и выпустил его из рук. Ушаков шлепнулся на зад, перекувыркнулся через голову и покатился по тропе. В одном месте он ухватился за кустарник, но удержаться не смог и на животе, ногами вперед, продолжал съезжать, пока не уперся в большой замшелый валун.
Там он вскочил на ноги и, размахивая кулаками, закричал:
– Разбойник! Мошенник! Каторжник! Три шкуры спущу!
Роман, увидев, что полковник живой, не стал ожидать, когда он кончит ругаться, перепуганный не меньше, чем полковник, он полез дальше на гору. «Теперь уж непременно высечет», – думал он.
Добравшись до вершины перевала, где стояли казаки с вьюками, Роман доложил Хильковскому о беде, случившейся с полковником.
Хильковский приказал казакам бежать вниз, выручать полковника. И сам тоже направился под гору.
Роман же, вскочив на свою лошадь, помчался один в Усть-Стрелку.
По Шилке шел ледоход, однако казаку повезло. На левом берегу, напротив Усть-Стрелки, он застал баты с казаками, перевозившими в станицу сено и дрова. На одном бате он переправился сам. Знакомых казаков двух других батов попросил подождать Хильковского и Ушакова.
Уже с правого берега он увидел, как к переправе подъехали его начальники.
Но младший урядник Роман Богданов не стал ожидать их, а, пришпорив лошадь, поскакал к родному дому.
15
«Николаевск. 26 сентября 1857 г.
Наконец, после трудного, позднего, мучительного плавания, или, лучше сказать, сухохождения по дну Амура, я прибыл на самый край нашей обширной родины и пишу Вам, мои милые, добрые сестры, моя милая Мери, пишу к Вам это письмо под влиянием самых грустных ощущений и не хочу притворствовать, как это случалось в прежних письмах, и обмакивать перо в смеющиеся краски радуги, чтобы не причинить Вам грусти. Вы поймете мое положение из трех следующих слов: я зазимовал в Николаевске! Три дня как глубокий снег выше колена выпал, после грозы с громом, дождем и молниею, а у меня еще и половины груза не сдано в казну. Рабочих рук у казны нет; всю выгрузку мы производим своими рабочими, приемка самая строгая: все, что немного подмочено, а особенно мука и крупа, пересыпается и просушивается, а дождь и снег льется и валится сверху, и, к довершению затруднений, Амур до такой степени высох, что в гавани, где прежде приставали большие военные пароходы и корабли, теперь не может пройти маленькая шлюпка; баржи стоят на мели в полуверсте от пристани и магазинов, и мы должны перевозить почти каждый куль, почти каждый тюк или бочонок особо. Тщетно добрейший, благороднейший начальник здешнего края Петр Васильевич Казакевич из участия ко мне употребляет все зависящие от него средства, чтобы ускорить сдачу, но она тянется и протянется в бесконечность. Тщетно, не менее добрый Иван Васильевич Фуренгельм, начальник Аянского порта, замедляет погрузку парохода, долженствующего отправиться в Аян – время уходит, и он не может долее трех дней оставаться, когда ему льды грозят заградить путь. Я уже решил дать доверенность другому и ехать, не кончив дела, но, порассудив, увидел безрассудство своего намерения, особенно когда увидел даже невозможность исполнения его. Во-первых, относительно моих доверителей я поступил бы предательски, бросив такое важное, такое запутанное дело, не приведя его к концу и не поспешив им выслать квитанции, без коих они не получат от казны остальных денег за казенный груз. Во-вторых, для того, чтобы с новою навигациею они могли заблаговременно приготовить и отправить груз для пополнения прежних и теперешних недостатков, долженствующих поступить в казну грузов, я принужден отправить лучших из моих помощников… т. е. я есмь единственное лицо, на которое ляжет вся тяжесть сдачи и торговых операций Амурской компании – моих доверителей. Все прочие приказчики разосланы или будут посланы для торговли в разных местах вверх и вниз по Амуру, в Камчатку и прочие места. И, наконец, в-третьих, и это самая важная, самая затруднительная статья, требующая моего присутствия здесь. Это разнородная ватага моих рабочих, которую угрюмая ко мне судьба как бы для того, чтоб довершить окончательно свое преследование, бросила мне на руки в этом отдаленном крае, лишенном всех средств не только пропитания, но даже крова. Нет сомнения, что некоторые из них, т. е. лучшие, найдут и заработают и кусок хлеба и теплый угол, но зато остальное… нагое и голодное, потребует помощи. Надо теперь думать о построении им казармы для помещения, а еще более того надо будет подумать, как прокормить эту ватагу, как и чем лечить, когда разовьется цинга, неизбежная в здешнем крае, даже для тех, кто имеет все средства к комфорту и довольству? – Кто будет посредником между их нуждою, страданием и средством помочь им? Кто их удержит от своеволия или защитит их от притеснения?
Обстоятельств, бывших причиною замедления вообще всех рейсов и нашего в особенности, в этом году было так много, что не перечесть… Чтобы дать Вам хотя бы слабое понятие о трудности нашего плавания, я приведу один пример. Расстояние в 80 верст, выше деревни Черной, с прибывшей на мгновение Шилкою, я со своими баржами пробежал в 8 часов, тогда как это же самое расстояние передовой мой отряд, отправленный задолго вперед, – отряд, назначенный для торговли и снабженный как нельзя лучше и людьми и всем, облегчающим плавание, – этот отряд шел 16 дней. Восемь часов и 16 дней!!.
Спускаясь с таким затруднением вниз, мы выплыли наконец на такие широкие плесы, где Амур часто разливался на 8– и 10-верстном расстоянии берегов при глубине от 8 сажен до 6 четвертей, так что часто случалось плыть, имея только полвершка воды подо дном баржи. Эти широкие плесы наполнены все мелями и поперечными переборами, островами и откосами, и мы шли, как слепые, с палкою.
Прибыв в Мариинский пост 1-го сентября (передовой отряд прибыл 15 августа), я оставался тут 12 дней для сдачи назначенных тяжестей. Как была поспешна, а следовательно, по необходимости снисходительна приемка вещей нами в Шилкинском заводе – так медленно и строго она производилась здесь казною. Всяко лыко – в строку. Всякую вещь, даже не подходящую цветом к образцам, браковали, а то, что было выше образцов, принимали точно так же, как бы их не было. Бракуй, как душе угодно, потому что казна доставляла им прежде дрянь и гниль, которую они должны были поневоле принимать, а потом кушать ее на здоровье или на хворость – теперь обрадовались поездить на купеческой шее и таким образом приобресть превосходные вещи. Теперь я сдаю груз в Николаевске, где принимают также строго, но как главный состав приемщиков и власти – моряки, – следовательно, прямые, благородные люди, – то придирок менее, зато приемка до крайности медленная. Рабочих рук здесь большой недостаток, и мы работали там, где по контракту следовало бы делать казенными людьми… Но полно об этих скучных и для меня, и для Вас предметах. Поговорим о другом.
Ежели бы тот, кто был в Николаевске три года назад, приехал сюда, он не узнал бы его. Так переменился он и наружно, и во внутреннем составе общества… Там, где стояли жалкие лачужки для помещения части офицеров и служащих, тогда как другая гнездилась по ямам, землянкам и палаткам в 39 градусов холода и при пургах, заваливающих здесь дома на 3 и 4 сажени снегом, там, где стояли вытащенные баржи вместо магазинов, где в скромном домике помещалась церковь, где улицы состояли из болот, усеянных пнями столетних дерев, потому что все место, занимаемое городом, было непроходимая тайга, где яйцо продавалось по полтиннику серебра и только счастливцы ели солонину, – тут теперь вы видите стройные, по возможности, сухие улицы с канавами, окаймленные красивенькими домами, где живет все морское народонаселение. Внутренность домов очень мило убрана американскими шпалерами и мебелью. Вы увидите тут покойные кушетки, вертящиеся стулья, качающиеся кресла, японские кровати-кресла с утонченным комфортом, японские столы и столики с их инкрустациею и блестящим лаком. Лампы, подсвечники, ковры, мебель, хрусталь, сервизы из всех стран, вина, варенья, ликеры, джин… Свечей сальных не увидите, их заменяет стеарин. Клуб очень мило отделан, и туда собирается небольшое, но связанное дружбою, старанием и отеческим попечением Петра Васильевича общество. – Тут танцуют на семейных вечерах (так он назвал эти собрания) под звуки пьянино, в ожидании оркестра, который приплывет сюда летом на фрегатах, и потом ужинают дамы и кавалеры за общим столом…
Новый и такой отдаленный край, как ребенок, начинающий ходить: ему еще необходимы помочи…
Я, было, устроился своим хозяйством, наняв особый домик, но Петр Васильевич никак на это не согласился и непременно хотел, чтоб я жил вместе с ним. Теперь мы живем с ним на его ферме, отстоящей от города верстах в двух с половиною. Прекрасный летний домик, весь в стеклах, построенный на высоком берегу, с которого видно большое пространство вод Амура. Домик окружен огородами и службами, а сзади – дремучим, непроходимым лесом. Дорога просечена в этом лесу до самого города, и, судя по пням и гатям, можно догадаться, каких трудов стоило ее устройство. Приближаясь по ней к городу, вы входите на конец главной улицы, влево мрачный лес, а перед ним – во всю длину улицы – магазины американцев и других наций, где вы найдете все, чего хотите, хотя не так дешево, как бы должно было предполагать… Вы увидите эти магазины перемешанными с отстроенными и строящимися домиками, между пней срубленных только вековых деревьев, вы пройдете мимо церкви, приходящей уже к окончанию, мимо большого здания присутственных мест и штаба, потом… спуститесь в адмиралтейство, где склепывают, устраивают и починяют новые и старые железные и деревянные пароходы и парусные суда, строения незатейливые, наскоро построенные, но где вы увидите, например, прекрасно устроенное механическое заведение, где строят такие шлюпки, каких нет в самом Кронштадте, где пилят прекрасный дуб, рубленный за несколько верст по реке и проч. и проч. Далее, на кошке – батарея с маяком; далее в реку еще две батареи… на рейде два железных парохода и три парусных судна… Везде деятельность и жизнь, ни одна душа не сидит сложа руки…