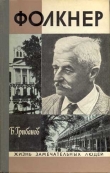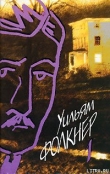Текст книги "Владелец Йокнапатофы"
Автор книги: Николай Анастасьев
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 35 страниц)
По-видимому, Фолкнер думал так же, во всяком случае, в июле 1925 года он отправился вслед за иными. И что же получилось?
Нам известно лирическое признание Хемингуэя: "Париж никогда не кончается, и каждый, кто там жил, помнит его по-своему. Мы всегда возвращались туда, кем бы мы ни были и как бы он ни изменялся, как бы трудно или легко ни было попасть туда. Париж стоит этого, и ты всегда получал сполна за все, что отдавал ему. И таким был Париж в те далекие дни, когда мы были очень бедны и очень счастливы". Это не просто ностальгический вздох. Не будь Парижа с его мостовыми, музеями, кафе, книжной лавкой Сильвии Бич, мастерской Гертруды Стайн, не будь Испании с ее корридой и горными ручьями, где водится форель, а потом фронтовым товариществом на полях Гражданской войны, не было бы писателя Хемингуэя, каким мы его знаем.
Скотт Фицджеральд, оправдывая репутацию кутилы и бретера, певца "джазового века", пускался в Париже во всякие авантюры. Но прежде всего ему, конечно, тоже необходим был сам воздух этой столицы тогдашнего литературного мира, где сокрушались кумиры, где витали и испытывались новые художественные идеи.
А Фолкнер сразу же почувствовал себя в Италии и Швейцарии, Франции и даже Англии как-то неуютно, мало что его здесь привлекало. В Париже он снял комнату там же, где и Хемингуэй, на левом берегу Сены, но жизнь, кипевшая здесь, словно обходила его стороной. Он отправлялся по обычным маршрутам – соборы, музеи, – но это был просто вежливый поклон в сторону французской культуры. "Вчера был в Лувре, видел Венеру Милосскую, "Мону Лизу" и т. д. – все оригиналы. Было интересно, особенно картины более или менее новых художников, например Дега или Мане" – вот и все, что он пишет домой. «Оригиналы» – смешное тщеславие провинциала, впервые прикоснувшегося к подлинным ценностям человеческой культуры. Но по самому тону письма видно, что ему скучно.
Фолкнер, конечно, зная, что в Париже тогда образовалась целая интернациональная колония писателей и художников, но палец о палец не ударил, чтобы свести хоть с кем-нибудь знакомство. Только Джойс вызвал мимолетное любопытство, тридцать лет спустя Фолкнер вспоминал, что "предпринял некоторые усилия, чтобы найти кафе, в котором он обычно обедал, – хоть посмотреть". (А Фицджеральд в поисках того же Джойса обегал весь Париж и, встретившись наконец, упорно порывался выпрыгнуть в окно, чтобы таким образом засвидетельствовать почтение великому мастеру.)
Вялые письма продолжают идти в Америку – письма чужестранца, которому ничто в европейских городах не близко. "Чувствую, что Париж меня утомляет". "Устал от городов". "Во Франции, в Париже ощущаю себя не в своей тарелке, вот в чем все дело".
И оживляется путешественник, только когда не надо вести себя как туристу или начинающему писателю, приехавшему на выучку в столицу. Лувр вызывает отстраненный интерес, Джойс всего лишь диковина, но душою отдыхает Фолкнер, пуская с детьми кораблики в лужах после дождя. Понимаю, звучит слащаво и банально, но это правда. Слог писем становится иным, в них появляются детали и лица: "Скорченный старичок мастерит с мальчишками игрушечные катера, у нас таких странных людей не встретишь. Когда я буду достаточно стар для того, чтобы не искать оправданий тому, что отлыниваю от дела, куплю старую шляпу, как у него, и стану играть с детворой в Люксембургском саду".
А еще лучше – там, за границею города. Фолкнер строит планы: "отправлюсь-ка в Бургундию, посмотрю, как крестьяне давят виноград, а потом в Компьен, в лес, на старые охотничьи тропы, сяду на поваленное дерево и представлю себе, будто слышу рог и лай собак и вижу охотников в зеленых куртках, они скачут назад, в прошлое, а потом выезжает король со своей свитой, все в золотом и алом".
Названия странные – Бургундия, Турень, Руан, – но занятия, но жизнь понятные и близкие. Может, именно во французском захолустье очутившись, Фолкнер почувствовал, что пора возвращаться домой – клочок земли ждал пахаря.
Перелистывая хроники и церковные книги, дополняя их более или менее правдоподобными догадками, биографы решили, что первые Фолкнеры, Джон и Элизабет, пристали к американскому берегу в 1665 году на борту пассажирского судна «Согласие». Растворившись в толпе эмигрантов, начинавших жизнь на новой родине, они осели где-нибудь в Мэриленде или Виргинии, получили 50 акров земли, полагавшихся каждому, и начали разводить табак, или сорго, или хлопок. Кто-нибудь из отпрысков укрепился на насиженном месте, стал средней руки плантатором, другие двинулись глубже на Юг или на Запад, где отнимали земли у коренных жителей – индейцев, строили дома, покупали негров-рабов. А те, кому не везло, продолжали путь, шли дальше, нигде не задерживаясь надолго, пополняя армию тех, кого потом назовут на Юге "белой швалью".
Обычные судьбы, накатанная поколениями дорога, тот, кому выпало прославить имя, опишет ее сотни лет спустя в романе «Деревушка»: "Они явились с Атлантического побережья, а до того из Англии и с окраин Шотландии и Уэльса… При них не было ни невольников, ни шифоньеров работы Файфа и Чиппендейла; почти все, что было при них, они могли легко принести (и приносили) на своих плечах. Они заняли участки, построили хижины в одну-две клетушки и не стали их красить, переженились между собой, и наплодили детей, и пристраивали все новые клетушки к старым хижинам, и так жили. Их потомки так же сажали хлопок в долине и сеяли кукурузу на скатах холмов и на тех же холмах в укромных пещерах гнали из кукурузы виски и пили его, а излишки продавали. Федеральные чиновники приезжали сюда, но уже не возвращались. Кое-что из вещей пропавшего – войлочную шляпу, черного сукна сюртук, пару городских ботинок, а то и пистолет – иногда видели потом на ребенке, на старике или женщине. У них были свои церкви и школы, они роднились друг с другом, изменяли друг другу и убивали друг друга, и сами были судьями и палачами…"
Может быть, кто-нибудь из Фолкнеров был в армии Джорджа Вашингтона, сражался у Банкер-Хилла и, если остался жив, отпраздновал провозглашение независимости. Но история, даже в самых малых своих хранилищах, не удержала имени этого воображаемого солдата или офицера, как потеряла она других Фолкнеров, будь они плантаторами или фермерами.
Лишь через полтора столетия после того, как «Согласие» бросило якорь в одном из заливов Атлантического побережья, имя Фолкнер всплывает на поверхность. 1 июня 1816 года некий Уильям Джозеф Фолкнер женился на Каролине Уорд, дочери шерифа округа Сарри в Северной Каролине, человека видного, серьезного, ученого, главное же – принадлежащего клану, основанному первыми поселенцами. А это всегда было в Америке чем-то вроде охранной грамоты. Но Уильям Джозеф упустил свой шанс. То ли не по себе ему было в тени тестевой известности, то ли по натуре он был искателем приключений – так или иначе, молодая семья вскоре снялась с места и двинулась в сторону Виргинии, затем Теннесси и Кентукки. Во время странствий рождались дети. Одному из них, Уильяму Кларку Фолкнеру, предстояло сыграть замечательную роль в жизни правнука-писателя, хоть правнук никогда предка не видел, тот умер за восемь лет до рождения Уильяма-младшего. Но ему и не обязательно было его видеть: вся округа хранила память о Фолкнере-старшем, это важная достопримечательность здешних краев, человек-легенда. Много лет спустя писатель вспоминал: "Люди говорили о нем как о живом, будто он лишь отлучился ненадолго и может в любой момент вернуться… Старые места исчезли – нет ни дома, ни плантации, остался только памятник. Но он прошел через наши края как животворная сила".
Ощущение присутствия давно ушедшего человека сохраняется и поныне, в свое время нам предстоит еще в этом убедиться. А пока – вот краткая хроника жизни, отозвавшейся во многих сочинениях наследника имени – и прямыми соответствиями, и, более того, общим своим смыслом, – так, как она была осознана художником.
Унаследовав от отца страсть к перемене мест, Уильям Кларк шестнадцати лет от роду оставил родительский дом, якобы затем, чтобы заработать и обеспечить семье достойное существование. К двадцати годам он уже изрядно изучил право, во всяком случае вел в Рипли, городке штата Миссисипи, судебные процессы и, между прочим, начал пописывать. Впоследствии он и на этом поприще преуспел, хотя даже лучшая его книга, "Белая роза Мемфиса", не поднимается над ложноромантическими традициями местной беллетристики; при всей пристрастности, у правнука доставало трезвости признать это – "все мужчины здесь храбрецы, а женщины – чище ангелов". Но литературные занятия оставались, конечно, на обочине жизни. Молодой человек ищет приключений. В 1846 году Соединенные Штаты объявляют войну Мексике, и Фолкнер – среди волонтеров. На будущий год он, по ранению, возвращается домой, женится на богатой наследнице старинного семейства и получает в качестве приданого плантацию и рабов. Так Фолкнеры вошли в избранный круг южного общества.
Стиль его жизни сложился давно, а к середине XIX века успел обрасти пышным орнаментом легенды. Южанин-плантатор представлялся в образе сибарита, коротающего дни за стаканом виски, в разговорах о политике, литературе, может быть, видах на урожай. Любимые его занятия – охота и конный спорт. Это джентльмен-рыцарь, готовый верно служить даме, – этакий Галахед, странник и отважный турнирный боец. У него в жизни один закон – неписаный кодекс чести, и ради верности ему он, не задумываясь, обнажит шпагу или вытащит из-за пояса пистолет. Все это, разумеется, вальтерскоттовская романтика, над которой так едко посмеялся в "Жизни на Миссисипи" Марк Твен. Он, пожалуй, даже хватил через край, возложив на знаменитого шотландского романиста – ни много ни мало – ответственность за рабовладение и, своим чередом, за Гражданскую войну в США.
Увы, легенда жила не только в воображении, она требовала ритуальных жертв в реальной жизни и получала их. На Юге развилась целая культура дуэльного соперничества, в XIX веке она не выказывала ни малейших признаков упадка. История хранит память о знаменитых, исторических, можно сказать, поединках. Так, на дуэли был убит Аарон Бэрр, вице-президент в правительстве Джефферсона. Решал спор с помощью пистолета и генерал, впоследствии президент Соединенных Штатов Эндрю Джексон. При этом он нарушил какие-то параграфы кодекса, и политические противники не забыли ему этого.
Жертвой традиций стал в конце концов и Уильям Кларк Фолкнер. Он стрелял, в него стреляли. В 1849 году вчерашний мексиканский однополчанин Роберт Хиндман обвинил Фолкнера в жульничестве: тот, мол, подделал результаты голосования при выборах в какой-то местный клуб. Причем что значит обвинил? Это сейчас сторона, чувствующая себя ущемленной, нанимает адвокатов, те собирают бумаги, передают дело в суд, на сессии начинаются прения, присяжные удаляются в совещательную комнату, судья объявляет приговор. А тогда, во всяком случае на Юге, такие дела решались просто. Встретившись с обидчиком (скорее всего мнимым) на улице, Хиндман вытащил пистолет и выстрелил в упор. Произошла осечка, нового выстрела Фолкнер, естественно, ждать не стал, вытащил нож – противник свалился замертво.
Так началась вендетта, тянувшаяся несколько лет. Хиндманы искали случая расквитаться, и он не замедлил представиться: кто-то из них затеял с Фолкнером жестокую тяжбу по пустяковому делу об арендной плате. На сей раз, похоже, Фолкнер выстрелил первым – и не промахнулся. Самому же ему до времени везло – снова пистолет одного из Хиндманов не сработал. Через год Фолкнера вызвали на дуэль, но усилиями друзей противников помирили.
А впереди ждали новые испытания, новая кровь. Один из сыновей Уильяма Кларка, изрядный шалопай и карточный игрок, затеял роман с женой местного ювелира, и тот, защищая честь, убил его. Потом явился к отцу и, как требуется по правилам, заявил, что в любой момент готов дать удовлетворение. Но то ли боевой дух угас в стареющем плантаторе, то ли он решил, что правда на стороне оскорбленного, – во всяком случае и этот поединок не состоялся.
Только мирно кончить жизнь Уильяму Кларку Фолкнеру так и не пришлось. События, если верить преданию, разворачивались следующим образом. После победы на выборах в самоуправление штата он прогуливался с друзьями и оживленно обсуждал события недавней борьбы. Остановился у конторы своего политического противника. Одни говорят, что Фолкнер заглянул в окно и потянулся к карману (в котором, впрочем, не; было оружия). Другие уверяют, что ничего подобного, не заглядывал и даже не останавливался. Так или иначе, вчерашний конкурент неожиданно возник рядом и, не говоря ни слова, разрядил пистолет. Через день, 6 ноября 1889 года, Фолкнер скончался, и ему устроили такие похороны, каких, говорят, не видели не только в захудалом Рипли, но и во всем штате Миссисипи. А спустя некоторое время поставили памятник в натуральную величину из белого каррарского мрамора. Эскиз его заблаговременно приготовил сам Фолкнер, который, по слухам, не сомневался, что благодарные земляки когда-нибудь увековечат память о нем.
Некоторые основания для такой веры, пожалуй, были, ведь не просто дуэлянтом провел он отпущенный срок.
Едва началась Гражданская война, Фолкнер набрал на свои средства полк волонтеров и возглавил его. Храбрости Старому полковнику, как и сейчас его называют в родных краях, было не занимать стать, особенно отличился он при Манассасе, где конфедераты одержали крупную победу над войсками федерального правительства. Карьера военачальника, впрочем, не задалась. Одним не нравилась жесткая дисциплина, которую командир ввел у себя в полку, другие не хотели зря подставляться под пули: презирая тактические расчеты, не желая считаться с целесообразностью, полковник всегда лез в самое пекло сражений. Короче говоря, довольно скоро солдаты взбунтовались и сместили Фолкнера с командирского поста. Гордыня не позволила ему остаться в регулярной армии, и он затеял собственную войну, собрав партизанский отряд, который своими кавалеристскими наскоками досаждал, впрочем, не столько северянам, сколько своим же, ломая сложные стратегические замыслы южных военачальников. С легким юмором об этом будет рассказано много лет спустя в романе «Непобежденные».
Капитуляция у Аппоматокса, где прекратила сопротивление основная группировка южан под командованием генерала Ли, положила конец и одинокой войне Старого полковника.
Удар был силен. Разбежались негры-невольники, уничтожена вчера еще цветущая плантация, развалился дом. Главное же – мятежную душу сжигал позор поражения. Но Уильям Кларк был сделан из слишком прочного материала, чтобы, подобно многим, погрузиться в тоску по былому. Положим, и ему не были чужды сентиментальные порывы, но для этого существовала литература, В 1867 году он написал мелодраму "Потерянный алмаз", в которой с большим пафосом изобразил доблестное воинство южан, готовых до конца защищать проигранное дело. А через пятнадцать лет появилась "Белая роза Мемфиса" – реквием павшим и гимн южному рыцарству. В свою пору роман имел огромный успех, в течение тридцати лет он выдержал тридцать пять изданий Общим тиражом в 160 тысяч экземпляров. Не исключено, что он стал одним из литературных источников знаменитой впоследствии книги Маргарет Митчелл "Унесенные ветром", где героиня, хрупкая женщина, "белая роза", сильная духом своего народа, стоит на пепелище одинокой твердыней.
Конечно, все это историческая мишура. И сам сочинитель это, надо думать, прекрасно понимал. Уильям Кларк Фолкнер-беллетрист мог позволить себе самое безудержное мифотворчество. Уильям Кларк Фолкнер-человек отнюдь не лишен был здравого смысла. Аристократ-плантатор в первом поколении, он сохранил практическую хватку первых поселенцев. Парадоксальным образом, может, сам того ясно не осознавая, полковник-конфедерат со всей энергией включился как раз в ту работу, которую навязывали ему враги – северяне, – в Реконструкцию старого Юга. Вчерашний защитник традиции стал ее невольным разрушителем, и эта драматическая раздвоенность тоже прошла впоследствии широкой трещиной через художественный мир, созданный правнуком.
Еще в 1857 году в Рипли была основана железнодорожная компания, но начавшаяся вскоре война не дала осуществиться едва зародившемуся проекту. Пятнадцать лет спустя он возобновился, и среди главных вкладчиков был Уильям Кларк Фолкнер; позднее он стал единоличным владельцем компании. Поначалу дело двигалось медленно, но уже к середине восьмидесятых фолкнеровская линия соединила городки Миссисипи и соседних штатов. А предприимчивый хозяин вынашивал новые планы, собираясь придать бизнесу общенациональный размах, протянув ветки далеко на северо-запад, в сторону Чикаго, и на юг – к Мексиканскому заливу. Впоследствии так оно и получилось, но Старому полковнику не было суждено увидеть результаты своих честолюбивых начинаний.
Таков был этот человек – авантюрист и делец, дуэлянт и расчетливый политик, романтик и трезвомыслящий практике Когда правнука в детстве спрашивали, кем он хочет стать, ответ всегда был один: писателем, как Старый полковник. Но литературные начинания предка интересовали его все же и последнюю очередь. В истории частной жизни ему виделся отблеск общенациональной истории, это было скрещенье, центр грозной сшибки потоков самой жизни, водораздел времен.
Уильям Катберт Фолкнер родился 26 сентября 1897 года в Нью-Олбэни. Пять лет спустя семья переехала в соседний Оксфорд, и на фоне городка, почти деревушки, город – город! а жило-то в нем всего около двух тысяч – поразил своими размерами и образом жизни. Младший брат писателя Джон вспоминает: "Мы с Биллом вышли из вагона, и оба онемели от изумления – столько вокруг было людей, лошадей, экипажей. И море света – эти уличные фонари! Их мы тоже увидели впервые. На пути к дедушкиному дому мы заметили, что по обе стороны дороги тянутся тротуары. Больше того, на площади было полно народа, а ведь шел уже десятый час вечера".
Но, конечно, только в сравнении центр округа Лафайет мог показаться столицей. А так – совершенное захолустье. Коров гнали на пастбище через городские улицы, и никаких помех не было – лишь в 1908 году протарахтел здесь первый автомобиль. Единственный в Оксфорде доктор выписывал рецепт и тут же сам смешивал и отмерял снадобье, а при случае мог сделать и операцию – больницы не было. Сразу за дедовым особняком начинался густой лес, где бегало почти не пуганное еще зверье, текли ручьи с прозрачной водой, а чуть дальше разбивались охотничьи лагеря, и начиналось настоящее мужское дело, к которому мечтал причаститься каждый подросток. Жизнь здесь шла особая, ритуальная, отрешенная от всяческих повседневных забот. Пройдут годы, и Фолкнер опишет ее. "Мальчику было шестнадцать. Седьмой год он ездил на взрослую охоту. Седьмой год внимал беседе, лучше которой нет. О лесах велась она, глухих, обширных, что древнее и значительнее купчих крепостей… О людях велась эта беседа, не о белой, черной или красной коже, а о людях, охотниках с их мужеством и терпением, с волей выстоять и умением выжить, о собаках, медведях, оленях, призванных лесом, четко расставленных им и в нем по местам для извечного и упорного состязанья, чьи извечные, нерушимые правила не милуют и не жалеют, – вызванных лесом на лучшее из игрищ, на жизнь, не сравнимую ни с какой другой, на беседу, и подавно ни с чем не сравнимую: негромко и веско звучат голоса, точно и неспешно подытоживая, вспоминая среди трофейных шкур и рогов и зачехленных ружей в кабинетах городских домов, или в конторах плантаций, или – слаще всего – тут же, в охотничьем лагере, где висит неосвежеванная, теплая еще туша, а добывшие зверя охотники расселись у горящих в камине поленьев, а нет камина и домишка, так у брезентовой палатки, вокруг дымно пылающего костра".
Конечно, это уже литература, мастерство – оживленная в слове память о тех временах, когда теснимая со всех сторон природа еще не отступила далеко, в пойму Миссисипи, и охотничья экспедиция стала целым предприятием. Но сохраняется в строках, написанных десятилетия спустя, и непосредственность детского переживания, неметафорическая точность детского опыта, да и облик давно ушедшего времени.
Будущий писатель и впрямь рос не столько в школе, сколько в лесу или в конюшне отца, и не было – или казалось, что не было, – четкой границы между мудростью учебника и волнующим звучанием сказок дядюшки Римуса или здешним негритянским фольклором. Старые истории, подлинные, а чаще вымышленные, рассказывала фолкнеровским ребятам – а семья росла, к 1905 году их было уже четверо – Каролина Барр – матушка Кэлли. Судя по всему, это была удивительная женщина, она прожила около ста лет (впрочем, точной даты рождения не помнила, называла то 1840 год, то 1845-й), вынесла бедствия неволи, не согнулась под бременем тяжкого повседневного труда, сохранила благородное достоинство и сознание своей человеческой значительности. С нее списана Дилси – самая привлекательная фигура романа "Шум и ярость". На похоронах старой няньки писатель произнес надгробное слово: "После смерти отца в ее глазах я стал главой той семьи, которой она отдала пятьдесят лет жизни, полной преданности и верности. Наши отношения не были отношениями хозяина и слуги. С ней связаны самые первые мои воспоминания, и не только как о человеке, но и о личности, имевшей на меня сильнейшее влияние, выказывавшей постоянную заботу о моем здоровье, деятельную и неизменную любовь. То была деятельная и неизменная проповедь достойного поведения. От нее я научился говорить правду, не растрачивать жизнь по пустякам, заботиться о слабых, уважать старость". А пятнадцать лет спустя, в 1954 году, будет написан автобиографический очерк «Миссисипи», где Каролина Барр предстанет рассказчику в образе "матриарха с десятками детей, внуков и правнуков (это притом что десятки уже похоронила и забыла), среди которых был такой же мальчик – внук или правнук, она сама не могла точно сказать, – родившийся на той же неделе, что и он, и названный, как и он, в честь белого прадеда, – они сосали ту же самую черную грудь, вместе ели и спали, вместе играли в ту же игру, что составляло для белого ребенка в те годы самое главное в жизни…".
Все это – тоже взгляд издалека, осознанная мысль о прожитом, виденном, воспринятом. А в детские годы матушка Кэлли была просто окном в мир. До какой-то степени она даже заменила родителей. Отец, не только промотавший имущество, но утративший душевную силу и кураж прежних Фолкнеров, охотно рассказывал детям о лошадях и приемах стрельбы влет, но во всем остальном был отделен от семьи глухой стеной собственных тягучих переживаний неудачника. Мать же была погружена в какой-то иной мир – мир любимой ею романтической литературы, особенно стихов Браунинга и Теннисона. Потом через эти самые стихи как раз и наладится у старшего сына душевная связь с матерью, но пока этот мир ему чужд, а близок совсем иной мир – тот, что встает в рассказах няньки. Одним своим существованием, всеприсутствием напоминала она о том, чему мальчик свидетелем не был, но что окружало его с момента рождения, что насыщало самый здешний воздух. Нельзя сказать, что в Оксфорде и вокруг ничему не научились, но что ничего не забыли – это точно. Старики, а еще больше старухи вспоминали о тех, кто пал в борьбе за честь и достоинство Юга, а теперь лежат под каменными надгробьями кладбищ. И в детских сердцах эти нескончаемые, воспламеняющие воображение рассказы отзывались, может, еще сильнее, чем любые охотничьи байки. К здешним мальчишкам воин-конфедерат, сражавшийся при Манассасе и Виксберге, приходил раньше, чем Санта-Клаус; заржавевший до дыр патрон, чудом сохранившийся со времен Коринта и Шилоа, был дороже любой самой диковинной игрушки, да и играли здесь не в бейсбол, как теперь, а в войну: приспосабливая всяческие катушки, деревяшки, железный лом, выстраивали осаду, вели сражения с пришельцами, переиначивали историю, желая обернуть позор поражения славой победы. А как иначе, если совсем рядом с наспех выстроенными детскими площадками важно, осанисто прогуливались ветераны, облачаясь по торжественным датам в треуголки и запылившиеся, давно молью траченые серые мундиры армии конфедератов. Из окон на них заворожено глядели женщины – "неукротимые, непобежденные (писал Фолкнер, вспоминая детские годы), так и не капитулировавшие, запретившие вынимать картечины северян из колонн перед фасадами домов, из каминов и межоконных перемычек, – женщины, которые и семьдесят лет спустя становились похожими на героинь "Унесенных ветром", стоило кому-нибудь упомянуть имя генерала Шермана…".
Да, это был еще старый Юг. Вернее, Юг, не хотевший становиться новым – хотя бы психологически. Детские забавы – это детские забавы. Игры взрослых людей – это защитная реакция, бессильная попытка возродить даже не прошлое, а то представление о прошлом, которое позволяет выгородить в ненавистном настоящем оранжерею несломленного духа. Поднимая полуистлевшие знамена, уходящее поколение не с отрядами генерала Гранта продолжало борьбу – восставало отчаянно против врага гораздо более могучего и непобедимого – промышленного прогресса.
Юг менялся на глазах.
Старый полковник, может быть, строил свою дорогу, чтобы дать выход неукротимой энергии, и в его пору поезда останавливались в любой точке и в любой момент – стоило прохожем} поднять руку или машинисту захотеть отдохнуть в ближайшей пивной. Но уже тридцать – сорок лет спустя Миссисипи, и почти весь Юг был опутан стальной сетью. Поезда теперь ходили строго по расписанию, человеко-часы подсчитывались, грузы взвешивались.
Для Джона Фолкнера, молодого полковника, сына Старого, основанный им – первый в здешних краях – банк был, разумеется, коммерческим предприятием; в то же время он запросто мог, плюнув на дела, затеять здесь же, в конторе, неспешный разговор об охоте, лошадях, подвигах минувших дней. Такой примерно сценой открывается роман «Сарторис»: не деловые операции проворачивает старый Баярд (прототипом которого дед писателя и послужил), не клиентов принимает – ждет девяностолетнего нищего, который должен принести ему отцову трубку; а отпустив гостя, "все еще продолжал сидеть и, держа в руке трубку, тихонько поглаживал ее большим пальцем".
Может, потому и не вышел из него настоящий финансист. Да и как мог выйти – упрямый хранитель традиций и уже потому заклятый враг прогресса, он запросто мог отказаться от выгодной сделки на том лишь основании, что ссуду просили для приобретения автомобиля. Неудивительно, что с годами ему становилось все труднее соревноваться с молодыми честолюбивыми клерками. Сантименты были им чужды, зато близко знаком и сладок язык бухгалтерских книг. Один из таких хватких дельцов нового племени, звали его Джо Парке, вытеснил Джона Фолкнера из президентского кресла. В материальном смысле это семью не особенно подорвало, но дело тут было не в деньгах. Происходила смена караула, на место аристократии духа приходила аристократия доллара.
Заметно менялся и пейзаж. Симфония леса заглушалась скрежетом циркулярной пилы, неумолчным гулом фабрик, выраставших как грибы после слепого дождя. И уже не мулы тащились по колдобинам машины, набирая скорость, неслись по свеженакатанному асфальту. Пустели фермы, в окончательный упадок приходили плантации – люда перебирались в города. Джон Фолкнер, третьестепенный беллетрист, лишь брату обязанный некоторой известностью, достаточно живо все же описал в одном из романов картины, свидетелем которых был в детстве: "Плодородные земли постепенно иссыхали под жарким солнцем. Бледно-зеленые стебли кукурузы, чашечки хлопка превращались в жухлую траву. Мулы лениво топтались на пастбище – некому было обрабатывать поля. Старые плуги стояли в ряд, и сорная трава пробивалась между лемехами, пожирая все, кроме покрывшихся ржавчиной ручек… Поля хирели. Люди уходили в город".
Описано все точно, но в стиле ощущается некая эпическая замедленность, не дающая ощутить скорость века. Вспоминается легендарный Рип ван Винкль. Занятый любимым делом – охотой на белок, – он притомился и заснул невзначай высоко в Кэтскиллских горах, а очнувшись, не узнал родной деревеньки: на месте трактира выросла гостиница, вокруг замелькали какие-то незнакомые лица, дерево, в тени которого он любил поболтать с односельчанами, превратилось в голый шест со звездно-полосатым флагом на верхушке, люди, вместо того чтобы, как обычно, читать вслух газеты да покуривать трубки, ораторствуют о гражданских правах, континентальном конгрессе, выборах, неведомом Банкер-Хилле. Но ведь проспал-то старый Рип целых двадцать лет, за это время и впрямь многое могло измениться. В нынешнем веке, даже в начале его, даже на американском Юге с его упрямым консерватизмом, темпы были не те. По свидетельству очевидца, уже не роман, как Джон Фолкнер, сочиняющего, а историческую справку, городок буквально в одночасье превратился в центр деловой и политической активности, заключались миллионные сделки, вчерашняя окраина закипела энергией бизнеса, дел было больше, чем рук…
Правда, место, о котором идет речь, не вполне характерно – Норфолк, морской порт, само географическое положение которого благоприятствует таким потрясениям. Но и в стороне от водных и шоссейных путей происходило на рубеже столетий примерно то же самое. Со статистикой не поспоришь. То есть для нас, посторонних, это статистика – вчера было столько-то миль железных дорог, сегодня стало столько, и таким-то образом в такие-то сроки сдвинулась пропорция сельского и городского населения. А те, кто жил и рос тогда, счета не вели: рушился многолетний уклад жизни, грохотом не только в ушах, но и в сердцах отзывалось опасное столкновение традиции и нового.
Это была жизнь на историческом перепутье, и требовала она мужества и мудрости, воли и решимости выстоять, здорового консерватизма и готовности принять перемены, а может, и содействовать им.
В таких условиях и художественный талант формируется по-особому.
Конечно, Уильям Фолкнер в любом случае стал бы писателем – слишком рано проснулась в нем тяга к сочинительству, слишком щедрой фантазией был он наделен: вспоминают, что, начав рассказывать, десятилетний подросток не мог остановиться, и вскоре утрачивалась всякая граница между правдой и небылью. Но родись он в другом месте, не вообще в другом месте, а хотя бы в другой части Америки, – и никогда бы мы не встретились с тем Фолкнером, каким мы знаем его теперь.