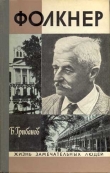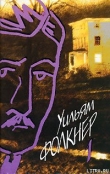Текст книги "Владелец Йокнапатофы"
Автор книги: Николай Анастасьев
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 35 страниц)
В 1954 году Фолкнер опубликовал «Притчу», над которой работал почти десять лет и которая ознаменовала собой его самое далекое «бегство», ведь события там разворачиваются дальше всего от знакомой и приветливой земли Миссисипи; «Притча», действие которой происходит во Франции времен первой мировой войны, повествует о судьбе капрала, новоявленного Христа, возвратившегося на землю, чтобы дать миру еще одну возможность прекратить вражду. В начале того самого года, когда он, наверное, делал заключительные штрихи в романе, Фолкнер в явно автобиографической, очень трогательной элегии родному краю, названной просто «Миссисипи», попытался более непосредственно, чем когда-либо, разобраться в отношениях со своим штатом. Это произведение, конечно же, лишь во-вторых о Миссисипи, в основном же оно о самом Фолкнере. В уже упоминавшемся предисловии к «Шуму и ярости» Фолкнер сравнивал художника-южанина с «шипящей, царапающейся кошкой», которую запихнули в джутовый мешок – эту смирительную рубашку – и яростно восставал против подобного покушения на свободу; тогда не было художника, обладавшего «холодным интеллектом» и способного «с полной беспристрастностью и гурманским удовольствием» писать о современном ему Юге. И двадцать лет спустя в «Миссисипи» чувствуется слишком много тепла и личного участия, чтобы можно было говорить о «холодном интеллекте», но здесь Фолкнер вплотную приближается к тому «гурманскому удовольствию и полной беспристрастности», которыми прежде ему овладеть не удавалось. В «Миссисипи» он фактически вынимает кошку из мешка, ставит рядом кошку и джутовый мешок и изучает особенности каждого; или, скорее, кошка, то есть художник в человеке, узнав все, что можно, о внутренности джутового мешка, вылезает оттуда, ставит рядом мешок и южанина, который запихнул ее туда, и принимается изучать обоих: бывший заключенный пытается постичь связь между тюрьмой и тюремщиком – откуда они, из чего сделаны, почему у человека вообще возникла потребность посадить кошку в мешок и почему это именно джутовый мешок, а скажем, не кожаная сумочка, – и таким образом, возможно, постичь связь между ним, заключенным, с одной стороны, и тюрьмой и тюремщиком, с другой. Поэтому «Миссисипи» – красноречивая и трогательная летопись борьбы самого Фолкнера с трудностями и невзгодами, которые доставляла ему родная земля, и его примирения с ней.
Главный герой «Миссисипи» – Фолкнер-гражданин, а не Фолкнер-художник. Писатель постоянно подчеркивает эту разницу, говоря о гражданине в третьем лице – «он», "мальчик", "молодой человек", «мужчина», "человек средних лет", – и отказываясь касаться его творческой карьеры, хотя несомненно и не отходит от нее слишком далеко в сторону, потому что повествование плавно, спокойно течет между двумя Миссисипи Фолкнера – реальной и созданной им, как бы демонстрируя, сколь тонка грань между ними, сколь неотделимы они друг от друга. Не слишком удаляемся мы и от основной тематики романов: возникновение и расцвет Сноупсов, исчезновение первозданной природы, расовая несправедливость, отказ некоторых жителей Миссисипи принять перемены, влияние прошлого на настоящее.
На первых страницах «Миссисипи» прослеживается история штата, начиная с того времени, когда он представлял собой "болота, образованные постоянными разливами и наводнениями, окаймленные черными, почти неподвижными протоками-рукавами, наглухо заросшие тростником, буком, кипарисом, ясенем, дуб/ш и эвкалиптом", продолжаясь рассказом о древних индейцах, европейских переселенцах, освоении Запада, хлопковой экономике, о гражданской войне, об отмене рабства, реконструкции Юга и завершаясь концом XIX века, когда рождается и вступает в мощный поток истории «мальчик». Хотя он – дитя XX века, силы, определявшие его судьбу как жителя Миссисипи – это во многом силы XIX века: мальчик помнит, что услышал о гражданской войне раньше, чем о рождественском Санта-Клаусе, а из тех, кто окружал его в детстве, он прежде всего говорит о матушке Кэлли, няньке всех ребятишек в семье, бывшей рабыне, отказавшейся расстаться с Фолкнерами после отмены рабства и дожившей до тех пор, пока Фолкнеру пойдет 43-й год, о той самой матушке Кэлли, которая своим существованием постоянно напоминает о том, что война и реконструкция Юга важны не только как чисто исторические факты, но и как события, чье влияние ощущается постоянно в повседневной жизни. Не считая главного героя, матушка Кэлли – самое важное действующее лицо «Миссисипи». Ее жизнь проходит сквозь все произведение трогательным контрапунктом к истории возмужания самого мальчика. Она играет с семейством Фолкнеров в простую шутливую игру: напоминает им, что они задолжали ей за работу 89 долларов – тот самый долг, по крайней мере денежный, который ей снова и снова предлагали выплатить, а она отказывалась принимать. Этот долг превращается у Фолкнера в мягкую, ненавязчивую метафору того, что белый Миссисипи задолжал своим черным гражданам, того, что он уже никогда не возместит, – отчасти потому, что негритянка матушка Кэлли – то есть все чернокожие – сами не хотят освободить белых от этого долга, а отчасти потому, что его вообще невозможно оплатить.
Матушка Кэлли была рядом с «мальчиком», когда тот вступал в жизнь, а к своему элегическому концу «Миссисипи» подходит, когда "человек средних лет" прощается с матушкой Кэлли, уходящей из жизни, произносит речь на ее похоронах и говорит, "что ему бы очень хотелось, чтобы и над ним, когда придет его черед, кто-нибудь произнес такие же слова, как и над ней, которой они, всю жизнь окруженные ее заботой, ее верностью и ее честностью, столь многим обязаны". Ее смерть – тематическая кульминация «Миссисипи», а жизнь и смерть матушки Кэлли, как их показывает Фолкнер, заключают в себе все то, что его герой-гражданин успел узнать про свой родной штат, превращаясь из мальчика в зрелого человека, а именно: как можно одновременно быть настолько жертвой – жертвой цвета кожи, закона, экономики, какой была матушка Келли, и все же находить место для любви даже к тому, что сделало ее жертвой, и как он, "человек средних лет", может ненавидеть людей и систему, заставлявших страдать матушку Кэлли, и в то же время, следуя ее примеру, находить даже в угнетателях нечто достойное любви.
"Миссисипи" завершается возвращением героя, который после путешествия оказывается "снова дома, снова на родине. На земле, где родился и где будет похоронен". То, что Фолкнер впервые заговорил об эмоциональном примирении с родным штатом – а это, конечно же, и есть главная тема "Миссисипи", – равносильно признанию того, что любовь и ненависть – не взаимоисключающие понятия: "любить, даже когда ненавидишь какую-то часть", когда ненавидишь жадность, бесхозяйственность лесозаготовителей и торговцев землей, пишет он, которые, вырубив ради древесины вековые деревья, изменили пейзаж, заставили Большие леса отступать все дальше и дальше от тех мест, где он охотился ребенком. "Но особенно ненавидел он нетерпимость и несправедливость: линчевание – не за преступления, а просто так, за то, что у них черная кожа (таких случаев становилось все меньше и меньше, и хотелось надеяться, что со временем их не станет и вовсе, но зло было совершено, и оно навсегда останется несмываемым пятном), он ненавидел неравенство: убогие школы для черных (если вообще у них были школы), лачуги, в которых они ютились (чтобы не остаться под открытым небом), они могли молиться богу белого человека – но только не в церкви белого человека, платить налоги в судах белого человека – но не участвовать в выборах судей и присяжных, они работали, сколько скажет белый человек, и получали за работу, сколько белый человек сочтет нужным заплатить… он ненавидел фанатизм, из-за которого мы посылали в Вашингтон сенаторами и конгрессменами тех, кого нельзя было туда посылать, благодаря стараниям которых в таком небольшом городке, как Джефферсон, могло быть пять церквей различных наименований, но ни одного клочка земли, где дети могли бы играть, а старики сидеть и смотреть, как они резвятся".
"Миссисипи" завершается рассказом о смерти матушки Кэлли, о том, как проститься с ней собрались все ее дети" и "человек средних лет" читал молитву; так Фолкнер подводит нас к последнему абзацу эссе, в котором повторяет мысль о сложной взаимосвязи между любовью и ненавистью, на этот раз глубже раскрывая ее суть: "Он любил все, хотя что-то и ненавидел, ибо понял раз и навсегда, что любишь не за что-то, а вопреки, не за достоинства, а вопреки недостаткам".
Разница огромная по сравнению с полными страдания словами Квентина Компсона, вырвавшимися у него двадцать лет назад: "Неправда, что я его ненавижу". Теперь языком писателя говорит мудрость, накопленная за пятьдесят шесть лет мучительных размышлений над тем смятенным состоянием души, которое он определил как человеческое сердце в конфликте с самим собой; в них звучит своего рода отказ от сентиментального выбора между бегством и обвинением, и то и другое было слишком простой и неадекватной реакцией на очень запутанную ситуацию, насильственным разрешением клубка проблем, просто не допускающего решения. Любовь – это не только пассивная ответная реакция на то, что избрало нас, это в большей степени наша активная реакция на то, что мы сами в конце концов избрали, любовь достаточно велика, чтобы вместить в себя, допустить и бегство, и обвинение, чтобы включить и то и другое в спектр приемлемых эмоций. Это и было достоинством матушки Кэли – любить вопреки чему-то, и то, что Фолкнер признал это открытие, говорит о его абсолютной причастности как художника, так и просто человека к жизни родной земли. Может быть, он и отсталый, и мрачный, и примитивный, и часто приводящий в бешенство, этот штат с его жителями, но все же, несмотря ни на какие недостатки – родной; и эссе, написанное в период, когда Фолкнер совершенно открыто, с горечью клеймил позором то, что ненавидел в Миссисипи, доказывает, как тесна связь между ним и штатом, как всецело Фолкнер принадлежит ему.
III
В отличие от многих американских критиков я не считаю, что какая-либо географическая точка обладает литературной магией или же что южное происхождение давало Фолкнеру преимущества в литературных скачках. Он сам всегда старался затушевать «южность» своих произведений, называя это качество случайным: «Я склонен думать, что мой материал, Юг, – писал он в 1944 году Малкольму Каули, – очень важен для меня. Просто так случилось, что я хорошо знаю его, а одной жизни не хватит на то, чтобы узнать другой материал и написать о нем. Хотя та жизнь, которую я знаю, не хуже любой другой, жизнь – это определенная реальность, но в ней нет новизны, все тот же безумный бег с препятствиями в никуда; и человеческие пороки везде и всегда одни и те же». Получается, что местоположение, материал не столь важны, как ум, душа, гуманизм художника, превращающего этот материал в искусство. Поисками именно этой души, этого гуманизма мы и должны в конце концов заняться, чтобы понять, в чем привлекательность Фолкнера для разных культур: есть множество «великих» писателей, которые не находят такого сильного отклика у столь многих народов, как Фолкнер.
В пантеоне писателей положение Фолкнера прочно настолько, насколько это вообще возможно. Я полагаю, что его «технические» достижения в развитии романистики – выразительность "потока сознания", поистине виртуозное использование английского языка – вряд ли удастся адекватно передать при переводе на другие языки. Зато в переводе можно донести широту его подхода к человеку, его настойчивое требование уважать всех людей.
Многие, из тех, кто принадлежал к поколению Фолкнера, расстались во время первой мировой войны с иллюзиями, стали с подозрением относиться к идеализму, к таким абстрактным понятиям, как «правда», "справедливость", «патриотизм», из-за которых Европа и Америка оказались вовлеченными в войну. Но ни сам Фолкнер, который, как известно, не сражался на войне, ни его герои не отрешились от этих идеалов, играющих столь важную роль в его прозе. Писатель не так наивен, чтобы утверждать, что идеализм сам по себе способен изменить мир: в битвах с силами прагматизма и власти его герои очень редко одерживают победу. Метод его заключается в том, чтобы ПРОВЕРИТЬ идеализм в столкновении с реальным миром, поместить своих героев-идеалистов Квентина Компсона, Хорэса Бенбоу, Айка Маккаслина, Гэвина Стивенса и других в такие ситуации, где ставится под сомнение действенность их идеалов. Обычно идеалы проверки не выдерживают, отчасти потому что не выдерживают ее идеалисты. Но для произведений Фолкнера характерно, что идеал в них всегда существует, пусть даже как некий недостижимый эталон поведения, призванный своим постоянным присутствием удерживать людей от капитуляции перед собственной беспомощностью и отчаянием, постоянно напоминать им о мужестве и стойкости, которые они, когда понадобится, смогут призвать на помощь, напоминать об их лучших, а не худших душевных качествах.
Фолкнер действительно верил, что человек, даже тот, чьи пороки "везде и всегда одни и те же", "бессмертен… потому что он один обладает волей, душой, способной к состраданию, самопожертвованию, стойкости", и что ДОЛГ писателя в том, чтобы говорить об этом. Выполняя этот долг, он заслужил «привилегию» помогать человеку "выстоять, укрепляя человеческие сердца, напоминая о мужестве, чести, надежде, гордости, сострадании, жалости, самопожертвовании, – о том, что составляет извечную славу человечества". Этим духом и проникнуты произведения Фолкнера, духом обновления, надежды, дающим возможность отчаявшимся и потерявшим надежду противостоять жестокому миру, а не просто обращаться в бегство или обвинять его. Мне кажется, такое настроение преодолевает все расовые, религиозные, географические и политические границы.
Разумеется, невозможно сказать, в какой степени это настроение у Фолкнера возникло благодаря Миссисипи и могло бы оно возникнуть где-то в другом месте. Возможно, Фолкнер оставался бы Фолкнером, и живя в Эфиопии, Киеве или даже в Нью-Йорке, и, конечно же, уроки матушки Кэлли он мог бы выучить даже будучи эмигрантом. Может быть, значение имеет не сама географическая точка, не сам штат Миссисипи, а взаимоотношения с любым местом и решение писателя связать свою судьбу с этим краем (в данном случае им просто оказался этот штат), который он мог питать и который, наконец, давал бы пищу ему. Я подозреваю, что любая географическая точка способна доставлять пищу человеческой душе, пока душа эта рискует устанавливать такие взаимоотношения с людьми и общественными институтами данного региона, которые допускали бы сосуществование любви и ненависти и таким образом удерживали нас на достаточно близком и вместе с тем на достаточно далеком расстоянии, чтобы все ясно видеть и понимать. Это, мне думается, мы и находим у Фолкнера.
Ноэл Полк
(Перевод М. Теракопян)
ОТ АВТОРА
Давно занимаясь творчеством американского писателя Уильяма Фолкнера, но лишь теперь приступая к рассказу о его жизни, испытываю некоторое смущение.
Биография – это события, встречи, приключения, драмы.
Как у Дефо: политические интриги, судебный процесс, трехдневное стояние у позорного столба в центре Лондона. Как у Толстого – от Крымской войны до Ясной Поляны, куда тянулись тысячи, знаменитые и безвестные. Мелвилл, что называется, бороздил моря и океаны. С Хемингуэем вообще постоянно что-то случалось. То какого-то совершенно немыслимого марлина выловит, то льва, какого не видали еще, застрелит в Африке, то в авиационную катастрофу угодит. Не говоря уже о войнах, больших и малых.
А Фолкнер прожил жизнь тягучую, бессобытийную. Профессор Мичиганского университета Джозеф Блотнер выпустил массивное исследование, где все шестьдесят четыре отпущенных Фолкнеру года расписаны буквально по дням. Это ценная, образцовая в своем роде работа, но она лишний раз показывает, сколь неярко складывался быт человека по имени Уильям Фолкнер. Иное дело – судьба писателя, носившего то же имя.
Преодолевая сопротивление столь неблагодарного материала, иные биографы и воспоминатели пытаются оживить его разного рода деталями и подробностями, то ли реальными, то ли вымышленными. Это, впрочем, не имеет значения, ибо не только небыль, но и факты требуют аккуратного с собою обращения. Не все обязательно делать достоянием публики. Увы, должной сдержанности не хватает, многие искушаются соблазном проникнуть в мир писателя через черный ход. С упоением рассказывают, допустим, что Фолкнер любил выпить и меры в том не знал. Пусть так – нам что за дело до этого? Еще уверяют, что он не был образцовым семьянином. Свидетельства приводят убедительные, из первых, что называется, рук. Только нас каким образом это касается?
Мертвые молчат, но, как бы отнесся к подобным откровениям сам Фолкнер, угадать нетрудно. На протяжении долгих лет он оберегал свою частную жизнь от любопытства толпы, от журналистов и рекламы. В молодости, да и позже, Фолкнер нуждался, но никакое безденежье не искупало в его глазах рекламных трюков. Если рассказ не хотят печатать без разного рода виньеток, – пусть не печатают. "К сожалению, у меня нет фотографии, – пишет он своему литературному агенту Бену Уоссону. – Да если бы и была, ни за что бы не дал. О биографии. Упаси тебя бог рассказывать что-либо этим шакалам. Это не их дело. Впрочем, если хочешь, скажи, что я родился два года назад, в дни Женевской мирной конференции, от аллигатора и негритянки-рабыни". Так говорил безвестный автор. А вот слова всемирно знаменитого романиста. Из письма критику М.Каули: "Дорогой Малколм, видел номер «Лайфа» с Вашей статьей о Хемингуэе. Я не читал ее, но уверен, что она хороша, иначе Вы не поставили бы под ней своего имени; думаю, и Хемингуэю она понравится по той же причине, и, надеюсь, принесет ему пользу, если, конечно, прекрасный человек и художник может нуждаться в такого рода пользе, или прибыли, прибавке. Но я-то лишний раз убедился, что все это не для меня. Я буду стоять до конца: никаких фотографий, никаких письменных свидетельств. Как частное лицо я хочу только одного – чтобы не осталось ни одного следа, за вычетом опубликованных книг. Жаль, что мне тридцать лет назад не хватило ума не подписывать их своим именем, как это делали елизаветинцы. Моя цель, все мои помыслы устремлены к тому, чтобы итог и история моей жизни были выражены в одной фразе, представляющей собою некролог и эпитафию одновременно: он писал книги, и он умер".
Можно, если угодно, видеть в этих словах кокетство, но и в таком случае надо, уверен, считаться с волей писателя. Вот почему эти страницы – не биография человека, а биография книг. Положим, вовсе без "письменных свидетельств" (благо, к нынешнему времени их накопилось немало) не обойтись, однако же, стараюсь я ими пользоваться лишь в той мере, в какой они просветляют означенную историю сочинительства романов и новелл.
Есть и еще одно соображение, уже не этического, а скорее практического свойства, которое говорит в пользу избранного типа повествования. Сочинения Фолкнера, во всяком случае большинство из них, чрезвычайно трудны для восприятия, к смыслу пробиваешься через завалы стиля, вернее, через то, что кажется словесным хаосом. Не у всякого достанет терпения для такой работы. Поэтому задачу свою я вижу и в том, чтобы облегчить, в меру возможности, читательский контакт с художником. Само собой понятно, что такая задача предполагает анализ творчества, и хоть литературоведческими приемами я старался не злоупотреблять, не всегда это, боюсь, получалось.
Наконец, последнее. Приходится иногда слышать, что творчество Фолкнера, как и других знаменитых писателей, стало объектом "критической промышленности", которую не "мир под переплетом" интересует, а только собственная технология. Что ж, имеет, как принято говорить, место. Но, помимо «промышленников», а также любителей острых блюд, есть люди, бескорыстно отдающие ум и способности исследованию творческого пути своего замечательного соотечественника. Со многими из них – Джозефом Блотнером, Уильямом Феррисом, Ноэлом Полком и другими – меня связывает хорошее личное знакомство. Хочу сказать, что без их щедрой помощи эта книга не могла бы быть написана.
Фолкнер давно пришел и в наш дом, а сейчас его издают особенно широко, не только прозу, но и публичные выступления, эссе, письма, дневники и т. д. Обращаясь к этим материалам, я, как правило, использую существующие переводы, лишь иногда уточняя их по оригиналам. Так что и в этом случае считаю приятным долгом поблагодарить коллег и товарищей.