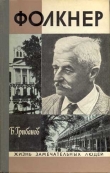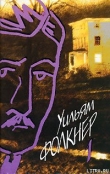Текст книги "Владелец Йокнапатофы"
Автор книги: Николай Анастасьев
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 35 страниц)
Но ведь все время помним мы, что не просто о Юге идет речь, и Фолкнер лишний раз не забывает это подчеркнуть. "Остов громоздился… зримый запас стойкости и бесстрашья духа… костяк остался неукротимо выситься руиной или вехой…" Это уже не просто «мэмми», вырастившая не одно поколение белых детей, да и не просто страж обычаев, складывавшихся десятилетиями и веками. Это твердыня Дома человеческого. Неужто и ему суждено развалиться под бременем преступлений, неужто и ему не удержаться на ветрах времени?
Вот с этим Фолкнер не согласится ни за что. Все вокруг рушится, Дилси – прямым текстом сказано – не гнется. Да не в словах дело, сказать можно по-всякому. Сама атмосфера, в которую героиня погружена, которую она же и создает, – это атмосфера мифологического величия, высокого покоя, воздух бессмертия. Это точно выражено в стиле: смолкают надрывные вопли идиота, нет яростных синкоп Квентина, не слышно жестяного скрипения Джейсона, – речь течет плавно, неспешно, задумчиво.
В «Приложении» о Дилси и ее соплеменниках сказано: "Они терпели". Многозначительна сама эта краткость. Комплексы, мучающие Квентина, пришлось разъяснять и растолковывать, биографию Кэдди – описывать, отношение к Джейсону – аргументировать. А жизнь, ее упорство, преодолевающее самые трудные препятствия – чем сильнее давление, тем и сопротивление сильнее, – в пространных комментариях не нуждается.
Имеет ли значение цвет кожи? Послушать автора – еще какое. Он настойчиво повторял, что человек выстоит в любых условиях, ему резонно возражали: как же так, ведь лучшие ваши люди, вроде того же Квентина, гибнут. Против этого спорить трудно, и тогда Фолкнер говорил – да, и "все-таки в семье есть Дилси, которая упорно удерживает ее от распада, не надеясь на вознаграждение. Я хочу сказать, стремление человека выстоять может направляться по иным, более «низким» каналам, выразиться в черном человеке, в негритянской расе, прежде чем человек согласится уступить и признать свое поражение".
Только до этих слов еще двадцать пять лет, и все эти годы, да и после тоже, писатель мучительно обдумывал историю Юга в свете расовой розни. Об этом мы, конечно, еще будем говорить.
А в "Шуме и ярости" эта сторона дела его все-таки мало занимает. Ему просто нужен человек, у которого достанет стойкости претерпеть любые невзгоды, устоять в любую бурю.
Это – Дилси, та самая Дилси, которую под другим именем можно было бы встретить на улочках Оксфорда или в округе, но которая, как мы уже, собственно, заметили, черпает и силу, и мудрость свою в запредельности мифа. Никакого противоречия, да и принижения легендарных героев в этом уподоблении нет. Недаром Фолкнер говорил, что любит перечитывать Ветхий завет, потому что люди, в нем изображенные, живут и действуют "подобно нашим предкам в XIX веке", и есть среди них не только великие мужи, но также негодяи и мошенники, и все они тоже "ведут себя совершенно как наши современники".
Сейчас о мифе в литературе не говорит только ленивый. Одни утверждают, что он разрушает образность, другие, напротив, видят в нем живительный источник творчества и все сколько-нибудь интересное в искусстве сводят к мифу. При этом само понятие слишком часто утрачивает сколько-нибудь определенные границы.
Нам рассуждать на эту тему тут не с руки – слишком специальный предмет. Замечу лишь, что мифологический герой – это прежде всего именно герой, то есть личность, которая, при всей своей предопределенности, предназначенности, осознает свои поступки и готова принять за них все бремя личной вины. Гегель так толковал судьбу царя Эдипа: он не может не совершить прелюбодеяния и отцеубийства, но при этом ни за что в жизни не согласится переложить ответственность за преступления на чужие плечи. Это и имел в виду великий философ, говоря о героическом состоянии мира, в противовес позднейшим прозаическим временам, когда люди, утратив величие древних, только и ищут, суетливо и жалко, чем бы объяснить свое поражение и свой позор.
Дилси – частица этой старой звездной пыли, каким-то чудом занесенная в XX век. Те, кому она безропотно служит, будь это люди добрые или злые, – так или иначе, объясняют все происшедшее несчастливо сложившимися обстоятельствами, обманным раскладом костей, брошенных на доску равнодушным Игроком. Бенджи, обрети он дар речи, сослался бы на то, что его развитие остановилось в трехлетнем возрасте. Квентин не в силах выдержать расставания с сестрой. Джейсон вообще считает, что все вокруг вступили в заговор, лишь бы помешать ему устроиться в жизни. И только Дилси не оглядывается по сторонам, не ищет оправданий – гордо и неуклонно несет крест жизни – своей, близких и мировой.
Так мы и закрываем эту маленькую, но такую поразительно емкую книгу. Ею не зачитаешься, как и "Улиссом", – во всяком случае с первого раза. Автора ее мастером-стилистом, вроде Флобера, или Конрада, или Генри Джеймса, не назовешь. Она начисто лишена той эпической мощи, которая поражает у классиков XIX века, у Толстого и Бальзака.
Но, справившись со всеми трудностями восприятия, мы неожиданно обнаруживаем, сколь близок мир, так странно, причудливо изображенный писателем с далекого американского Юга, тому миру, в котором выпало жить нам самим. В нем много зла, много несчастий – войн, нищеты, подлости разного рода, он тоже неспокоен, полон шума и ярости. И все-таки он сохраняется, и даже, спотыкаясь на каждом шагу, впадая в заблуждения, иногда чудовищные по своим последствиям, идет вперед. Человечество вырабатывает силы, способные вытерпеть, выдюжить, превозмочь любые препятствия – и внешние, и, что много труднее, внутренние: малость, слабость, незащищенность даже лучших.
После "Шума и ярости" Фолкнеру предстоял еще долгий, почти тридцатипятилетний, путь в литературе. Будут написаны новые книги, история в них отразится шире и крупнее, в чертах сильных, устрашающих, обнадеживающих. Больше будет подробностей, появятся незнакомые прежде лица, укрепятся, прояснятся, получат более рациональную основу связи и отношения между людьми. Но и впрямь никогда уж Фолкнеру не пережить того мощного подъема чувств, что испытал он, сочиняя "Шум и ярость", никогда не выразить существо человеческого опыта с такой ослепительной яркостью. И еще иногда я думаю, что такой роман должен бы, по всем правилам, появиться в конце творческого пути. Ибо это книга итогов, писатель словно воображает общее состояние человечества, выстраивает живую и подвижную, но все же модель так, словно грани ее не важны или давно очерчены.
Но книги пишутся не для удобства биографов и критиков. Надо было Фолкнеру начать с конца – он и начал. А уж потом пошел вширь.
Глава VI Успех
Старожилы уверяют, что нынешний Оксфорд не особенно отличается от Оксфорда шестидесятилетней давности. И им можно поверить. Конечно, здесь теперь, как и повсюду, полно автомобилей, асфальтом покрылись улицы, реклама кое-какая, не слишком, однако же, броская, появилась, городскую площадь тесно окружили банки и страховые конторы, на окраине выросли небольшие фабрики, главным образом деревообрабатывающие. Но в самой атмосфере сохранилось нечто патриархальное: медленная жизнь, к вечеру вовсе замирающая, полупустые магазинчики и бары, дома, прилепившиеся друг к другу, так что через забор можно запросто переговариваться друг с другом. Все знают всех, да и всех-то этих не намного больше, чем прежде, – тысяч девять-десять. Словом, окраина, глубокая провинция, правда, упорно себя таковой не признающая. Фил Маллен, редактор здешней газеты «Оксфордский орел» (на меньшее, разумеется, никто бы не согласился), вспоминает, как Фордовский фонд попросил его проконсультировать сценарий документального фильма о Фолкнере, многолетнем его приятеле. Сценарий начинался такими словами: «Уильям Фолкнер – знаменитый писатель, который работает в захолустном американском городке…» Дальше Маллен и читать не стал, вернул рукопись, сопроводив ее следующей запиской: «Оксфорд – вовсе не „захолустный американский городок“, у нас, между прочим, ночевал Улисс Грант». Действительно, было такое – командующий армией северян и будущий президент США останавливался здесь во время кампании 1865 года. Ничего агрессивного, впрочем, в этом местном патриотизме нет, наоборот, ощущается даже добродушная самоирония. Другой фолкнеровский знакомец, его неизменный спутник в охотничьих экспедициях, услышав по радио, что Фолкнеру присудили Нобелевскую премию, отправил шведскому королю письмо такого содержания: «Дорогой король! Поскольку на церемонии вручения Нобелевской премии Вы сказали о нашем друге Билле Фолкнере такие добрые слова, просим Вас быть в ноябре нашим почетным гостем в охотничьем лагере». Королевская канцелярия вежливо отклонила приглашение, сославшись на то, что «его величество не ездит на лошади и не стреляет». Получив такой ответ, оксфордцы только хмыкнули: «Король явно не имеет представления о том, что происходит в охотничьем лагере, если полагает, что для хорошего времяпровождения там надо ездить верхом и палить из винтовки».
Такие нравы. Понятно, что в этой обстановке стоит даже не сказать, а только подумать о чем-то, как вся округа уже узнает о вашем намерении. А если планы строит сам Фолкнер – не писатель Фолкнер, до которого пока мало кому есть дело, а правнук Старого полковника, то они, эти планы, вообще становятся общественным мероприятием.
Вернувшись из свадебного путешествия домой, Фолкнеры принялись подыскивать жилье, и городок хлопотливо взялся за дело. Оно сладилось быстро – уже ранней весной 1930 года начались переговоры о покупке дома, неподалеку от которого будущие новоселы играли когда-то детьми.
Двухэтажный этот особняк в колониальном стиле, с колоннами у фронтона, по всему периметру окруженный террасами и балкончиками, – на вид внушительный, но не тяжелый, – превращен ныне в музей. Впрочем, тепло жилья в нем сохранилось, ибо, за вычетом взятых под стекло счетов из магазинов, прачечной и т. д., да панели, на которой выбиты знаменитые слова из Нобелевской речи: "Я отказываюсь принять конец человека…" – все здесь осталось, как при жизни хозяина. Библиотека, напоминающая о том, что Фолкнер читал хоть и много, но бессистемно – подбор книг вполне об этом свидетельствует (правда, двести или триста томов с фолкнеровскими пометками на полях увезла с собою, продав дом и угодья университету, дочь писателя Джилл Саммерз). На стенах – рисунки матери, которая любительски занималась живописью, на столе, почти целиком занятом огромной пишущей машинкой, – беспорядочно разбросанные бумаги, банка с крошками табака, потухшая трубка. Тут же – предметы, рассказывающие о растущей популярности владельца, например фигурка Дон-Кихота – подарок премьер-министра Венесуэлы. Поначалу библиотека служила Фолкнеру и кабинетом, но потом он сделал специальную пристройку, где в основном и работал. Стены здесь тоже неголые, только не книжными стеллажами уставлены и не картинами завешаны – покрыты надписями: своим мелким, прыгающим, с трудом поддающимся расшифровке почерком Фолкнер набрасывал общий план, сюжетные ходы, характеристики героев романа «Притча». От времени буквы немного стерлись, но мемориальной патиной не покрылись – тоже живой след человеческого присутствия. Здесь же, внизу, – столовая, гостиная, холл, весь вид которых – нечинный, порядком не блещущий – напоминает о том, что мечты Эстелл стать хозяйкой салона, пусть небольшого, так и не осуществились. Да и пейзаж вокруг – скорее фермерский, чем аристократический. Ведет, правда, к дому изящная аллея, обсаженная буковыми деревьями, но рядом – хозяйственные постройки: конюшня, сарай, летняя кухня. Земля полого уходит вниз, и за ручьем начинаются лес и поля, некогда прилежно обрабатывавшиеся и дававшие урожай, а теперь поросшие сорной травой. Повсюду валяется инвентарь – лопаты, совки, мотыги.
Так это выглядит сейчас. А шестьдесят лет назад дом предстояло обживать.
В 1844 году местный плантатор Роберт Шигог купил у индейцев землю, нанял архитектора-англичанина и построил особняк. Хозяину повезло – здание сохранилось в пожаре 1864 года, хотя все вокруг сгорело дотла. По прошествии десятилетий дом перешел во владение другой семьи, которая значительно расширила угодья. Но процветание продолжалось недолго, хозяйство постепенно пришло в запустение. Дом сдавали по частям случайным жильцам, а потом он и вовсе опустел. Штукатурка на колоннах потрескалась, фундамент осел, крыша начала течь, крыльцо покосилось.
Фолкнера, однако, все это не обескуражило, жилье ему понравилось, человек вообще-то не суеверный, он как-то сразу решил, что стоит переехать сюда, и неудачи и разочарования останутся позади, все пойдет отныне хорошо. На всякий случай он придумал для дома символическое название Роуэноук – вычитал у Фрезера в "Золотой ветви", что шотландская мифология дала такое имя дереву, олицетворяющему мир, покой, благополучие. В апреле был подписан контракт, а в июне, когда здание приняло мало-мальски приемлемый облик, отпраздновали новоселье.
Тут же, правда, встали финансовые проблемы.
Теперь в Оксфорде любят рассказывать про своего великого земляка разные анекдоты. Вот один из них: получив как-то из продуктовой лавки чек, Фолкнер отослал его хозяину со словами: "Сейчас у меня нет денег, чтобы заплатить Вам. Но когда-нибудь моя подпись на этой бумажке будет стоить больше, чем я должен или еще задолжаю вам". Тут он не ошибся, любой фолкнеровский автограф теперь ценится высоко среди собирателей. Да уже в начале 50-х годов шустрые нью-йоркские дельцы получали от библиофилов по сорок долларов за экземпляры его книг с авторской надписью.
Но до этого еще далеко, а пока надо было не только пятидолларовый счет оплатить, но найти деньги на ремонт, не говоря уж о шести тысячах (сумма по нынешним временам смехотворная, – за такой-то дом! – а по тем, особенно для Фолкнера, – немыслимая), которые предстояло выплатить в течение нескольких лет прежним хозяевам.
Роман "Шум и ярость" принес огромное душевное удовлетворение, но материальное положение, как автор и предполагал, не поправил. Пресса была разная. Одни, обнаружив в романе лишь беспросветный пессимизм, отвернулись от автора. Другие, наоборот, встретили книгу с энтузиазмом. "Великое произведение" – так отозвалась о книге нью-йоркская "Хералд трибюн", рецензент которой удостоил Фолкнера чести сравнения с Достоевским и Джойсом. Обычно чопорный, скупой на комплименты, особенно по адресу южан, Бостон пошел еще дальше. Критик местной газеты "Ивнинг транскрипт" вспомнил, читая "Шум и ярость", Еврипида, обнаружил в романе черты греческой трагедии. Книгу сразу заметили за океаном, правда, оттуда донесся голос скорее отрезвляющий. Арнолд Беннет, писавший ранее, что Фолкнер наделен ангельским даром, на сей раз высказался более сдержанно. Да, у автора "незаурядный и в высшей степени оригинальный талант", но книгу "немыслимо, невообразимо трудно читать", и, если Фолкнер хочет занять достойное место в литературе, ему следует освободиться от "юношеской эксцентричности" и забыть о Джойсе. В устах Беннета такой совет был вполне естествен, ибо в эпоху всеобщей тяги к эксперименту он в числе немногих упрямо защищал традицию. Но дело не во вкусах. В одном по крайней мере отношении старый писатель оказался прав: роман не читали. Не помогли ни рецензионная шумиха, ни специальный очерк, выпущенный одновременно с романом, – нечто вроде путеводителя в помощь читателю. Тираж (1789 экземпляров) расходился медленно, полтора года понадобилось, чтобы раскупить его.
Не приносили дохода и рассказы, которые Фолкнер никогда не переставал писать. Недавно нашелся любопытный документ: начиная с 23 января 1930 года писатель в течение двух лет вел счет сочиненным в этом промежутке произведениям малой формы, обводя кружком те, что опубликованы или приняты к печати, и вычеркивая те, что отвергнуты. Кружков чем дальше, тем больше, так что в 1931 году удалось даже выпустить сборник "Эти тринадцать". Но поначалу картина унылая: сплошные жирные линии. Даже "Роза для Эмилии", классический ныне, во все хрестоматии входящий рассказ – готический сюжет о мужестве и терпении, – был первоначально отклонен. Между прочим, отказ пришел в тот самый день – 7 октября 1929 года, – когда в книжных лавках появились первые экземпляры "Шума и ярости".
Короче, состоятельным человеком Фолкнера новеллистика не сделала (хотя два рассказа, опубликованных в 1930 году популярным в ту пору журналом "Сатердей ивнинг пост", принесли ему больше денег, чем "Солдатская награда", «Москиты», "Сарторис" и "Шум и ярость", вместе взятые; к счастью, автор не прельстился этой удачей, устоял перед искушением легких денег – щедро авансируя молодых авторов первыми публикациями, еженедельник затем тиранически требовал от них угождения вкусам публики; на эту удочку попался талантливейший Скотт Фицджеральд, который с горечью говорил впоследствии: "Мое честолюбие может быть спокойно, ведь «Пост» платит теперь своей старой шлюхе по 4000 долларов за визит").
Так, давно уже сделавшись профессиональным писателем, Фолкнер столкнулся с печальной необходимостью в стороннем заработке. Несколько лет спустя он вспоминал: "Когда мой третий роман, «Сарторис», был принят к печати, я подумал было, что отныне дело пойдет. Я решил, что писание книг может приносить деньги, а ведь пора уже было самому зарабатывать. Я уехал ненадолго из Оксфорда и стал соображать, что может понравиться людям в Миссисипи; сделал выбор, казавшийся мне правильным, и придумал самую страшную историю, какую только мог вообразить, написал ее за три недели и отправил рукопись Смиту, который собирался издавать "Шум и ярость". Он мне сразу ответил: "Упаси Вас бог это печатать, нас ведь обоих посадят". Тогда я сказал себе: "С тобой все ясно, придется теперь приниматься за работу, раз и навсегда". Это было летом 1929 года. Мне удалось найти место угольщика на электростанции, я работал в ночную смену, с 6 вечера до 6 утра. Я накладывал уголь из бункера в тележку, вез ее к истопнику, там разгружал, а он затапливал котел. Потом, до четырех утра, нам нечего было делать, а в четыре мы вычищали золу и снова разводили пар".
Ясно, Фолкнер не рассчитывал всерьез заработать на жизнь таким образом, и тем более уплатить долги по дому. Скорее всего это был жест отчаяния или, может, уступка отцу, который, по словам писателя, "всегда был готов помочь, но его удручала мысль, что сын превратился в бродягу". К тому же здесь он мог побыть в одиночестве, уйти от укоряющих взглядов жены. И место для литературной работы оказалось подходящее: между одиннадцатью вечера и четырьмя утра можно было заниматься своим делом, а за письменный стол сходила перевернутая угольная тележка. Правда, прямо за стеной гудела динамо-машина, но с шумом можно было свыкнуться, он даже создавал постоянный ритмический фон.
В течение шести недель был написан новый роман. Разговор о нем, впрочем, отложим и вернемся к той книге, которая так напугала издателя. Договор на нее был заключен 6 мая 1929 года, а в конце месяца рукопись под названием «Святилище» пришла в Нью-Йорк – отсюда и взялись, надо полагать, три недели, потребовавшиеся якобы для ее написания. На самом деле работа началась давно, автор приступил к ней, едва закончив "Шум и ярость". К тому времени у него сложился, пусть пока нечеткий, готовый в любой момент измениться в деталях, план Йокнапатофы: ее обитатели, и те, что обрели уже жизнь на страницах «Сарториса» и "Шума и ярости", и те, которым только предстояло еще воплотиться в словах и поступках, настойчиво искали себе места в истории края.
Она не умещалась на страницах одного произведения – приходилось отсекать и вычеркивать. Но из романа героя убрать можно – из жизни человека не вычеркнешь, полноты не будет. Фолкнер готов был согласиться с тем, что в первоначальном варианте "Флагов в пыли" приключениям Нарциссы и Хорэса Бенбоу уделено слишком много внимания, слишком далеко уводят они от основной идеи. Правда, эти персонажи вовсе не ушли, заняли какое-то место в «Сарторисе», но, место незаметное, так что даже непонятно, что им здесь, собственно, делать. Теперь пришел их черед.
Впрочем, дело не просто в том или другом персонаже, в той или другой линии сюжета. Уже тогда, только начиная еще осваивать свое вымышленное королевство, Фолкнер ощущал, сколь стеснительны становятся привычные формы сочинительства. Жизнь и «литература» вступали в конфликт. «Литература» требует завершенности, поэтому она всегда приблизительна, неполна, одностороння. А жизнь – принципиально незавершима, судьбы продолжаются за пределами книжной обложки. Весь отпущенный ему срок Фолкнер вел изнурительную борьбу с этой ограниченностью «литературы» – в интересах безграничности жизни. Понятно, что в этой борьбе победы быть не может – отсюда и стоическое признание неизбежности «поражения». Но можно хотя бы попытаться преодолеть конечность «литературы».
Преодолеть стилем. "Мы, – говорит Фолкнер о себе и о Томасе Вулфе, – пытались втиснуть все, весь опыт буквально в каждый абзац, воплотить в нем фрагмент жизни в каждый данный ее момент, проницать ее лучами со всех сторон. Поэтому романы наши так неуклюжи, поэтому их так трудно читать. Не то чтобы мы сознательно старались сделать их неуклюжими, просто иначе не получалось".
Преодолеть масштабом общей идеи. "В какой-то момент я обнаружил, что определенному плану подчиняется не только отдельная книга, но вся писательская работа, все написанное".
Йокнапатофа должна была продолжаться, в ней всему и всем находилось место.
Вернулись герои «Сарториса». Но не только. Приступая к «Святилищу», автор стал разбирать старые рукописи и наткнулся на зарисовку, сделанную пять лет назад в Париже. Тогда она ему самому очень понравилась. Он писал матери: "Только что закончил замечательную вещь – две тысячи слов о Люксембургском саде и смерти. Сюжет едва намечен, это поэтический, хотя и в прозе выполненный рассказ о молодой женщине. Я писал, не отрываясь, двое суток, и получилось здорово. Почти не спал, перечитывал написанное, искал слова, записывал и вычеркивал, придумывал все новые варианты. Но теперь это само совершенство – жемчужина"; Потом автор, видимо, поостыл и даже не пытался этот – очерк? поэму в прозе? – опубликовать. А теперь вот зарисовка нашлась и по странной ассоциации объединилась с историей, о которой автору рассказали в Мемфисе: в здешний публичный дом несчастным образом попала девица из весьма уважаемого семейства. Так возникла главная героиня "Святилища". – Темпл Дрейк.
Впрочем, до всего этого докопались много позже, в ходе критического освоения йокнапатофского края. Сам же Фолкнер упорно отказывался говорить об этом романе сколько-нибудь всерьез.
Сдержанный прием «Сарториса» его сильно разочаровал, и тогда писатель – так он, по крайней мере, говорит об этом – решил сочинить что-нибудь более привычное – на публику. Впервые эта версия была выдвинута в предисловии к изданию 1932 года: "В основе этой книги лежит дешевая идея, я писал специально для того, чтобы сделать деньги". Пятнадцать лет спустя автор повторил: "Главная причина заключалась в том, что я нуждался в деньгах… Я придал «Святилищу» форму ходового товара… Поэтому я не любил эту книгу и не люблю сейчас". Затем Фолкнер нередко напоминал, что деньги, на которые он рассчитывал, получить не удалось – издательство прогорело. Это, положим, верно или почти верно. Партнеры, Смит и Кейп, чего-то там не поделили, фирма распалась, и банк заморозил авторские гонорары, в том числе 4000 долларов, которые причитались Фолкнеру. Но вообще-то эту историю Фолкнер рассказал, кажется, для того лишь, чтобы произнести ударную фразу: "Если пишешь книги, пиши их с предельной честностью".
"Святилище", стало быть, этому условию не удовлетворяет? Надо сказать, самокритика оказала и продолжает оказывать немалое воздействие на восприятие книги. В ней и впрямь усматривают нечто вроде символа писательской беспринципности. С подобным отношением можно встретиться не только в критических сочинениях. Героиня романа английского прозаика Тома Шарпа "Дальний умысел" (он у нас переведен и пользуется успехом) уговаривает своего протеже поставить имя под чужим порнографическим романом. Тот, вполне бездарный, однако же свято относящийся к ремеслу молодой человек, с негодованием отказывается. Тогда всплывает имя Фолкнера.
"Вспомни «Святилище». И изнасилование. Кукурузный початок.
– Ты хочешь сказать, что это написал не Фолкнер? – в ужасе спросил Пипер.
– Да нет, именно, что он. Написал, чтобы его заметили, чтобы добиться признания. До «Святилища» его книги не раскупались, а после он стал знаменитостью".
Все точно. Именно этот роман принес писателю долгожданную известность. Первый, двухтысячный тираж разошелся в течение нескольких недель, в феврале – марте 1931 года, тут же был отпечатан новый – около шести с половиной тысяч. Собственно, это был первый и на ближайшие годы (до публикации в 1939 году "Диких пальм") единственный фолкнеровский бестселлер. "Я здесь прямо-таки произвел фурор, – пишет Фолкнер жене из Нью-Йорка, где состоялась церемония представления книги. – Журналы устраивают в мою честь банкеты и коктейли, все хотят со мною познакомиться. В общем, я с удивлением обнаружил, что стал самой заметной фигурой американской литературы. В смысле самой перспективной. Даже Драйзер и Синклер Льюис стремятся меня увидеть, а Менкен едет сюда из Балтиморы, только чтобы пожать мне руку".
Похоже, в этих словах, вместе с наивным бахвальством, звучит тайное смущение: как могла привлечь столь широкое внимание такая книга?
Кто прав: автор и критики последующих поколений или современники?
Вернемся для начала к издательским приключениям романа. Разочарованный коммерческим провалом "Шума и ярости" Харрисон Смит перечитал книгу, которая столь устрашила его при первом знакомстве. Ни слова не сказав писателю, который, кажется, и думать забыл о «Святилище», он отправил рукопись в набор, и летом 1930 года Фолкнер к немалому для себя удивлению получил гранки первых пяти глав романа. Чтение их никакого удовольствия не доставило. Написанное выглядело так беспомощно, что автору, по собственным словам, пришлось выбирать между двумя возможностями – либо вовсе отказаться от этой затеи, либо переписать по существу весь текст. Избран был второй путь – "я порвал корректуру". Порвать, положим, не порвал – но работу действительно проделал огромную: недавно Ноэл Полк, молодой университетский профессор, быстро вырастающий в одного из ведущих в США исследователей творчества Фолкнера, подтвердил это документально, кропотливо изучив – в сопоставлении с рукописью – якобы уничтоженные гранки. Ноэл показывал их мне – впечатление они производят устрашающее, в глазах пестрит от зачеркиваний и перечеркиваний, можно пожалеть наборщиков, которым пришлось иметь дело с этим хаотическим нагромождением знаков и слов (кое-что, между прочим, типография так и не смогла разобрать, и лишь в 1985 году тот же Полк, потратив уйму времени и усилий, восстановил во всей полноте авторскую волю).
Но все это проблемы лабораторные, отчасти технические, они могут занимать текстологов и критиков – читателю до них какое дело? Он обращается к тексту, вовсе не задумываясь над тем, что там автор или редактор с ним делали на пути к публикации (к тому же некоторые, например Джозеф Блотнер, далеко не уверены, что роман выиграл от переработки).
"Святилище" заметно отличается от других фолкнеровских книг – тем прежде всего, что его легко читать. Правда, и здесь писатель использует прием, который известный нам Конрад Эйкен назвал приемом "задержанного смысла". То есть смысл эпизода, поначалу совершенно невнятный, раскрывается лишь в ходе дальнейшего повествования, обрастая деталями и мотивировками. Но в этом романе дистанция между событием и его осмыслением предельно сокращена, загадка, если и возникает, разгадывается немедленно.
Вот сюжет. Взбалмошная девица по имени Темпл Дрейк, наскучив чинным распорядком местного колледжа, а также традициями домашнего воспитания, какое принято в семьях потомственных аристократов, тайком сбегает из общежития и сговаривается с приятелем поехать в соседний городок на футбольный матч. Тот, однако, успел ко времени встречи изрядно нагрузиться, теперь хочет добавить и, несмотря на слабые протесты спутницы, отправляется в старый, полуразрушенный от времени дом во Французовой Балке, где теперь живет вместе со своей невенчанной женой Руби и младенцем бутлеггер Ли Гудвин. Там Гоуэн (так зовут молодого человека) забывает, что приехал не один, пускается во все тяжкие, а утром, в хмельном угаре, уезжает, оставив Темпл в этом вертепе. К несчастью, в ту же ночь в доме оказался некто по прозвищу Лупоглазый, личность темная и по виду устрашающая: "Лицо у него было того странного бескровного оттенка, какой возникает при электрическом освещении; в сдвинутой набок соломенной шляпе, руки в боки, он напоминал… о злобной пустоте смятой консервной банки". Глаза – как "две резиновые кнопки", кожа "мертвенного цвета", "подбородка не было вовсе", да и все лицо как бы стерлось, исчезло – как "у восковой куклы, которую поставили слишком близко к огню и забыли". Обездоленный с самого рождения, познавший кошмар трущобного детства, неполноценный физически – познать женщину ему не дано, – Лупоглазый носит в груди чувство тяжелой, внешне, впрочем, никак не выражаемой ненависти к миру и свирепо мстит ему за незадавшуюся судьбу. Самым извращенным образом – кукурузным початком – Лупоглазый насилует Темпл. Ему пытается помешать Томми – то ли слуга, то ли подручный, то ли нахлебник Гудвина; за этот жест благородства он поплатился жизнью – Лупоглазый выстрелом из пистолета сносит ему череп. Потом он увозит Темпл в Мемфис, где помещает ее в публичный дом, превращенный фактически в узилище: выходить на улицу девушке запрещено. Далее выясняется, что присматривать за девушкой, под видом ее любовника, поручено карточному шулеру по кличке Рыжий. Но тут Лупоглазый просчитался. Темпл влюбляется до безумия в своего надзирателя и пытается сбежать с ним. Тогда Лупоглазый убивает Рыжего.
Между тем по подозрению в убийстве Томми в тюрьму отправляется Гудвин. Защищать его берется Хорэс Бенбоу, но проигрывает дело. Темпл, которую ему удалось в конце концов отыскать, лжесвидетельствует, указывая на Гудвина как на убийцу. Завершается роман сценой казни Лупоглазого, которого арестовали и приговорили к повешению за убийство, совершенное не им. Он, впрочем, не делает и малейшей попытки оправдаться – собственная жизнь ему так же безразлична, как и жизнь других.