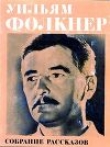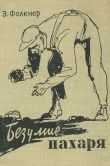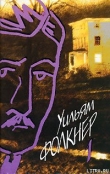Текст книги "Владелец Йокнапатофы"
Автор книги: Николай Анастасьев
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 35 страниц)
Весной 1925 года они с Андерсоном встречались в Новом Орлеане часто, едва ли не ежедневно. Сначала говорил только старший – младший помалкивал, потом завязался диалог или, может, словесная дуэль. Андерсон начинал фантазировать, придумывал разного рода смешные сюжеты, Фолкнер обставлял их подробностями. Так продолжалось долго, и в конце концов оба настолько увлеклись, что решили придать игре литературную форму – принялись обмениваться письмами с продолжением. Дальше события развернулись так:
"Я принес ему свой первый ответ на его первое письмо. Он прочитал. Спросил:
– Вам это нравится?
– Не понял, сэр?
– Вам нравится то, что вы написали?
– Да, а что? Все, что не вошло в это письмо, войдет в следующее.
И тогда я понял, что мои слова рассердили его. Он ответил резко, кратко, почти зло. Он сказал:
– Либо вы выбросите все это, и мы прекратим работу, либо возьмете письмо назад и перепишете.
Я забрал письмо. Три дня я работал над ним и наконец снова принес ему. Он опять прочитал, довольно медленно, как и всегда, потом спросил.
– Ну, а теперь вам нравится?
– Нет, сэр, но лучше я пока сделать не могу.
– Тогда пойдет, – сказал он и положил письмо в карман. Голос его потеплел, сделался мягче, и в нем уже снова слышался смех и готовность снова верить и снова страдать".
Все это Фолкнер вспоминал почти тридцать лет спустя, когда уже и сам превратился в мэтра, так что скорее всего сознательно, в педагогических целях, сместил некоторые акценты. Вряд ли Андерсон так уж серьезно относился к шуточной переписке со своим новым знакомцем. С другой стороны, и Фолкнер, побыв в роли "раненого фавна", не склонен был демонстрировать художническую жертвенность и отрешенность. Наоборот, он впоследствии упорно подчеркивал (опять-таки смещая акценты, только теперь в другую сторону), что к писательству относился легко, во всяком случае, первую свою книгу прозы писал ради забавы, или – в подражание Шервуду Андерсону: понравилось, как тот строит день: перед тем как выйти на прогулку, он упорно трудится в уединении. "И тогда я сказал себе: "Если это все, что требуется, чтобы стать писателем, такая жизнь по мне"".
Если эти столь противоречивые по внутреннему смыслу воспоминания сбалансировать, то идея Фолкнера станет ясна. ДЕМОНСТРИРОВАТЬ религиозную веру в предназначенность не следует. Все должно выглядеть просто, естественно, непринужденно. Не помешает и доля иронии, даже если пишешь о серьезном, тем более что американские писатели почему-то избегают обращаться к этому источнику, который является "нашей бесценной национальной особенностью". Заключая предисловие к альбому Спратлинга, Фолкнер писал: "У нас, американцев, есть бесценное свойство. Это свойство – наш юмор. Уже одна эта особенность, глубоко укорененная в национальной почве, могла бы сослужить нам ту же службу, что сослужило островное положение Англии для английского искусства в царствование королевы Елизаветы. Наша, американских художников, беда состоит в том, что мы воспринимаем себя и свое творчество слишком всерьез".
Но юмор в искусстве – это вовсе не развлечение.
Коль скоро уж принялся за дело, игры кончаются. Начинается работа. А вернее – начинается судьба.
Все это, конечно, выглядит крайне наивно и даже элементарно. Но в ту пору Фолкнер действительно определялся в жизни и потому уяснял для себя простые истины.
Известные нам слова Андерсона: "Простой деревенский парень… крохотный клочок земли в Миссисипи… тоже Америка" – упали на почву, уже отчасти подготовленную. Фолкнер и сам пытался сформулировать нечто подобное в статье об американской драме, а также в другом критическом очерке "Стихи старые и новые: паломничество". Писатель, как и дерево, говорилось в нем, может вырасти только на родной почве, за сюжетами вовсе не обязательно отправляться в чужедальние страны.
Убеждение пришло, теперь предстояло осуществить его в непосредственности творческого поступка.
В январе 1925 года Фолкнер начинает писать роман, которому тогда было дано название "На помощь!". Работал он, видно, усидчиво, во всяком случае, Спратлинг вспоминает, что уже с семи утра из комнаты соседа доносился стук пишущей машинки и не прекращался до двух пополудни, когда надо было идти на очередное свидание с Андерсоном.
К маю рукопись была завершена и, в сопровождении рекомендательного письма Андерсона, отправилась в Нью-Йорк, к Хорэсу Ливрайту, совладельцу издательства, которое, публикуя книги, обещавшие верный успех (О'Нил, Паунд, сам Андерсон), готово было, при случае, рискнуть. В наборе тогда был сборник рассказов Хемингуэя "В наше время", и вот теперь – роман другого дебютанта. Книга вышла тиражом в две с половиной тысячи экземпляров 25 февраля 1926 года под новым названием – "Солдатская награда".
В предисловии к одному из позднейших переизданий раннего своего романа "Бедный белый" Андерсон писал: "Здесь изображен городок в штате Охайо. Он и стал подлинным героем книги. Мне кажется, то, что случилось с городком, важнее того, что случилось с его обитателями". Эту книгу Фолкнер, кажется, не читал, во всяком случае тогда, в двадцатые годы, не читал. Да и сам автор в минуту откровенности отозвался о ней скептически: "Не мой роман", то есть сочинение не из опыта жизни, а из опыта чтения других писателей выросшее (что с этим самобытным писателем, к сожалению, случалось). И все же сказанное в предисловии не было оговоркой, просто желаемое не совпало с осуществленным, и автохарактеристику следовало бы переадресовать конечно, циклу новелл "Уайнсбург, Охайо". Здесь, действительно, жизнь городка существенно важна: не просто место действия, не просто события, то комические, то жестокие, а бытийственное пространство, воплощение исторического и природного ритма жизни. Обитателям городка – гротескным людям – только чудом и на ускользающий миг удается к этой жизни приобщиться, но именно тогда обретают они утраченную цельность. "Восемнадцать прожитых лет (говорится в новелле «Прозрение» о сквозном персонаже всего сборника Джордже Уилларде) кажутся ему лишь мгновением, одним вздохом в общем шествии человечества".
Автор "Солдатской награды" двинулся было тем же путем. Уходят смутные тени, стирается до конца неопределенно-возвышенный рисунок, характерный для стихотворных опытов, изображаемая картина обретает материальную плотность. Мы попадаем в края, знакомые Фолкнеру до последней мелочи: конечно, Чарльзтаун, штат Джорджия, где происходит действие, – это лишь псевдоним Оксфорда, штат Миссисипи. Вот он сразу встает перед глазами: "Чарльзтаун, подобно другим бесчисленным городкам на Юге, вырос вокруг столбов, к которым привязывали лошадей и мулов. Посреди площади стояло здание суда – простой, строгий кирпичный дом о шестнадцати великолепных ионических колоннах, заплеванных поколениями любителей жевательного табака. Здание суда было окружено вязами, и у подножий деревьев, на потрескавшихся, изрезанных шрамами скамейках, отцы города, основатели прочных законов и прочных кланов, в черных галстуках шнурочком или потертых от постоянной чистки серых мундирах, при бронзовых, никому не нужных медалях конфедератской армии, дремали, обстругивая, как палочки, длинные, тягучие дни и даже не притворяясь – нужды не было, – что их ждет работа; те, что помоложе, не достигшие возраста, когда можно дремать на людях, играли в шашки, жевали табак и болтали. Адвокат, фармацевт и еще двое людей неопределенной профессии перебрасывались медяшками, стараясь попасть в специально вырытые лунки. И над всем этим задумчиво светило раннее апрельское солнце, сладостно чреватое полуденным зноем".
Это – общий план, а по ходу повествования картина расслаивается на фрагменты, и мы видим, как по улицам городка проплывают фургоны, ведомые полусонными кучерами-неграми, торопятся редкие автомобили, стайками собираются школьники; заглядываем в дома, где утро, занятое хозяйственными хлопотами, незаметно перетекает в вечер, а иногда устраиваются празднества для здешней молодежи; прислушиваемся к женским пересудам, входим в негритянскую церковь, под сводами которой гулко и торжественно звучат молитвенные гимны; вместе с горожанами подстригаем газоны, вдыхаем острые запахи весенней зелени, отправляемся по разным делам, утомившись, рассаживаемся знойным полднем в тени памятника павшему Конфедерату, застывшему в гордой каменной неподвижности над городком как вечная память о минувшем.
Но всего этого Фолкнеру мало – не для того он принимался за роман, чтобы просто изобразить городской пейзаж. Он хочет воплотить образ дома; только дом в его представлении – далеко не местный колорит. Дом, скажет он впоследствии, "означает не просто сегодня, дом означает завтра и завтра, а потом снова завтра и завтра" (тут явственно слышится Шекспир, в «Макбете» сказано: "Завтра, завтра, завтра, – и дни ползут, и вот уж в книге жизни / Читаем мы последний слог и видим, / Что все вчера лишь озаряли путь к могиле пыльной"). Вот это и есть главное. Страницы быта должны сложиться в "книгу жизни", и мы не удивляемся, что автор, уподобляет негра-возницу изваянию, высеченному из камня десять тысяч лет назад в Египте, а пыль, поднимающуюся из-под лошадиных копыт, потоку самого Времени.
Это смело сказано. Только что же сказать? – написать надо, то есть органично объединить планы, одушевить быт бытием, найти точки присоединения, увидеть, как говорил Блейк, небо в чашечке цветка, и не просто увидеть, а в слове запечатлеть слитность мгновения и вечности.
Читаем и чувствуем, сколь упорно начинающий прозаик старается сделать это. Но замечаем и то, сколь слабо ему удается решить задачу, скорее всего вообще не удается. Нет цельности. В одной части картины – живые люди, нарождающиеся и пожухшие листья, бездомные собаки, в другой – чистая метафизика. То и дело повествование прерывается небезупречными по вкусу пассажами, которые, по замыслу, должны придать и речи, и содержанию высокую значительность. "Секс и смерть: вход в мир и выход из него. Как нераздельно соединены эти двери в коридоре нашей жизни. В юности извлекают нас из праха, в старости вновь возвращают в прах. Нас впускают, чтоб, выдержав срок, откормить на усладу червям".
Мы сразу, конечно, ощущаем надрывную искусственность усилия, и автор тоже ее, наверное, ощущает, стараясь связать нити в единый узел. Но разрывы остаются, разговор идет на разных языках, человеческие фигуры, подвижные в пределах Чарльзтауна, немедленно деформируются, утрачивают живость, возносясь в запредельные дали. Как заурядная девица из провинции, мечтающая о хорошем замужестве и семейном покое, даже как подвижница, готовая всем пожертвовать ради счастья возлюбленного (о чем идет речь, сейчас увидим), Сесили Сон-дере, одно из главных лиц повествования, вызывает доверие. Но как фигура, рассеянная в мироздании, она разом это доверие к себе подрывает, слово из созидательной силы нечаянно превращается в инструмент разрушения.
"Но Сесили Сондерс не спала. Лежа на спине в темной комнате, она слышала приглушенные звуки ночи, вдыхала сладкие запахи весны, и тьмы, и зарождающейся жизни", – не слишком яркая, конечно, и все-таки осязательная картина. Но дальше – барьер, за которым этих самых звуков не слышно: "Земля, мировое кругообращение, ужасающий полог, неизбежность жизни, пробивающейся сквозь часы тьмы, проходящей мертвую точку центра и ускоряющей свой бег, поднимающейся с потаенного дна Востока к смутным зорям, которые нарушают утреннюю дрему воробьев". Что это за декламация? Правда, воробьи… Это, конечно, попытка возвращения на землю; только какие же это воробьи? – скорее райские птицы.
Нужно центральное звено, которое соединило бы столь очевидно распадающуюся цепь.
Возьмите любое пособие по литературе XX века, и рядом с именами Хемингуэя, Олдингтона, Ремарка и других, поменьше, писателей "потерянного поколения" вы непременно встретите имя Фолкнера – автора "Солдатской награды". Резон для такого сближения есть. Собственно, по всем внешним признакам к этому именно направлению, оставившему столь заметный след в новейшей литературной истории, роман и принадлежит.
Возвращаются в родные края американцы – молодые ветераны первой мировой, среди них – Дональд Мэхон. Он умирает, не начав, по существу, жить: рана не только обезобразила красивое некогда лицо, – лишила памяти и сознания. А дома ждут. Ждет отец, священник местного прихода, ждет невеста, знакомая уже нам Сесили Сондерс. Но конечно, все светлые довоенные планы разбиваются о новую немыслимую реальность. Пастор Мэхон может уверять других, а прежде всего – самого себя, что пройдет два-три месяца, и сын станет на ноги, все получится, как чаялось, но в глубине души знает, что единственное спасение для Дональда – смерть. Девушка, оправившись от потрясения, произведенного встречей с возлюбленным, готова, в жертвенном порыве, отправиться к алтарю, будто ничего не произошло, но ведь и она знает, только не хочет в том себе признаваться, что это невозможно, что-нибудь наверняка помешает. Мешают родители, сохранившие трезвость. К тому же трагическая коллизия разрешается избавительной смертью героя.
Другие остаются жить. Кто это? И что это за жизнь?
Вот один – рядовой экспедиционного корпуса Джо Гиллиган. Мы знакомимся с ним еще в поезде, когда, изменив первоначальный маршрут, он добровольно принимает миссию брата милосердия, едет с Дональдом к нему домой и остается с ним до самого конца. Для него эта встреча оказалась неожиданно чем-то вроде полоски света в непроглядной тьме абсурда, какая-то цель появилась, возможность деяния и блага, а ведь казалось, что ничего больше нет, смысл жизни утрачен и осталось только избывать дни в пьянке да шутовских эскападах, вроде той, что затеял он в поезде: кондуктор требует предъявить билет, а Гиллиган разражается в ответ гаерской тирадой: "Посмотрите-ка, нас не хотят пускать. И это – награда за то, что мы проливали кровь во имя отечества. Да-да, сэр, нас не хотят пускать, нам даже не дают места в купе. А что, если бы мы не откликнулись, как один, на призыв родины? Кто ехал бы тогда в этом поезде? Немцы. Поезд, забитый до отказа публикой, жующей сосиски да лакающей пиво на пути в Милуоки, вот что это был бы за поезд".
Вот другая – Маргарет Пауэрс, вдова убитого на войне офицера, с которым она успела прожить всего несколько дней. Впрочем, что за любовь, что за свадьба? Все были возбуждены, всех охватило что-то вроде предстартовой лихорадки: что будет завтра, неизвестно, надо ловить мгновенье, думать некогда. Правда, все выглядит игрушечно, да и сами волонтеры больше стараются произвести впечатление на девушек, чем верят в то, что говорят, а рассуждают они об аде сражений, о которых понятия не имеют, о смерти, в которую не верят, о фронтовом товариществе, которого не знают. От таких разговоров голова кружится, отчего бы не выйти замуж за одного из случайных партнеров по танцу в офицерском клубе, а там видно будет, тем более что никто на себя никаких особенных обязательств не берет, жених честно предупреждает, что во Франции не намерен вести жизнь аскета (вот оно, американское представление о войне, – любовная прогулка), и от подруги тоже не ожидает верности Пенелопы. Но случилось вот что. Вполне следуя договоренности, Маргарет написала мужу на фронт, что игра ей наскучила, и пусть каждый идет своей дорогой. А на следующий день из Европы пришло извещение, "такое обычное, такое безличное", что Ричард убит в бою. "И я, – рассказывает молодая вдова Джо Гиллигану, – почувствовала, что вела себя по отношению к нему вроде как нечестно. Так что, наверное, сейчас я пытаюсь каким-то образом заплатить долг". Выходит, и для Маргарет встреча с несчастным калекой оказалась случайным подарком злой судьбы – путем к искуплению. Она не только провожает Дональда домой, не только самоотверженно ухаживает за ним, но и ритуально отдает себя ему в жены. А когда Дональд умирает, Маргарет стоически отклоняет предложение Гиллигана выйти за него: счастье заказано, покаяние должно длиться вечно.
Не правда ли, как все знакомо? Уберите подробности сюжета, поменяйте декорации, и на месте Дональда Мэхона вполне может оказаться кто-нибудь из безымянных солдат Ремарка, сметенных шквальным огнем артиллерии; на месте Джо Гиллигана – tenente Генри из "Прощай, оружие!" или Энтони Кларендон из романа Олдингтона "Все люди – враги""; на месте Маргарет Пауэрс – леди Брет из "Фиесты", – пропавшие, потерянные люди, которых война выбила из жизненной колеи и лишила корней.
Есть и другие черты общности.
Литература "потерянного поколения" во многом строится на контрасте: фронт отражается в зеркале тыла, в образе жизни, которая знает войну только понаслышке. Получив отпуск, Пауль Боймер ("На западном фронте без перемен") отправляется домой и попадает в мир, вчера еще привычный и родной, а ныне – бесконечно чуждый: здесь по-прежнему устраивают вечеринки, по-прежнему ходят за покупками, по-прежнему попивают пиво, а за кружкой авторитетно рассуждают о стратегии, говорят, что из траншеи не виден общий масштаб войны и т. д. Герой совершенно потрясен: "Как можно жить этой жизнью, если там сейчас свистят осколки над воронками и в небо поднимаются ракеты, если там сейчас выносят раненых на плащ-палатках и мои товарищи, солдаты, стараются поглубже зарыться в окоп".
В таком же положении оказывается Джордж Уинтерборн из романа Олдингтона "Смерть героя". Ему, фронтовику, окопнику, оказывается совсем не о чем говорить с вчерашними друзьями и знакомыми из круга лондонской художественной богемы. Разумеется, совершенной дичью звучит на его слух вопрос: "А чем вы во Франции занимаете свой досуг – все так же читаете, занимаетесь живописью?"
Хемингуэй закрепил сходную ситуацию в рассказе «Дома».
Автор "Солдатской награды" тоже ощущает потребность в контрасте. Тут лишь внешним образом соприкасаются два мира: Чарльзтаун с его привычной американской деловитостью, трезвым расчетом и вместе с тем мотыльковой легкостью, придуманными страстями – и замкнутое братство людей, прикоснувшихся к войне. Эти миры просто не понимают, не слышат друг друга, как не понимал Джордж Уинтерборн даже простейших оборотов из газетного некролога: слова настолько далеки от того, на что он за эти годы насмотрелся, что "ставят его в тупик, точно какого-то землепашца". Сесили и Маргарет инстинктивно испытывают неприязнь друг к другу, и тут не только ревность, не просто борьба за право принести жертву, тут еще полная душевная несовместимость. Отсюда и внезапные, совершенно иррациональные, казалось бы, вспышки ярости со стороны Джо: то, что другим кажется нормальным, он воспринимает как фальшь и вызов.
И еще, новые переклички.
"Меня всегда приводят в смущение слова «священный», "славный", «жертва», а также выражение «свершилось»… Мы слышали их иногда, стоя под дождем на таком расстоянии, что только отдельные выкрики долетали до нас, и читали их на плакатах, которые расклейщики, бывало, наклеивали поверх других плакатов; но ничего священного я не видел, и то, что казалось славным, не заслуживало славы, и жертвы очень напоминали чикагские бойни, только мясо здесь просто зарывали в землю". Этот отрывок из романа "Прощай, оружие!" приобрел широкую известность, стал словно бы литературным, а до известной степени и жизненным паролем целого поколения. Хемингуэй здесь необычно откровенен, в других случаях он сдержаннее, но смысл не меняется: все высокие слова стали обманом, из них выветрилось содержание и превратились они лишь в красивую оболочку, за которой стараются скрыть смерть и преступление. Та же идея близка Олдингтону. И Ремарку. И Дос Пассосу.
Отчасти и Фолкнеру, хотя до полноты и ясности он ее не доводит. Мы слышали уже ернические высказывания на этот счет Джо Гиллигана. А есть еще в романе персонаж по имени Джулиан Лау – кадет военно-воздушных сил, разделивший судьбу многих сверстников-соотечественников – "война кончилась на нем". Это фигура совершенно комическая в своей вселенской скорби по несовершенному подвигу, в своей надутой важности, в своих бытовых, таких ничтожных печалях, а также в своей неразделенной любви к Маргарет Пауэрс, которой он исправно шлет письма, не забывая сопровождать признания в любви отчетом о деловых успехах. Фолкнеру, впрочем, мало этого саморазоблачительства, он и со стороны посмеивается над великими претензиями героя: "Кадет Лау, такой юный, так чудовищно разочарованный, он познал все древнее страдание всех Язонов этого мира, видящих, как корабли их идут на дно, едва покинув гавань…" И еще: "Чем была смерть для кадета Лау, как не истиной, величием и страданием?"
До известной степени это автошарж, Фолкнер совершенно открыто придал несостоявшемуся герою черты сходства с самим собой, каким он вернулся из Торонто, – с молодым человеком, которого однокашники прозвали Графом. Но есть и другая сторона: кадет Лау – это и есть воплощение той самой фальши, которую массово тиражирует «славное», как говорит Джо Гиллиган, отечество – ему нужен некий рекламный образ, оправдывающий высокие слова и безмерные амбиции.
Словом, "Солдатская награда" легко встает в сложившуюся, вернее, складывающуюся литературную традицию. При этом Фолкнер был вполне самостоятелен. То есть, разумеется, он читал – все его тогда читали – «Огонь» А.Барбюса. Читал, должно быть, с завистью, в этом "дневнике взвода" было все, что самому Фолкнеру так и не удалось увидеть и услышать: свист падающих бомб, стоны раненых, война как она есть.
Не прошли мимо внимания и ранние военные романы Дос Пассоса – "Посвящение одного человека – 1917" и особенно "Три солдата". Но ведь "Солдатская награда" – это не военный роман. Это роман о "потерянном поколении". И поскольку понятие закрепилось за вполне определенным кругом литературы, то сейчас, издали, может показаться, что молодой Фолкнер шел по следу, оставленному другими: Хемингуэем, Ремарком, Олдингтоном, А.Цвейгом. Давайте, однако, расположим даты в правильном порядке. "Солдатская награда" – это 1926 год. В том же году появилась «Фиеста». "На западном фронте без перемен" – 1928-й. "Смерть героя" и "Прощай, оружие!" – 1929-й. А "Все люди – враги" и "Воспитание под Верденом" – это уже вообще середина тридцатых.
Но вот какое дело. Перечитывая все эти книги, мы и сегодня ощущаем непосредственное волнение, какое всегда испытываешь, прикасаясь к правде. А "Солдатская награда" производит впечатление безнадежной вторичности.
Как это могло произойти, почему один писатель, допустим, тот же Хемингуэй, обращаясь к определенной жизненной коллизии, добился замечательного художественного результата, а другой, тоже наделенный могучим даром, лишь воспроизвел модельную, никому в частности и всем вместе принадлежащую ситуацию?
Конечно, имело огромное значение то, что Хемингуэй и другие воевали, а Фолкнер до фронта так и не добрался. В «Фиесте» войны вообще нет, в "Прощай, оружие!" она есть, но и Джейк Варне, и Фредерик Генри, и леди Брет, и Билл Гортон – все они несут в крови пережитое как непосильное душевное бремя. Потому, кстати, они избегают говорить о войне – знают, что нет таких слов, какие могли бы хоть сколько-нибудь верно отразить пережитое. Не то Джо Гиллиган – он все хочет сказать открыто: "Дерьмо. Вот что все это такое. Теперь даже и страдание – подделка". И миссис Пауэрс охотно откликается: "Джо, это единственное искреннее слово сочувствия, которое мне довелось услышать". Так что с них взять – ведь нам только сообщают, что Джо был в Европе, а Маргарет потеряла на войне мужа. Их опыт условен, и потому они просто употребляют те слова, которые принято употреблять. Но, лишенные содержания, они остаются полыми, и форсированная интонация лишь обнажает эту пустоту. Когда Кэтрин Баркли, услышав от возлюбленного случайно сорвавшееся слово «всегда», отшатывается, как от предательского удара, съеживается, мы ее понимаем и ей сочувствуем: человек, у которого отнято вчера и которому перекрыт путь в завтра, человек, живущий минутой, иначе и не может воспринимать понятия, превосходящие конкретность этой минуты. А фолкнеровские герои в кругу этих понятий как раз и пребывают, не чувствуя, должно быть, сколь расходятся они с тем опытом, носителями которого они будто бы являются, да и попросту разрушают живые человеческие характеры. "Все еще юная, она вновь должна была познать ужас расставания, неутоленную потребность приникнуть к чему-нибудь живому в этом темном мире…" "Она ощутила горький запах пепла былых страданий" – это только как бы о конкретной героине сказано, на самом деле – образ некоей рассеянной в мире субстанции неизбывного горя. "Мэхон сидел недвижный, безжизненный, как время", – конечно, не Мэхон, а вселенское олицетворение самой смерти. И погружены эти люди в атмосферу соответствующую – атмосферу "мягко обволакивающей смертельности ночи", которой на смену приходит "пророчество возрождающейся весны". Никакой снижающей иронией ("городок должен был воздвигнуть статую Дональду Мэхону, с барельефами Маргарет Мэхон-Пауэрс и Джо Гиллигана взамен кариатид") всей этой натужной патетики не снять.
На фронте Фолкнер не был, и все же военная тема никак его не отпускала. Чувствуя, должно быть, что в романе не выговорился, он несколько лет спустя написал цикл новелл, некоторые из которых еще через двадцать лет, уже зная цену своему слову и имени, включил в "Собрание рассказов". Этот том представлялся ему книгой, где "единство формы и построения так же важно, как и в романе, здесь должны быть целостность и единство задачи, контрапункт, последовательность соединений, подчинение одной важной цели". Без военных сюжетов, как и без рассказов об аристократах и бедняках-фермерах, об индейцах и неграх, одним словом, о Йокнапатофе ее прошлом и настоящем, такого единства и полноты, в представлении автора, не получалось.
Отчасти так оно и есть. Рассказы о войне были написаны после возвращения автора из Европы, где он наконец-то собственными глазами увидел поля недавних сражений. "Все выглядит так, – писал он из Франции домой, – будто на высоте шести футов над землей пронесся циклон. Торчат обрубки деревьев, а вдоль дорог валяются ящики из-под снарядов, и сами неразорвавшиеся снаряды, и ржавые мотки колючей проволоки, и человеческие кости, которые местные фермеры закапывают в землю. Бедная Франция!"
Честно говоря, в достоверность описания, хотя и не предназначено оно было для публики, не особенно веришь. Фолкнер пишет так, словно бой закончился только вчера, а между тем прошло более шести лет, как отзвучали последние выстрелы. Это скорее беллетристика или, положим, подготовка к беллетристике – автор воображает, как должно выглядеть поле боя.
Что Фолкнера в Европе действительно поразило, отозвалось невыдуманной болью, так это облик вчерашних героев. Сегодня они опустились, ходят в лохмотьях, попрошайничают на залитых светом улицах Парижа и Лондона – никому не нужны. "Так много здесь этих молодых людей, взгляд их мрачен и тускл, иные опираются на костыли, у других пустые рукава, у третьих лица покрыты шрамами. Им и теперь еще, как некогда миллионам сверстников, которые полегли под Дюнкерком и в Вогезах, приходится воевать". Из этих горестных замет, сохранившихся в письмах домашним, и выросли впоследствии рассказы, среди них сильные и запоминающиеся – например, «Победа». Сама война в нем изображена скупо, и слава богу, что автор отказался от изображения боевых эпизодов: наверняка прозвучало бы фальшью – "слишком опасный материал, тут любое, самое неистовое воображение нуждается в опоре на опыт, а его, как мы знаем, не было. Даже простые обозначения в этом рассказе – "ночная вылазка", "закрепили захваченную позицию" и т. д. – лишены обязательности, за ними ничего не стоит. А вот фигура героя, сержанта Грея, по-настоящему интересна и существенна: выброшенный на обочину жизни, влачащий полунищенское существование, лишенный – по всему видно – будущего, человек не гнется, гордо и яростно отметая жалостливое сочувствие тех, кому повезло. "В глазах его… нет смиренной надежды нищего, а горькое ожесточение, неслышный, как тень, отголосок горького беззвучного смеха, каким смеется горбун".
Тридцать лет спустя Фолкнер вернется в Париж, там у него состоится беседа с французской журналисткой Синтией Гренье. Вот фрагмент из этой беседы:
Гренье. Из многих ваших книг создается впечатление, что большинство героев остается во власти судьбы.
Фолкнер (делает жест трубкой). Но всегда есть один человек, который выдерживает, побеждает свою судьбу.
Гренье. Все-таки гораздо больше людей погибает, чем выдерживает.
Фолкнер. Это неважно, то, что они погибают, не имеет значения. Важно, как они погибают.
Гренье. А как нужно погибать?
Фолкнер. Погибать, пытаясь сделать больше того, что можно сделать. Бросая вызов поражению, даже если оно неизбежно.
Вот сердечная мысль, вот "общая идея" писателя. Она звучит и в военных рассказах, объединенных в «Собрании» под общим титулом "Бесплодная земля", в точности воспроизводящим название знаменитой поэмы Т.С.Элиота; тем и определяется их значение не только в этой книге, но и во всем творчестве Фолкнера. Но предыстория сержанта Грея и других людей, похожих на него судьбою, достаточно условна. Им не обязательно быть вчерашними фронтовиками – просто экстерриториальные люди, вроде тех, кого так замечательно описывал Джозеф Конрад, один из литературных учителей Фолкнера. В другом его военном рассказе, "Все они мертвы, эти старые пилоты", сказано следующее: "Эта история неполна и мозаична: серия кратких вспышек, высветивших на миг – без глубины, без перспективы – грозное предзнаменование, контурный образ того, что расе суждено испытать, когда блеснет на мгновение ее громовая слава".
Без глубины, без перспективы – скорее всего автор того не желал, но признание это прозвучало беспощадной самокритикой: он-то как раз всю жизнь стремился к полноте и цельности.
Да, то, что Фолкнер не был на войне, имело, конечно, значение. И все-таки дело не просто в этом. Герман Гессе тоже не был. И Томас Манн не был. Но они, как и большинство европейских писателей того поколения, пережили войну – пережили как крах ценностей, которые в течение столетий казались незыблемыми. Иначе не написать бы им таких романов, как "Степной волк" и "Волшебная гора", – в предисловии к последнему говорится, что после Вердена "началось столь многое, что потом оно уже и не переставало начинаться".
Вернемся снова к литературе "потерянного поколения". В чем ее сила и достоинство? Часто говорят: в том, что она нашла в себе мужество без прикрас рассказать об ужасах войны, сорвать с нее героический флер, разоблачить демагогию и, конечно, показать войну как душевную катастрофу личности. Это верно, но – не вся правда.