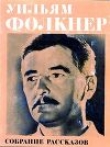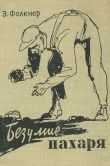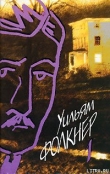Текст книги "Владелец Йокнапатофы"
Автор книги: Николай Анастасьев
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 35 страниц)
Несчастная нимфа и Пан несчастный, о, как рыдал он, ощутив
Лишь ветра тихий вздох и шевеленье
Речного тростника; несмелый чувства взрыв
И сладость запустенья – и боли аромат.
Впрочем, энергичная ритмика, контрастная четкость образов – это как раз то, что Фолкнера привлекало в английском поэте всего менее, скорее – смущало.
Вперед, через мели к волнам,
Крепнет ветер соленый, ревет,
Преследуя нас по пятам,
Подгоняя смерть вперед.
(Пер. И.Кашкина)
"Смерть" – подходит, и ощущение погони тоже подходит, но слишком все здесь определенно и динамично, а нужны полутона, неукротимость следует сбалансировать фатализмом.
Тогда Фолкнер обратился к французам – Верлену, Малларме, Валери. Вообще говоря, интерес к поэтам "конца века" был понятен: уж если учиться изображать разочарование, тлен души, безнадежность, то у кого же, как не у тех, кто действительно пережил – и в совершенстве запечатлел – тяжелейшую душевную смуту? Но начинающий поэт из американской провинции слишком поверхностно и слишком эгоистически прочитал "проклятых поэтов".
В поисках мира высших значений, которые должны прийти на смену утраченным ценностям, они стремились "запечатлеть не саму вещь, а производимые ею впечатления" (Малларме). Фолкнера же привлекали прежде всего слова, приемы – в их смысл он не вдумывался. Он даже название мог позаимствовать – написал вслед за Малларме собственный "Полдень фавна". Но что с того? Близость все равно оказывается внешней, ибо повтор никогда не бывает точным.
Не поиск собственного поэтического языка, хоть и с посторонней помощью, это был. Придумывая ощущения и настроения ("…песня спета – земли великая душа разбилась пред кончиной света"), актер у нас на глазах декламирует чужие строки, перебирает чужие парики, примеряет чужую одежду.
Получается просто гримаса, сплошная жестикуляция. В манере Суинберна. И Малларме. И Франсуа Вийона. И Китса. Наконец, Элиота, который как раз тогда начал выдвигаться в центр литературной жизни. В Европе, а потом в Америке прочитали "Любовную песнь Дж. Альфреда Пруфрока", и Фолкнер не замедлил воспользоваться новым образцом. Но и тут он просто подражает, а суть безнадежно утрачивается. Элиот откровенно смеется над нелепыми притязаниями своего персонажа – потрепанного, облысевшего, уютно свернувшегося в раковине быта Гамлета, – Фолкнер его возвышает. В оригинале герой, то есть, разумеется, совершенный антигерой, саморазоблачается; в копии – застывает в горделивом одиночестве, по-настоящему стремится "уйти от мира к молчащей полночи на лоно", вовсе не задумываясь над тем, насколько комически выглядит в своей позе непонятого и отверженного.
Оборачиваясь назад, можно, конечно, обнаружить в ранних пробах пера известную необходимость. Сохранились, развились не только отдельные образы; пристально вчитываясь в строки английских и французских предшественников, Фолкнер воспитывал в себе интуитивно-поэтическое восприятие мира> столь сильно сказавшееся в его зрелой прозе.
И все же между опытами молодости и позднейшими взлетами – целая пропасть.
Поражаешься, как изменяло Фолкнеру-поэту чувство меры, чувство стиля. Осенью 1920 года он написал пьесу «Марионетки» (поставлена она так и не была, даже на любительской сцене университета), где действуют персонажи комедии дель арте: Пьеро, Коломбина, Арлекин. А несколько месяцев спустя появился как бы стихотворный комментарий к пьесе: "Мир и Пьеро: ноктюрн". Опять происходит очевидная подмена. Традиционный Пьеро, персонаж народной комедии – комедии! – масок. Это, как мы помним, симпатичный паяц и растяпа, все время попадающий в дурацкие положения. А Фолкнер под заемным именем изображает страдальца, замкнутого в клетке из лунного света, и луна-паук прошивает его сердце серебряными нитями. Коломбина, в свою очередь, уже не неверная жена, а силуэт женщины, бросающей к ногам Пьеро алую розу – "отрезанную руку". Двум влюбленным не найти дороги друг к другу, и Пьеро грустно осознает, что "в одиночестве состариться он должен и погибнуть". Короче – еще один вариант фавна – летчика – непонятого художника.
Как говорилось, вслед за Суинберном Фолкнер принялся за Хаусмена. По-видимому, и в пору изнурительной погони за нимфами и наядами жил в глубине души деревенский парень, которому внятен язык леса и земли. Потому и вызывали сердечный отклик строки, в которых и чувство места сохранялось, и темная грусть-тоска жила.
А что теперь с упряжкой,
А что с плужком моим,
Которыми я правил,
Покуда был живым?
Как прежде тянут кони
По той земле плужок,
Где ты пахал когда-то,
Куда ты ныне лег.
(Пер. Б.Слуцкого)
Только и Хаусмен слабо помогал, больше того, "шропширский парень", попадая в чужие края, сразу утрачивал живость, превращаясь опять-таки в разочарованного изгнанника.
Снова думаешь о том, как на Фолкнера поработало время – не всегда к его благу. Все написанное им теперь найдено и обнародовано, но страсть библиофила этим, естественно, не утолишь. Согласно изысканиям одного энтузиаста, к 1974 году сохранилось 70 экземпляров первоиздания "Мраморного фавна": двадцать шесть хранится в университетских библиотеках, тридцать – в частных коллекциях, а четырнадцать у случайных владельцев, которые и становятся объектами осады. Причем готовы дать за тощий томик больше, чем дают за первоиздание «Тамерлана» Эдгара По, не говоря уж о хемингуэевском сборнике того же 1924 года – "Три рассказа и десять стихотворений".
Семьдесят, лет назад такую ситуацию и вообразить было невозможно.
6 августа 1919 года нью-йоркский журнал "Нью рипаблик" опубликовал "Полдень фавна" и заплатил автору первый в его жизни гонорар – пятнадцать долларов. Эта победа чрезвычайно вдохновила автора, а также его литературного опекуна, и они принялись рассылать рукописи в различные издания. Стихи повсюду отклоняли, иногда с объяснениями, иногда без всяких объяснений… Однажды, сильно раздраженные очередным отказом, друзья решили разыграть издателей. Переписали знаменитую поэму Кольриджа "Хан Кублы" и, подписав ее собственным именем автора, отправили в редакцию журнала. Пришел ответ: "Мистер Кольридж, нам понравилась Ваша поэма, но, к сожалению, опубликовать ее в настоящее время не представляется возможным". Фолкнер мог чувствовать себя удовлетворенным: если уж Кольриджа не хотят печатать, стало быть, не в том дело, что стихи молодого автора дурны, – просто издательским миром правят дураки.
Пошутив, Фолкнер все же возобновил попытки. – эффект был прежним. Тогда Стоун принялся за дело решительно – предложил сделать авторское, то есть за собственный счет, издание. Таким образом тиражом в тысячу экземпляров и был отпечатан известный уже нам "Мраморный фавн".
Сборник встретило полное молчание критики и такое же равнодушие публики. Забегая вперед, скажу, что та же судьба ожидала вторую – и последнюю – поэтическую книгу Фолкнера "Зеленая ветвь". К тому времени – дело происходило в 1933 году – автор уже завоевал некоторое положение в литературе, но не помогло и это – спроса не было. Правда, ко второму поражению Фолкнер отнесся хладнокровно, примирившись, очевидно, с тем, что поэта из него не получилось. Во всяком случае, к стихотворной форме он, по существу, больше не возвращался и издать ранее написанное попыток не предпринимал.
Есть, впрочем, некоторые основания полагать, что и в молодости, в самую бурную пору стихотворчества, он уже смутно подозревал, что взялся не за свое дело. Свидетельства косвенные, но все же внимания они заслуживают.
Многие в Фолкнере видели раньше, а некоторые видят и сейчас, лишь природного, пусть необыкновенно одаренного художника, этакого барда" заброшенного в XX век из седой древности, либо медиума, чьими устами вещает дикая природа. Мыслей, сознательного отношения к творчеству, которое столь характерно именно для литературы XX века, у него не находили. Один американский критик писал в 50-е годы: "Не думаю, что у Фолкнера когда-либо были идеи. Ощущения, высказанные с устрашающей энергией, – да, но не идеи, не стремление понять мир, вместо него – одно лишь желание чувствовать глубоко и переводить на язык слов свои ощущения и видения". Честно сказать, писатель и сам приложил некоторые усилия к созданию такого именно образа. Не счесть, сколько раз повторял Фолкнер, что он не литератор, а фермер, простой деревенский парень, что напрасно в его книгах ищут больше, чем в них есть. "Мне нравится рассказывать истории, описывать людей и ситуации. Но это все. Сомневаюсь, чтобы какой-нибудь автор знал, о чем хочет рассказать. Он всего лишь пытается поделиться тем, что знает о своих местах и людях этих мест, и сделать рассказ по возможности волнующим". А все остальное, мол, – интеллектуальные игры критиков, которые, в минуту раздражения скажет Фолкнер, являются естественными врагами художника.
Есть в этих высказываниях искренность, есть доля кокетства, есть самозащита недоучки, который в свое время грамотой пренебрег, а потом тайно по этому поводу всю жизнь сокрушался и, как мог, приобщался к знанию. Например, еще в Париже Фолкнер тщательно, с карандашом в руках, читал "Книгу по современной критике", где особенное его внимание привлекли статьи Гуго фон Гофмансталя "Поэт и его слушатель" и немецкого историка культуры, представителя так называемой "философии жизни" Вильгельма Дильтея "Опыт и творчество". Сохранились заметки на полях этих статей, свидетельствующие о живом, не стороннем интересе автора к прочитанному.
Это были уже не первые критические опыты – если, конечно, позволительно назвать опытом достаточно дилетантские реплики. Представляясь публике "деревенским парнем", Фолкнер то ли забыл, то ли не хотел вспоминать, что писал в молодости не только стихи, но также и статьи – нерегулярно, от случая к случаю, не придавая им, может быть, серьезного значения, но все-таки писал. Сейчас они включены в книгу "Ранняя проза и поэзия", тогда печатались все в той же университетской газете и еще в авангардистском журнальчике "Дабл Дилер", который издавался в начале 20-х годов в Новом Орлеане. Им явно не хватает определенности и системы, – да и откуда взяться? – не хватает и мыслительной широты, отличавшей, допустим, критическую прозу молодого Джойса, не говоря уж об эссеистике Томаса Манна, – глубочайшее уважение к университетской учености обоих Фолкнер пронес через все годы. Но какие-то догадки были, автор ощупью натыкался на нечто важное и необходимое – во всяком случае для себя. Эти догадки и позволяют предполагать, что не вполне тверд он был в поэтических поисках.
Вот рецензия на сборник стихов Уильяма Перси "Однажды в апреле". Стихи, объективно говоря, посредственные, подражательные, в ложноромантическом духе. Но понять, что в них задело Фолкнера, можно – скорее всего ощущение, как сказал бы Гете, избирательного сродства, он и сам писал нечто подобное, сам испытывал те же трудности. Потому критика становится подобием самокритики – автор пытается осознать и собственную силу – или то, что силою казалось, – и слабости, в которых прямо признаваться не хотелось. Конечно, ему понравился у Перси "яркий романтический колорит средневековья" – "да и самому рецензенту был близок, даром, что ли, читались так жадно прерафаэлиты – Россетти и прежде всего Суинберн? Он оценил позу отверженного: "Как, увы, многим из нас, ему следовало бы родиться в другое время". Это была его собственная – не желавшая, впрочем, признавать себя таковой – поза. Но по ходу чтения кое-что и смущало, чем дальше, тем сильнее. Поэт явно стремится к величию, а не получается даже величавости – почему бы? А потому, считает Фолкнер, что "в книге слишком много музыки". Сказано туманно, затем автор старается пояснить свою мысль. Поэт поднимает очи горе и стремится проникнуть взором небесную твердь, и это хорошо, это следует приветствовать. Но плохо то, что он отрывается от тверди земной.
Так Фолкнер впервые, по крайней мере – вслух, задумывается о том, без чего мы теперь и помыслить его не можем, что впоследствии назвали "чувством места". Его по-прежнему тянет в запредельные дали, но уже ощущается, хоть и невнятно, иная потребность – потребность общения с текущим временем и людьми этого времени. Как стихотворец Фолкнер не умеет привести эти порывы в равновесие, но как критик, пусть критик-любитель, пытается выработать нечто вроде программы. Одну за другой он пишет статьи "Американская драма: Юджин О'Нил" и "Американская драма: что ее сдерживает", в которых решительно порицает беспочвенность современной литературы. "О'Нил повернулся спиной к Америке и обратился к морской дали, Мардсон Хартли (ныне забытая, а в ту пору довольно популярная поэтесса. – Н.А.) отважно взрывает шутихи на Монмартре, Альфред Критморт (видимо, еще одна музейная фигура, честно сказать, я о таком даже не слышал.* Н.А.) уехал в Италию, а Эзра Паунд самозабвенно развлекается игрушками из поддельной бронзы в Лондоне". К тому же все помешались на разного рода привозных учениях, прежде всего на фрейдизме. Начитавшись Фрейда, писатели превращаются в невропатов. Похоже, венский врач и философ вообще стал персональным врагом Уильяма Фолкнера, хотя знакомы они не были. Много лет спустя писателя будут донимать вопросами, насколько повлиял на него научный психоанализ. Сначала Фолкнер просто отмахивался, но наконец сказал: "В ту пору, это была середина 20-х годов, в Новом Орлеане все только о Фрейде и толковали. Но я его так и не прочитал. Между прочим, не читал его и Мелвилл, и уж наверняка не слышал о нем Моби Дик". Так писатель говорил в пятидесятых, а в ранних статьях призывал отрубить голову дракону, которого сами же выпустили на свободу.
Океанские штормы, италийская древность, Монмартр – неужели дома ничего нет? Как же нет? – "У Америки неисчерпаемые запасы материала для драматических произведений". И тут же Фолкнер, явно утрачивая чувство меры, покровительственно замечает, что в последних пьесах, прежде всего в "Анне Кристи", О'Нил, как и должно, поворачивается от моря в сторону своих бедных соотечественников, показывая не без успеха их беды и страдания, радости и надежды. "Быть может, – ободряет критик драматурга, – со временем он извлечет нечто из богатого драматического материала, которого полно в нашей стране". Тональность диалога смешна и даже неприлична: где О'Нил, уже в ту пору первый драматург Америки, и где Фолкнер? Но общие соображения, при всей своей наивности, кажутся небезынтересными – в свете собственного фолкнеровского пути, который еще не начался, но скоро начнется. "Наша национальная литература, – пишет он, – не может вырасти из фольклора, хотя не счесть попыток, какие предпринимались в этом направлении, – не может потому, что Америка слишком велика, у нее слишком много фольклоров: фольклор негров из южных штатов, фольклор испанских и французских переселенцев, фольклор Запада… Не обрести нашей литературе национального характера и при помощи сленга, потому что и сленги в разных районах страны – свои. Но он может вырасти на основе поэтической образности, внятной всем, кто читает по-английски. Нигде в мире, за вычетом, может быть, Ирландии, не обладает английский такой мощью, как в Соединенных Штатах; хотя, быть может, как нация мы не обрели еще подлинного языка". И тут же: "При нашем недостатке душевного равновесия лишь язык способен стать нашим естественным спасителем". И еще: "Как нация мы заражены духом действия, даже наш язык-это скорее способ действия, нежели общения".
Конечно, Фолкнер понимает язык не как звучание, стиль, сцепления слов; для него это прежде всего – материальное воплощение духа и жизни народа, страны, это люди, лица, дела, история. В качестве подходящих тем он предлагает современным писателям "старые времена на Миссисипи и бурный рост железных дорог". А вместо этого они… впрочем, чем «они», в представлении Фолкнера, занимаются, мы уже знаем. Можно вновь подивиться нахальству молодого человека, который, сам еще в литературе ничего не сделав, дерзко сокрушает авторитеты, – помимо О'Нила, Паунда, Эми Лоуэлл, жертвой критика стал Карл Сэндберг, не просто ведущий национальный поэт, но и писатель-демократ, как раз замечательно обогативший поэтическую речь языком повседневной жизни.
И все же в этих нелепых часто наскоках было нечто основательное. Поучая, по видимости, других, Фолкнер прежде всего пытался пробиться к самому себе, еще не найденному.
Из-под пера выходили изящные строки, они обладали внутренней соразмерностью, они слышали и понимали друг друга, но земной тяжести были лишены абсолютно. Как-то Фолкнер попытался творчески осуществить собственную программу критика. В. конце 1921 года он написал небольшую поэму в прозе под названием «Холм». В первых строках угадывается будущий Фолкнер: безымянный герой взбирается на вершину, а вокруг разворачивается, обретает голос очеловеченный пейзаж: лес, лощина, ручьи, усадьбы, хижины – все то, что скоро оживет в Йокнапатофе. Но тут же материальные предметы утрачивают форму, растекаются в неясные символы, а путник, благополучно справившись с тяготами подъема, попадает в обстановку привычной пасторали.
Никак не мог освободиться молодой писатель от литературных влияний, никак не мог утолить жажду несовершенного подвига духа. Фолкнеру мучительно жаль расставаться с придуманным образом возвышенного героя, изведавшего страдания человечества, принявшего на себя всю боль вселенной, прошедшего через ад разочарований и вернувшегося на землю, чтобы поведать людям о пережитом и вырвать их из плена быта. Но это невозможно – нет общего языка. Отсюда – надсадный трагизм. Вот образец в подстрочном переводе:
Отчего я грустен? Отчего?
Отчего в душе нет мира? Небеса
Взывают, и все ж бессилен я порвать
Мои мраморные цепи.
Это не просто, как был уже случай заметить, персональное состояние души. Другой американский писатель, младший современник Фолкнера, которого он назовет потом лучшим в своем поколении, – Томас Вулф точно и безжалостно обнажил в своей тетралогии о Юджине Ганте – Джордже Уэббере внутренний мир молодого человека, вообразившего себя Икаром или, положим, раненым фавном: «Джордж уже вошел в роль мученика, заговорил о „художнике“, который, мол, выплескивает все самомалейшие мелочи умственной и эстетической жизни своего времени. Выходило, будто художник – это совсем особое, поразительное, редкостное существо, он живет лишь „красотой“ и „правдой“ и мыслит столь тонко, что обыкновенный человек попросту не способен его понять, как дворняге не понять луну, на которую она лает. И потому художник способен „творить“ только в том случае, если он постоянно парит в некоем заколдованном лесу, в каком-то волшебном мире».
Сказано словно о молодом Фолкнере. Правда, со своими ролями и масками, с позой неоцененного гения он расстался если не легче, то во всяком случае быстрее, чем автобиографический герой Томаса Вулфа.
Что, правда, не означало, будто, оставив писание стихов, он сразу оказался дома, сразу и без труда выработал почерк. Сковывал, как выяснится, не только жанр.
Глава III Все еще не дома
Для Фолкнера всегда, даже в ранней молодости, внутренние порывы души были самым увлекательным и самым драматичным из всех возможных приключений. А чтобы наблюдать их, вовсе не надо срываться с места и ехать куда-то. Тем более что люди повсюду, любил повторять писатель, одинаковы. У них разный цвет кожи и разные привычки, разные характеры и разная одежда, но живут они одними и теми же страстями и страданиями. Очутившись в середине 50-х годов в Японии, Фолкнер обнаружил, что его собеседники ждали встречи «даже не с интеллектуалом. Им нужен был просто человек, который говорил на языке иноземного интеллектуала, но который научился писать книги, отвечающие их собственным представлениям о литературе, который старается наладить связи между человеческими существами, говорит на общем языке, гораздо более древнем, чем любой язык, на котором говорят интеллектуалы, ибо это обыкновенный язык человечности – язык человечества, человеческих надежд и устремлений».
В этом смысле Фолкнер был совершенно не похож на Хемингуэя. Для того мостовые Парижа, африканские джунгли, горные ручьи в Испании были жизненной и творческой потребностью. Для Фолкнера все многообразие мира сосредоточивалось в Оксфорде, штат Миссисипи. Он, положим, путешествовал. Но либо, как мы уже видели, следуя моде, либо, как еще увидим, – по обязанности, не особенно приятной.
И все-таки однажды наступил и в его жизни момент, какой, должно быть, наступает в жизни любого провинциала, – потянуло в метрополию. Осенью 1921 года Фолкнер отправился в Нью-Йорк. Некоторые биографы уверяют, будто погнала его туда нужда или, может, недовольство отца, которому надоел рассеянный образ жизни старшего сына. Я так не думаю. Прежнего благополучия, верно, не было, но все-таки семья далеко не нуждалась. Что же до Марри Катберта Фолкнера, то его больше интересовала конюшня, чем занятия и жизненные планы детей. Так что вернее всего двадцатипятилетний – уже! – молодой человек снялся с места по другим причинам. В провинции литературная карьера явно не задавалась, и, разумеется, его это угнетало. Далее, Фолкнер был американцем, а американская культура, как сам он говорил, – это культура успеха. Не получается в Оксфорде – может, в Нью-Йорке получится? Это был не завоевательный поход, какой предпринимает порой литературная молодежь, штурмуя столицы; это была робкая попытка сделать хотя бы негромкое имя, найти среду, которая поможет выдвинуться.
Нельзя сказать, что трехмесячная поездка оказалась совсем зряшной. В Нью-Йорке Фолкнеру помогли найти работу в книжном магазине (заведовала им, кстати, некая Элизабет Пролл, которой в недалеком будущем предстояло стать женой Шервуда Андерсона). Продавцом он, говорят, оказался неважным: клиентов раздражало, что их поучают, нередко в самом агрессивном тоне, – мол, этот автор заслуживает внимания, а этот полное ничтожество. Продавцом неважным, зато читателем, как и прежде, отменным. Именно здесь, в Нью-Йорке, Фолкнер впервые всерьез познакомился с Сервантесом и Достоевским, Бальзаком и Диккенсом, Флобером, Мелвиллом, Конрадом – писателями, ставшими спутниками всей жизни. Разумеется, этому знакомству предстояло окрепнуть и углубиться, уроки – пережить и осмыслить. Нельзя же всерьез принимать написанный тут же, по горячему следу, рассказ «Любовь» – совершенно эпигонское упражнение в стиле Конрада; одному из персонажей даже имя конрадовское дано – Туан: так обращаются туземцы к главному герою "Лорда Джима", одного из самых известных романов английского писателя. Впоследствии автор должным образом отозвался об этом опыте, правда, источник заимствования указал другой: "…жалкое подражание Киплингу".
Все же не просто для того, чтобы пополнить, как говорится, литературное образование, отправился Фолкнер так далеко – этим можно заняться и дома. Недаром он поселился в Гринич-виллидж. Это название донеслось и до захолустья: не улица, не площадь, не городской район, а то, что можно было бы назвать состоянием духа. Гринич-виллидж – цитадель художников – бунтарей и искателей, которые с присущей молодости бесшабашной смелостью атаковали любые, освященные традицией, формы культуры. Элиот здесь пользовался непререкаемым авторитетом, в него верили, как в мессию. Казалось бы, такие умонастроения, пусть в самой радикальной форме, должны были быть Фолкнеру близки. Но нет, он просто потерялся в этой атмосфере шумных споров о будущем поэзии. Не потому ли и Левый берег Сены оставил его равнодушным, что позади был Гринич-виллидж? В обоих случаях Фолкнер не обнаружил проницательности. Авангард был нецелен – наряду с эпатажем, манифестами* или даже просто болтовней осуществлялись серьезные попытки реформы художественного языка. Пришелец этой границы не увидел. Но упрекать его особенно не приходится – другой темперамент, другой склад ума, другие, хотя и не выявившиеся еще, представления об акте творчества.
В Нью-Йорке Фолкнер раз и навсегда понял, что столицы, которые и художественную жизнь лепят по-своему, – не для него.
Под рождество он вернулся домой. Дойдя до этого места, биографы обычно начинают с удовольствием и в подробностях рассказывать, как Фолкнер менял, одно за другим, места службы: банковский клерк, садовник, маляр и т. д. Мы, как условились, все это опустим. Скажем лишь два слова о его работе на университетской почте, и то лишь потому, что относительно недавно, в 1987 году, почтовое ведомство США удостоило память Фолкнера специальным гашением. Курьез тут заключается в том, что таким образом были отмечены не заслуги Фолкнера-художника, а шестидесятилетие его деятельности в качестве почтмейстера. Торжественное представление марки состоялось на родине писателя.
Надо сказать, что чести этой он совершенно не заслужил. Задержался Фолкнер на почте три года, – дольше, чем где-нибудь, – но столь некраткий срок объясняется скорее всего удивительным долготерпением начальства, за которым, своим чередом, стоит местное политическое влияние судьи Джона Фолкнера, дяди Уильяма. Сказать, что Фолкнер работал плохо, нельзя просто потому, что он вообще не работал. По воспоминаниям одного земляка, молодой человек целыми днями сидел на стуле перед черным входом и все время что-то писал, не обращая ни малейшего внимания на клиентов, выражающих законное возмущение. Отправить или получить письмо стало неразрешимой проблемой, а о какой-либо отчетности даже и речи не могло быть. В конце концов терпение работодателей иссякло, и они деликатно дали понять досточтимому судье, что племяннику стоит поискать другую работу, больше отвечающую его наклонностям.
Единственным, что отвечало наклонностям Фолкнера, была литература. Правда, уже не поэзия. Он еще пописывал стихи, но все более вяло. Теперь предпринимались первые попытки овладеть новеллистической формой.
Традиции были; собственно, американская литература как литература национальная с новеллы и началась – вспомним Вашингтона Ирвинга. И к мировой читательской аудитории она тоже пришла по этому мостику – в Европе не только Эдгара По-поэта, но Эдгара По-новеллиста открыли раньше, чем дома. А в начале века колоссальной популярностью, оттеснив лучших романистов, пользовался О.Генри.
Но Фолкнеру все это не подходило. Что касается автора готических новелл, вроде "Дома Эшеров", то он, много позже скажет Фолкнер, "принадлежал к той группе американских писателей, которые были по преимуществу европейцами, а не американцами". На О.Генри он не ссылался вовсе, хотя, может, что-то их и сближало, во всяком случае первой литературной наградой, полученной Фолкнером, была премия О.Генри за лучший рассказ. Но даже если так, это был случайный, мимолетный интерес. В длительной традиции американской новеллистики Фолкнеру, как вскоре станет ясно, не хватало цельности, полноты смысла и общего взгляда на мир. Той цельности, которую он сразу же инстинктивно уловил у Достоевского, Бальзака, Мелвилла. Но именно инстинктивно – время эпоса для него еще не настало.
В начале 20-х годов читающую Америку возбудил писатель уже далеко не молодой и издавший не одну книгу, но до той поры мало кем замечавшийся. Интерес и удивление были вызваны как раз тем, что этот писатель совершенно отошел от традиционного канона американской новеллы, с которым он, по собственным его словам, находился в "состоянии войны". "Я не думаю, что на меня оказал какое-либо влияние По, ибо я не доверяю излишне выверенным, геометрическим построениям. Мне кажется, американская новелла испытала чудовищно разлагающее влияние О.Генри, не принес ей пользы и Мопассан".
Суть реформы, осуществленной этим немолодым писателем, заключалась в том, что, отказавшись от сюжета, от интриги, динамики и т. д., он перенес действие во внутренний, непредсказуемый в своих движениях мир человеческой души. А в то же время ни на минуту не отрывался от земли, его проза необычайно пластична, здесь все осязаемо и все слышно.
Звали этого писателя, как нетрудно догадаться, Шервуд Андерсон.
Его поразительная способность двойного видения, единство мировосприятия совершенно захватили молодого Фолкнера. Он читал и перечитывал новеллу "Ну и дурак же я" (из сборника "Кони и люди"), все стараясь понять, как это удалось автору в таких простых словах, в этой небрежно-разговорной манере, в обрамлении зауряднейшего пейзажа – товарный поезд, трактор в поле, ипподром в городке, – как удалось обнаружить за всем этим и показать странность, «гротескность», сказал бы сам Андерсон, человеческого характера? Как сумел он в обычном и примелькавшемся увидеть невыразимое и неповторимое, в быте – драму?
Тут нам имеет смысл возвратиться к началу рассказа – к встрече с Андерсоном.
Произошла она так. Старший товарищ Фолкнера, популярный впоследствии беллетрист Старк Янг, пригласил его в Новый Орлеан, соблазняя тем, что здесь сейчас его бывшая патронесса Элизабет Пролл, ныне Элизабет Андерсон, и она, наверное, не откажется познакомить его с мужем.
Фолкнер, конечно, поехал. В Новом Орлеане его поначалу направили к некоему Биллу Спратлингу, живописцу и скульптору, человеку необычайно общительному, который был рад разделить свою мансарду во Французском квартале со сверстником. Тем более что тот тоже был отчасти рисовальщиком: первая опубликованная работа Фолкнера – графический рисунок в манере Обри Бердслея, прославившегося иллюстрациями к «Саломее» О.Уайльда. Надо сказать, что это знакомство, особенно укрепившееся во время совместной поездки в Европу, сослужило Фолкнеру впоследствии дурную службу в его отношениях с Андерсоном. Вернувшись в Америку, друзья издали красочный альбом "Шервуд Андерсон и другие знаменитые креолы", в котором шуточно изображена жизнь Французского квартала. Карикатуры, само собой, сделал Спратлинг, а Фолкнер написал вступление, где спародировал манеру Шервуда Андерсона и, также слегка подтрунивая, изложил некоторые его взгляды на литературу. Андерсон, однако, шутки не понял, сильно обиделся (как обиделся он и на другого своего подопечного, Хемингуэя, который также обыграл его стиль в повести "Вешние воды") и надолго оборвал с Фолкнером всякое общение. Не примирило его с ним даже посвящение, предваряющее роман «Сарторис»: "Шервуду Андерсону, чья доброта позволила мне издать свой первый роман, – в надежде, что настоящая книга не даст ему оснований об этом пожалеть".
Впрочем, все это – и пародия, и посвящение-покаяние – впереди, а пока знакомство только начинается. Расскажем о нем немного, опираясь на собственные воспоминания Фолкнера.