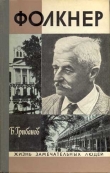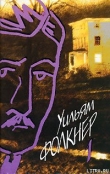Текст книги "Владелец Йокнапатофы"
Автор книги: Николай Анастасьев
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 35 страниц)
Ваш искренний друг Уильям Фолкнер".
Теперь он высказался до конца. Последовательность, неуклончивость позиции делают честь. Но ни славы, ни душевного покоя участие в делах, которые волновали и Юг, и всю страну, писателю не принесло. Правоверные южане, не стесняясь порой в выражениях, обвиняли Фолкнера в антипатриотизме – им казалась кощунственной сама мысль о равенстве, какими бы там путями к нему ни идти. Когда Фолкнер печатно выступил против смертной казни негру, обвиненному в изнасиловании белой, окружной прокурор заявил – тоже печатно, – что писатель "либо дал волю своему богатому воображению, либо вступил в союз с коммунистами". А радикалы и даже просто либерально настроенные сограждане били с другой стороны: расист.
На перекрестке таких суждений оказался, едва появившись на свет, роман "Осквернитель праха" – пора нам к нему вернуться. Авторитетный нью-йоркский критик Максуэлл Гайсмар заявил, что книга написана рукою южного шовиниста. А земляки писателя встретили «социологию» романа в штыки.
Оксфордская «Игл» получила (и обнародовала) немало писем, авторы которых возмутились антипатриотической позицией автора книги. И уж вовсе взрыв страстей вызывало известие, что «Метро-Голдвин-Майер», купившая права на экранизацию, собирается снимать фильм по "Осквернителю праха" в окрестностях Оксфорда. Когда один из ведущих в то время режиссеров студии Кларенс Браун приехал сюда со своей группой искать натуру, его встретили с открытым недоброжелательством: не нужны нам здесь всякие пришельцы, собирающиеся рассказывать о том, как мы линчуем негров. Браун был несколько обескуражен, а оправившись, попытался успокоить публику. В интервью местному журналисту он сказал:
"Мы постараемся снять фильм так, чтобы он стал красноречивым выражением подлинного южного взгляда на расовые отношения и расовые проблемы". Протесты, однако, продолжались, и тогда редактор газеты назвал вещи своими именами: Голливуд – это большие деньги, а деньги нашему городу не помешают. Такое трезвомыслие несколько притушило эмоции; впрочем, наиболее принципиальные оппоненты остались при своем: выгода выгодой, реклама рекламой, а честь знамени превыше всего.
Съемки все же начались. На этот раз Фолкнер, чего раньше не бывало никогда, энергично включился в работу. Ему понравился Хуан Эрнандес, актер-пуэрториканец, выбранный на роль Лукаса Бичема, и он терпеливо учил его акценту, с каким говорят негры в этой части Юга. А еще больше понравился режиссер и режиссерский сценарий. "Браун – один из лучших режиссеров, с кем мне приходилось работать, – пишет Фолкнер Беннету Серфу, своему редактору из издательства "Рэндом Хаус". – Он начал с того, что попросил меня прочитать сценарий и сказать, какие требуются изменения; уверен, что это не просто из вежливости. Но там нечего было менять. Я, впрочем, внес небольшие поправки в тюремную сцену, переписал эпизод в кухне шофера, когда они нарезают мясо, но это и все". Чтобы создать праздничную атмосферу, Фолкнер даже, при всей своей нелюбви к шумным сборищам, устроил домашний прием. При этом он совершил, увы, вполне сознательно, огромную бестактность. С присутствием заезжего цветного его гости, скрепя сердце, еще как-нибудь примирились бы, но если приглашать Эрнандеса, то надо приглашать и негритянскую семью, у которой он в Оксфорде остановился. А такого нарушения традиций никто бы не потерпел. Так и прошел прием без ведущего актера.
Через несколько месяцев состоялась премьера. Очевидец так описывает ее: "Воскресным вечером 9 октября светло-голубой луч от лампы в восемь миллионов свечей прорезал небо над площадью. Три другие лампы, поменьше, образовали световую дугу над зданием суда, и еще с десяток осветил фронтоны свежевыкрашенного нового здания кинотеатра… С тех пор как янки сожгли город, такого всеобщего возбуждения здесь не было. Оркестр Миссисипского университета играл мелодию за мелодией, и вот по радио начали объявлять поименно о прибытии знатных гостей". Но начало представления задерживалось. В то самое время, когда местные знаменитости занимали места в зале, герой дня препирался с близкими, отказываясь участвовать в церемонии. Только появление тетки, не привыкшей, чтобы ей перечили, положило конец спору. Ворча и морщась, Фолкнер надел визитку и направился в театр. Не зря, не из упрямства он сопротивлялся.
Ему ли, старому голливудскому волку, не знать, что сценарий – это одно, а фильм – другое? А ведь увлекся, решил, что раз на бумаге все получается как надо, то и фильм будет хорошим. Самообман продолжался до того самого момента, когда Фолкнер побывал в Мемфисе на просмотре. Он, как водится, проявил лояльность, сказал интервьюеру, что фильм отличный, что он гордится так, как если бы снял его сам, и т. д. Правда, оговорился на всякий случай, что язык кино не следует смешивать с языком литературы.
Но дело все-таки было не в трудностях перевода. Фильм, если воспринимать его вне литературной основы, действительно получился удачным, так что, может, Фолкнер не слишком лукавил, рассыпаясь в похвалах. Ну, а если все же сравнить "Осквернителя праха", каким он получился на экране, и "Осквернителя праха" в оригинале, то сразу будет заметно, что детектив остался, более того – усилился, а социология, не говоря уже о психологии, почти исчезла. Так оно, наверное, и должно было быть. Дело в том, что главным героем фильма, человеком, и впрямь все на себя берущим, стал Лукас Бичем, прекрасная актерская игра лишний раз это подчеркивала. И быть может, глядя на экран, Фолкнер – по контрасту – лучше понял, о чем же и о ком все-таки написан роман. Во всяком случае, уже после того, как фильм был закончен, пошел в прокат, завоевал шумную популярность, Фолкнер сказал, что на самом-то деле "Осквернитель праха" – это "неплохое исследование на тему о том, как шестнадцатилетний подросток за одну ночь вырастает в мужчину". Вот это точно. Чик Маллисон уже мелькал на дорогах Йокнапатофы – в рассказах «Монах», "Завтра", "Ошибка в опыте". Но именно мелькал, один из многих, в лучшем случае – наблюдатель детективных разысканий Гэвина Стивенса. Теперь он выходит в центр и оказывается в том же положении, в каком раньше были Баярд Сарторис и Айк Маккаслин (вообще эта троица гробокопателей: Чик, его чернокожий приятель Алек Сандер, престарелая мисс Хэбершем – точь-в-точь напоминает скитальцев из «Непобежденных»: Баярд – Ринго – Роза Миллард). Есть, впрочем, и куда более отдаленный предшественник – Гек Финн. Не особенно высоко ставя Марка Твена как мастера ("слишком расплывчат, его книги – неоформленная масса материала"), Фолкнер в то же время говорил, что из "Гекльберри Финна" вышла вся новейшая американская литература.
Как и все, по существу, фолкнеровские герои, Чик родился уже взрослым, то есть человеком, у которого есть память и опыт – история. Из малейшего дуновения воздуха, выбоины на асфальте, звука имени складывается в его сознании четкая картина. Стоило кому-то произнести: «Лукас», как мальчик сразу понял, хоть и не знал его лично, кто это, а затем "вспомнил все остальное из этой истории, представляющей собой кусок или часть летописи здешнего края". И стоит ему пройти мимо городской тюрьмы, как уже не часть, а вся история общины встает перед ним, "ибо не только загадочные, всеми забытые инициалы, слова и даже целые фразы, вопли возмущения и обвинения, нацарапанные на стенах, но самые кирпичи хранят не осадок, но сгусток-уцелевший, нетронутый, действенный, неистребимый сгусток страданий, и позора, и терзаний, о которых надрывались и разрывались сердца, давно обратившиеся в неприметный прах".
Такая память – дар и благо: ребенку не надо учиться ходить, как всем другим детям" он; не открывает мир, не тычется сдай по – приходит в него по-хозяйски, ему не нужна даже направляющая рука, не нужны подсказки, советы, предостережения. "Дядя знал", "дядя рассказывал" – Чик будто бы передает слова и знание старшего, но это чистая условность, он сам все знает и рассказывает нам – людям со стороны.
Однако же еще в большей степени такая память – проклятие и бремя, немыслимая нагрузка на душу. Потому что ее приходится не просто принимать с благодарностью, но – превозмогать. На долю героя выпадает испытание, и. от того, выдержит он или нет, зависит не только его, Лика Маллисона, но и целой общины будущее. щ времен Марка Твена прошли десятилетия, над миром пронеслись смерчи, о каких относительно спокойный XIX век и не подозревал,? захолустный американский Юг они тоже не миновали. Потому фолкнеровским мальчикам не поиграть в те игры, не испытать такого покоя, в какой погружен их земляк и сверстник Гек Финн. Тут гибель всерьез, тут за окнами дома не плавная Миссисипи течет – "огромная лавина времени ревела, не приближаясь к полночи, а волоча ее за собой, не затем, чтобы швырнуть полночь в крушение, но чтобы изрыгнуть на них останки крушения полночи, одним хладнокровным, заслоняющим небо зевком".
Соответственно и сроки сдвигаются; мужчинами становятся в одночасье. Даже сравнительно с «Непобежденным», с «Моисеем» время драматически сжато, в если в тех книгах мы видели результат скрытой, растянувшейся на годы работы души, то здесь она протекает на глазах, стремительно.
Три порога приходится преодолеть Чику Маллисону. Вся эта история началась раньше, чем начался сюжет ("Это было в то воскресенье, ровно в полдень шериф подъехал к тюрьме с Лукасом Бичемом…"). Она началась четыре года назад, когда унаследованный, упорядоченный мир сильно накренился: Лукас Бичем переступил, сам того не заметив (и тем это для мальчика ужаснее), черту, отделяющую черных от белых. Он помог Чику выбраться из ручья, куда тот ненароком свалился, охотясь на зайцев, высушил, накормил, обогрел – и плату принять отказался, Чик опозорен – не просто лично уязвлен, он чувствует; что унизил "не только свое мужское «я», но и всю свой расу". С этого момента жизнь превратилась в мучительное ожидание и поиски реванша. Совершенно заурядные события, поступки исполняются рокового, провиденциального смысла. Чик посылает Лукасовой жене рождественский подарок и вздыхает облегченно: теперь я свободен. Но в ответ приходит ведерко свежей патоки, и все начинается сначала. Проходя по городской площади, Лукас не замечает его (а болтался-то там Чик затем лишь, чтобы попасться на глаза), и это новое оскорбление, потому что невозможно поверить, будто негр не заметил белого, хотя бы у этого негра и случилось большое горе – жена умерла. Да затем, собственно, и бросился Чик в свое отчаянно-рискованное ночное приключение с раскопкой могил: он спасает Лукаса от веревки и костра, но еще больше облегчаем собственную душу.
То есть мальчику так кажется, или, может быть, он действительно верит, что главное – расквитаться за пережитое унижение. Но на самом деле он уже споткнулся, незаметно, неосознанно пока, о другой порог. Теперь он лицом к лицу с собственной расой. На пути к тюрьме им с дядей встретился джефферсонский лавочник, они перекинулись парой слов, земляк посетовал, что жена занемогла и нет времени поглазеть на камеру, куда поместили негра и откуда понаехавшая в городок родня убитого наверняка его вытащит. Но если вдруг будет в нем нужда, стоит только окликнуть.
"Вот видишь? – сказал дядя. – Он ничего не имеет против, как он выразился, черномазых. Спроси его, и он тебе наверняка скажет, что он любит их больше некоторых известных ему белых, и сам он этому верит. Они, по всей вероятности, частенько обсчитывают его, недодадут цент-другой и тащат, наверное, какие-нибудь пустяки, по мелочам… он, вероятно, и сам отдает им даром какие-нибудь там кости, мясо с душком, которое он по недосмотру принял от мясника, завалявшиеся карамельки. Все, что он требует от них, – это чтобы они вели себя, как черномазые. Вот так именно и поступил Лукас: пришел в ярость и застрелил белого человека; и, наверное, мистер Лилли считает, что все негры хотели бы сделать то же, а теперь белые возьмут и сожгут его, все правильно, как полагается, и он твердо убежден, что и сам Лукас хотел бы, чтобы с ним поступили именно так, как. подобает белым; и те, и другие поступают неуклонно по правилам: негр – как положено негру, а белые – как полагается белым, и после того, как каждая сторона утолила свою ярость, никто не в обиде… и сказать правду, мистер Лилли, наверное, даже одним из первых предложит дать деньги на похороны Лукаса и помочь вдове и детям, если бы они у него были".
Мальчик промолчал, ничего не ответил, но, может, эта длинная профессорская тирада нарушила, сдвинула авторитетную систему представлений, с которой он родился и вырос, может, мелькнула, не задержавшись пока надолго в сознании, мысль: а чем я лучше этого захудалого мистера Лилли, ведь и я думаю, как он, как все думают: "Если бы только он сначала был просто негром, хоть на секунду, на одну крохотную, бесконечно малую долю секунды". Пусть другим этого мало, пусть они требуют от негров постоянно правильного поведения, но тут уж идут количества и оттенки, а система, порядок, иерархия – одни и те же.
А потом, через несколько часов, – но только по календарному счету – эта случайная встреча, эти не застрявшие в памяти слова породили обвал: тщедушная фигурка лавочника грозно выросла до размеров целого мира, открывшегося теперь Чику. во всей своей устрашающей, недоброй тяжести. Джефферсон " заполнился людьми с Четвертого – самого, даже по местным понятиям, консервативного – участка округа (впрочем, по словам автора, "Четвертый участок не сделал при данных обстоятельствах ничего такого, чего не сделали бы остальные", – потому и отклонил он этот вариант заглавия романа, скорее подошло бы, предлагает тут же Фолкнер, другое название, скажем "Округа"). Суд Линча не состоялся, но скопившаяся злоба должна была найти выход, и вот она все крушит окрест, выбивает витрины, рвет в клочья занавеси, топчет цветы. Самое страшное – безымянность; перед глазами Чика – толпа, бесчисленная масса лиц, "удивительно схожих отсутствием всякой индивидуальности, полным отсутствием «я», ставшего «мы». Раньше в ощущении родственной связи с этим «мы» Чик черпал и собственную силу, и твердость, и уверенность неодиночества, чувство прикосновенности к истории с ее трудами, славой, достоинством. И только ждал, что ему выпадет случай причаститься и стать достойным этого сообщества и, оставив в нем свой след, "занять место в летописи человеческих дел". Но теперь все перевернулось, утратило форму и меру – как в кривых зеркалах. Открылось "Лицо, сборное Лицо его земляков, уроженцев его родного края, его народа кровного, родного, с которым он был бы счастлив и горд оказаться достойным стать единым несокрушимым оплотом против темного хаоса ночи, – Лицо чудовищное, не алчно всеядное и даже не ненасытное, не обманувшееся в своих надеждах, даже не досадующее, не выжидающее, не ждущее; и даже не нуждающееся в терпении, потому что вчера и сегодня суть Есть; Неделимое; Одно.
Это слишком сильный удар, сознание уже готово осуществить полный пересмотр унаследованной системы ценностей, когда сжигают все, чему поклонялись вчера и всегда. Чик вот-вот заскользит вниз, рухнет в черноту безверия и отчаяния, но тут начинает резонерствовать дядя Гэвин. И мальчик приближается к третьему порогу своей ускоренной духовной Одиссеи. Ничего нового он, собственно, не услышал, он и сам всегда знал, не сомневался, что есть свои и есть чужие, Север – люди, похожие на него и на тех, кто с ним, и на том же языке говорящие, однако "нет настоящего родства, а скоро не будет и контакта". И все это казалось должным и естественным. А теперь естественность утратилась. Когда-то Чик испытал стыд оттого, что не сумел доказать черному своего и, следовательно, своей расы превосходства. Ныне он снова переживает шок, но это уже очищение: мальчик понимает, что невозможно – позорно, безнравственно – защищать свое только потому, что оно свое, что нельзя мириться с нетерпимостью только потому, что она взращена родной почвой.
Баярд Сарторис искупает родовую вину, отказываясь от насилия.
Айзек Маккаслин, удаляясь в одиночество, хочет смыть с общины грех рабовладения и собственности.
Чик Маллисон никаких ритуальных жестов не совершает, символических веточек вербены не получает. Но по силе самопознания он оказывается выше обоих своих предшественников. Случайный эпизод детства – встреча с Лукасом – стал судьбоносным: герою может казаться, что он ищет случая рассчитаться с долгом, с невольным кредитором, а на самом деле – ищет себя и в себе – целый мир, – освобождается от скверны, да и вперед глядит. В этом смысле он превосходит и своего наставника. Пятидесятилетний Гэвин говорит, что нельзя останавливаться, нельзя мириться с бесчестьем и несправедливостью, но это Чик уже понял. Понял и нечто большее: "Нам теперь нечего беспокоиться, что мы остановимся. По-моему, нам сейчас надо побеспокоиться, в каком направлении мы двинемся и как".
Наверное, эти прозвучавшие обещанием слова вспомнил автор, когда говорил в интервью Синтии Гренье: "Гэйин Стивене был хороший человек, но не смог дорасти до собственного идеала. Но вот его племянник, мальчик, – я думаю, из него выйдет человек получше. Мне кажется, из него выйдет настоящий человек".
До новой встречи с Чиком, впрочем не с Чиком уже – с Чарлзом Маллисоном, оставалось недолго. Интервью было дано в 1955 году, а через два года появился «Городок», вторая часть трилогии о Сноупсах, где повзрослевший герой ведет одну из главных партий.
Глава Х Драма идей и драма людей
К моменту появления «Осквернителя праха» у Фолкнера сложилась в литературе какая-то странная репутация. С одной стороны, его книги не проходили незамеченными, да и имя, особенно после «Святилища», было на слуху. Недаром в 1939 году фотография писателя украсила обложку «Таймс», а на внутренних полосах был опубликован большой иллюстрированный очерк. И вместе с тем – книги его мало читались, почти не читались. С этим парадоксом столкнулся Малкольм Каули, когда принялся в 1945 году составлять том фолкнеровского «Избранного» в рамках задуманной им серии мастеров литературы США. Издательства, одно за другим, отклоняли саму идею. Тщетно Каули ссылался на международный авторитет Фолкнера – Сартр, а вслед за ним и Камю говорят, что молодежь Европы буквально обожествляет этого писателя. Напрасно кивал и на Хемингуэя, который ему, Каули, писал, что счастлив был бы служить у Фолкнера литературным агентом. В ответ он слышал одно и то же: вы составляете библиотеку мастеров литературы, а какой же из вашего Фолкнера Мастер, загляните в книжные магазины, его книги пылятся на полках.
В конце концов «Избранное» все же увидело свет. Каули хлопотал не зря. Он верно рассудил, что читательский неуспех Фолкнера объясняется чрезвычайными трудностями восприятия – собственно, и мы все время о том толкуем. Вот критик и решил поместить Йокнапатофу под одну обложку, самим построением книги раскрыть на многое глаза, рассеять тьму, упорядочить хаос, да и встречающиеся то и дело несоответствия убрать. В самом деле, в одном случае Иккемотубе представляется отцом Иссетибехи, а затем его внуком, один и тот же персонаж возникает под разными именами, одни и те же события происходят в разных книгах в разное время и т. д. Словом, «Избранное» задумывалось как очередной путеводитель по вымышленному краю – на сей раз сторонний, не авторский (хотя, как мы знаем, и принимал автор активное участие в его составлении).
Вот как выглядит Йокнапатофа в координатах времени.
Иккемотубе пришел сюда в самом начале прошлого столетия. Он продал землю и леса Карозерсу Маккаслину; потом появились Сарторисы, Компсоны, де Спейны, за ними чужак – Сатпен. Этот начальный период отразился во фрагментах, составивших первую часть сборника – «Старожилы». Затем разразилась Гражданская война, пошатнулось положение аристократов, рухнул замысел Сатпена. Это 50 – 60-е годы. На рубеже нового столетия пришли Сноупсы – наступил "Конец порядка" (так названа пятая часть сборника). А к тридцатым годам XX века из семейств основателей остался один Айзек Маккаслин, Сноупсы распространились по всей округе, полностью вытеснив прежних владельцев.
Тут том, составленный Каули, обрывается. Впереди еще были "Осквернитель праха", "Реквием по монахине", «Городок», "Особняк", «Похитители», но существенных изменений в хронологию "Золотой книги" они не внесли, события, в них изображенные, легко распределить, согласно плану, составленному Малкольмом Каули.
Уже после смерти писателя другой внимательный исследователь его творчества, Роберт Кирк, составил еще один справочник: "Люди Фолкнера. Полный указатель к сочинениям писателя". Этот автор, как видно из названия, пошел другим путем, попытался упорядочить художественный мир, связав меж собою его обитателей (из подсчетов выяснилось, что общее число их достигает 1200, из них 175 упоминаются чаще одного раза). Помимо того, Кирк занялся топографией. Составив куда более подробную, нежели авторская, карту, он совершенно точно указал, где что произошло, кто с кем и когда встретился и все в этом роде. Могут, понятно, быть и иные способы формализации, например тематический. Да они не раз применялись. Собственно, на такой путь и мы было вступили: перешагнув через годы, связали произведения, явно объединенные общностью темы. Может быть, что-нибудь из этого получилось, может, какая-то ясность возникла. Но даже если это и так, обольщаться не следует. Фолкнеровский мир изначально нелинеен, существующие в нем прямые связи осложнены связями совсем неочевидными, так что, уступая соблазну порядка, что-то приобретаешь, но что-то, очень существенное, и утрачиваешь.
Надо возвращаться назад.
Казалось, за десять лет, прошедших после «Сарториса», Фолкнер настолько обжился в своих краях, а, с другой стороны, так много было еще не досказано, не развернуто, что нет ему теперь отсюда дороги: от добра добра не ищут. К тому же один малоудачный опыт недавно был – «Пилон». И уж тем более трудно было предполагать, что этот закоренелый почвенник вдруг возьмется за дело, для себя совершенно непривычное, забудет о приключениях людей, обратится, как какой-нибудь писатель-интеллектуал, – фигура вообще-то в литературе XX века распространенная, – к приключениям, к драмам идей.
Тем не менее получилось именно так.
15 сентября 1937 года Фолкнер быстро набрасывает план нового сочинения – "Дикие пальмы". В окрестности Нового Орлеана, туда, где происходило действие «Москитов», приезжает молодая пара. Это явно не муж с женой, да и не счастливые любовники, между ними постоянно остается что-то недоговоренное, не ослабевает напряженность. Ее сразу ощущает местный доктор и, став невольным свидетелем чужой, не понятой им беды, сам с тоскою признается себе, что жизнь не удалась, что и его постигла семейная катастрофа.
Поначалу Фолкнер не думал о большой вещи. Через некоторое время он написал рассказ, в котором были усилены некоторые линии первоначального наброска, введены новые. Скажем, подтвердилось предположение старого доктора, что болезненное состояние молодой женщины вызвано недавним абортом. У героев появились имена – Гарри, Шарлотта.
Рассказ не был опубликован, неизвестно даже, предлагался ли он издателям. Но работа продолжалась почти без перерывов. Рукопись все стремительнее перерастала намеченные рамки. Уже в ноябре Фолкнер пишет Роберту Хаасу: "Я целиком ушел в роман. Движется он пока медленно, но, даст бог, скоро распишусь и смогу прислать его к первому мая. Впрочем, твердо не поручусь, потому что чувствую себя неважно". Через месяц – тому же корреспонденту, уже куда более оптимистически: "Роман продвигается. Написана почти треть, дело, тьфу-тьфу, идет на лад, могу писать с закрытыми глазами и связанными руками. К первому мая получите рукопись". К первому – не к первому, но 17 июня Фолкнер шлет в Нью-Йорк телеграмму: "Роман закончен. Остались небольшие поправки. Через несколько дней отправляю".
Хаасу, чьему вкусу Фолкнер доверял, роман понравился, о чем он и сообщил автору, сделав несколько редакторских предложений. Фолкнер писал в ответ: "Дорогой Боб, как я рад был получить от тебя весточку. Последние полтора года у меня все так осложнилось дома и так донимали боли в спине, что сам до сих пор не могу понять, что получилось: роман или макулатура. Когда писал его, все казалось, что между мною и бумагой стена и я пишу не только на невидимой бумаге, но и в кромешной тьме, так что даже не знаю, пишутся слова или остаются в воздухе". Дальше идет разговор об этих самых редакторских замечаниях и просьбах: "Теперь о непечатных словах. Их немало. Ты хочешь все их вычеркнуть? Можно сделать так, как раньше, поставить отточие на месте каждой опущенной буквы, например: "Женщины…", – сказал Высокий Каторжник". Этого будет достаточно, не так ли? Ведь людей потрясает то, что они видят, а не то, что слышат или о чем думают, так что, какая разница, заметят они эти слова или нет? Но это как раз тот самый язык, на котором в таких обстоятельствах говорят мои герои, и среди тех, кто, хотелось бы надеяться, прочитает книгу, есть немало людей, которые поверят, что я, как честный (хотя и не всегда удачливый) хроникер человеческой жизни, достаточно верен своему призванию, чтобы отстаивать его даже в мелочах.
Или, может, устроим обмен? Ты поступишь, как считаешь нужным, с этими словами, но при этом согласишься с новым названием?" Оно пришло автору в голову, когда он уже заканчивал книгу, подводил моральный итог испытаниям героев, формулировал кредо. Звучит название так: "Если я забуду тебя, Иерусалим" – усеченная цитата из Библии: "Если я забуду тебя, Иерусалим, – забудь меня, десница моя" (Пс. 136:5).
Заголовок, впрочем, остался прежним. Что же касается нецензурных выражений, спор был заведомо проигран, ибо в те годы печатное слово далеко еще не вступило в полосу нынешней вседозволенности, и издатели даже задумываться не хотели, что перед ними: грубый эпатаж, элементарная распущенность или творческая необходимость (лишь за пять лет до описываемых событий закончились в Америке длительные судебные прения вокруг «Улисса», где, правда, слов, от которых краснеет бумага, куда больше, чем у Фолкнера; разрешив роман к печатанию на территории Соединенных Штатов, судья Джон Вулси вписал свое имя в литературную историю). Впрочем, на сей раз Фолкнер не проявил обычной энергии в борьбе за оригинал.
И, пожалуй, не просто потому, что знал, что эта борьба безнадежна. Он и впрямь до последнего сомневался, получилось ли у него что-нибудь стоящее.
Верно, в последнее время он недомогал, болела спина, и эти боли будут отныне часто возобновляться, он узнает запахи больничной палаты, даже торжественная церемония в Париже, – много лет спустя, – где его чествовали как кавалера ордена Почетного легиона, – оборвется срочной госпитализацией. И в последний путь писатель отправится тоже из больницы.
Верно и то, что скверно складывались дела дома. Едва проводили и оплакали Дина, как свалилась новая беда, не такая, конечно, фатальная, можно даже сказать, рутинная, но также нарушившая ход жизни, поломавшая домашний очаг, а, по воспоминаниям Джона, дом для Фолкнеров был "больше, чем святилище, больше, чем обитель, – символ прочности и надежности, мы оберегали его, как могли". Старшую дочь Эстелл, падчерицу Фолкнера, оставил с младенцем на руках муж. Приемный отец всячески стремился развлечь Викторию, находил для нее занятия, часами читал вслух Китса и Хаусмена. Позднее она говорила просто: "Он спас мне жизнь".
И все-таки это были лишь, так сказать, сопутствующие неблагоприятные обстоятельства. Что действительно лишало покоя – и когда писал роман, и даже после того, как закончил, – так это совершенная новизна опыта. Он и возлагал надежды на книгу – моя лучшая вещь впереди, говорил писатель одному студенту Миссисипского университета, явно имея в виду "Дикие пальмы", – и одушевлялся ("могу писать с закрытыми глазами…"), и вместе с тем испытывал тяжкие сомнения.
Фолкнер всегда писал о трагизме человеческого удела на земле, о страдании и боли, о безумии и несчастьях. Но прежде драмы, даже и принимая вселенские, библейские масштабы, разыгрывались на родной почве, четко соотносились с социальной историей Юга. Безумцев, мучеников, карьеристов, гибнувших под обломками своих замыслов, окружала, обволакивала природа, удерживала от окончательного падения память – вместилище не только преступлений, но добра, теплоты, мужества. Теперь от всего этого сохранились лишь "пальмовые листья, бьющиеся с диким сухим горьким звуком о блестящую поверхность воды", – сквозной образ беды и непокоя. Ушли даже люди, остались знаки, символы – чертеж. Ибо разве это люди – персонажи "Диких пальм"? По фолкнеровским понятиям, разумеется, нет, иные даже имени лишены, а у тех, кому оно дано, отнято главное – история, историческая память. Прекрасный объект для эксперимента, для испытания идеи. Впоследствии Фолкнер так говорил о "Диких пальмах": "Я контрастно противопоставляю два типа любви. Один человек жертвует всем ради любви к женщине, другой – жертвует всем, чтобы от любви освободиться".
Создавая роман, Фолкнер поначалу строго ориентировался на тот небольшой этюд, о котором мы уже говорили. Снова появляется старый доктор; тут же – любовники, чья молодости заставляет остро ощутить бессмысленность и безрадостности! пережитого, – а отчасти бескорыстную радость надежды на то, что не удавшееся ему другим может удастся, что рядом, стоит только руку протянуть, идет подлинная жизнь. Но иллюзия сразу рассеивается, мы попадаем во тьму приближающейся смерти: женщина истекает кровью, доктора просят хоть чем-нибудь помочь.
Тут занавес падает, обстановка полностью меняется, а через некоторое время мы возвращаемся к началу той истории, трагическую развязку которой только что наблюдали.
На вечеринке в одном из домов Французского квартала встречаются недавний выпускник медицинского колледжа, ныне интерн, Гарри Уилберн и жена преуспевающего художника, сама скульптор, Шарлотта Риттенмайер. Оба не в ладу с жизнью, оба пребывают в душевном смятении, оба жаждут перемены. Гарри – бедняк, он вынужден отказывать себе во всем, даже курит раз в неделю, ведет совершенно аскетический образ жизни, однако упорно приучает себя к тому, что так все и должно быть: "Я отверг деньги и потому отверг любовь. Не отрекся от нее, просто отверг. Мне не нужна она; я знаю, что через год, или два, или пять то, во что я сейчас верю как в истину, станет истиной: мне не нужно будет даже хотеть любви". Только ни во что такое он не верит, лишь уговаривает себя, а сам твердо, хоть в том и не признаваясь, знает: без любви нет ничего – ни жизни, ни работы, ни тем более служения людям, к чему он считает себя призванным.