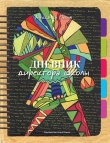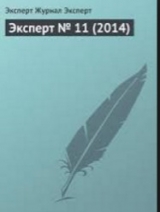
Текст книги "Эксперт № 11 (2014)"
Автор книги: Автор Неизвестен
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 14 страниц)
«Мы создаем тонкие потоки пассажиров» Сергей Чернышов
Главная проблема региональной авиации – отсутствие конкуренции на слишком узком внутреннем рынке, считает Анатолий Юртаев, генеральный директор иркутской авиакомпании «Ангара»
section class="box-today"
Сюжеты
Экономический потенциал регионов:
Регионы завязли в долгах
Вызов возвращения государства
Старожил «Силиконовой тайги»
/section section class="tags"
Теги
Экономический потенциал регионов
Сибирь
Политика в регионах
Долгосрочные прогнозы
Вокруг идеологии
Спецдоклад "Освоение Сибири"
/section
Местных авиакомпаний в Сибири, учитывая ее расстояния, достаточно. Региональная авиация выжила там, где без нее никак не обойтись: во многие города Восточной Сибири и Дальнего Востока, кроме как на самолете, не добраться. Поэтому местные авиакомпании не могли умереть по определению: даже если бы они хотели, им бы не дали. «КАТЭК-авиа», «КрасАвиа» и «Нордстар» из Красноярского края, «ТомскАвиа» в Томской области, «Ангара» и «ИрАэро» из Иркутской области, «Бурятские авиалинии», ряд компаний в Забайкалье и на Дальнем Востоке.
figure class="banner-right"
figcaption class="cutline" Реклама /figcaption /figure
Судьба «Ангары» выделяется даже на фоне других «авиационных исключений». Прежде всего потому, что некогда стагнирующее предприятие в 2010 году пережило второе рождение, объединившись с «ИркутскАвиа». Объединенный перевозчик, ставший частью местного холдинга «Истлэнд» (ранее его возглавлял Сергей Ерощенко , ныне – губернатор Иркутской области), – теперь крупнейшее предприятие в Сибири по эксплуатации самолетов семейства «Антонов» (в том числе новейших моделей Ан-148-100Е – машин нового класса вместимостью до 75 человек и способных садиться на неподготовленных грунтовых и даже заснеженных аэродромах) и вертолетов Ми-8. Сегодня пассажиропоток «Ангары» – порядка 120–150 тыс. пассажиров в год. Пассажирские перевозки составляют 55–60% выручки компании, остальное – грузовые и специализированные вертолетные перевозки: например, медицина катастроф или обслуживание лесных патрулей.
Ставка на Ан-148 – особенность авиакомпании, которая ради специализации на этой машине даже создала в Иркутске центр ремонта и сервиса. Ан-148 – нечто среднее между небольшими бизнес-джетами и дальнемагистральными лайнерами. Именно поэтому кроме полетов по Иркутской области (на них приходится до 80% перевозок) «Ангара» активно развивает и межрегиональные рейсы – в Новосибирск, Читу, города Тюменской области, а с недавнего времени в Благовещенск, Владивосток, Якутск, из Новосибирска в Братск. Кроме того, в арсенале компании есть такие «экзотические» маршруты, как Иркутск—Челябинск и Новосибирск—Мирный. Видно, что все это, как правило, перевозки на расстояние от одной до двух тысяч километров, своеобразная ниша «Ангары», под обеспечение которой перевозчик и закупил столь крупные для региональной авиакомпании самолеты. «Региональная авиация в принципе умереть не может, – уверен генеральный директор “Ангары” Анатолий Юртаев . – Потому что Россия – это страна, которая не может обойтись без нее, особенно там, где нет альтернативы. Мы создаем тонкие потоки пассажиров, на которые потом, при их увеличении, приходят крупные авиакомпании. Более того, по моим ощущениям, региональная авиация начинает оживать. Все равно усилия государства дают плоды – пусть медленно и со скрипом, пусть не все меры эффективны».
«Но мы работаем с партнерами, которые фактически являются монополистами. Это топливозаправочные комплексы, аэропортовое обслуживание. Сейчас ввели дополнительные сборы за продление регламента обслуживания. Например, где-то на севере самолет не может вылететь из-за тумана. По графику аэропорт работает до 17.00, значит, мне нужно платить за задержку, а это очень серьезные деньги. И все при этом логично объясняется – ведь они тоже должны платить людям зарплату за переработки и так далее», – объясняет Юртаев. Самая обезоруживающая цифра, которую он называет в интервью, – 28%: такова доля затрат авиакомпании «Ангара», на которую Анатолий Юртаев как гендиректор может хоть как-то повлиять. Это зарплаты летчиков и административного аппарата, затраты на поддержание летной годности воздушных судов, содержание и развитие материальной базы. То есть если весь этот комплекс будет работать бесплатно, стоимость авиабилета компании «Ангара» и аналогичных ей снизится всего лишь на треть!
Таким образом, главная проблема региональной авиации, по мнению Юртаева, – отсутствие конкуренции на слишком узком внутреннем рынке. Отрасли нужны инвестиции «на земле» – в аэропортовую инфраструктуру, которая и является основным потребителем средств пассажиров. «Что, вы думаете, мы бы не хотели, чтобы в Иркутске или Новосибирске было, как в Европе, три-четыре аэропорта в каждом городе, которые были бы готовы нас принимать? Да с радостью! Но аэропорт везде один, и он диктует свои условия. Нужна конкуренция. В аэропорту Иркутска работают две топливно-заправочные компании – и я скажу, что это всем идет на пользу. Как только появляется возможность выбора – цены падают», – объясняет Юртаев.
Другая проблема – фактическое отсутствие универсального самолета для межрегиональных перевозок. Даже ставка на «Ан», сделанная «Ангарой», не всегда срабатывает. К примеру, авиакомпания перестала летать в новый аэропорт Горно-Алтайска. «После двух лет работы мы пришли к мнению, что размерность судна по коммерческим характеристикам на этом маршруте избыточна. Реальный пассажиропоток там хорошо бы обслуживал самолет на 20–25 пассажиров. Поэтому мы решили наши отношения с Республикой Алтай отложить до появления такого воздушного судна. С расширением парка самолетов Ан-148 мы рассматриваем возможность возобновления полетов в Горно-Алтайск», – отмечает гендиректор.
И именно вложения в инфраструктуру и новые самолеты, по его мнению, будут стимулировать приток кадров в региональную авиацию. «Я просто слышал, что говорят летчики: “Да, я получал там 300 тысяч, а у вас получаю 100 тысяч, но здесь я точно знаю, что мои дети вырастут нормальными людьми, потому что я их буду постоянно видеть”, – рассказывает Юртаев. – В итоге некоторые думают, что лучше получать меньше, но жить с семьей».
Старожил «Силиконовой тайги» Сергей Чернышов
«Нам нет смысла сидеть в столице», – уверен Александр Лысковский, глава крупнейшего российского производителя игр, новосибирской компании Alawar
section class="box-today"
Сюжеты
Экономический потенциал регионов:
Регионы завязли в долгах
Вызов возвращения государства
/section section class="tags"
Теги
Экономический потенциал регионов
Индустрия развлечений
Спецдоклад "Освоение Сибири"
/section
На Западе мало кто знает о Новосибирске. Полуторамиллионный город, считающий себя столицей Сибири, во внешней среде воспринимается как приложение к знаменитому Академгородку – поселению ученых, построенному более полувека назад по инициативе и под руководством легендарного академика Михаила Лаврентьева. Все это время в научном центре развивались многие направления научной мысли – от ядерной физики до программирования. Однако в 1990-е, когда финансирование научных институтов сократилось, а утечка мозгов стала обычным делом, самый динамичный рост продемонстрировала ИТ-отрасль. «Вы только представьте: в условиях тотальной невыплаты зарплат в 1992 году в Академгородке появляется компания Sun Microsystems, которая начинает платить айтишникам зарплату по тысяче долларов в месяц в буквальном смысле зелеными бумажками на руки. Они были тогда самыми счастливыми людьми в городе», – вспоминает декан факультета информационных технологий Новосибирского госуниверситета, кузницы кадров для местной ИТ-отрасли, Елена Никитина. Кроме того, к середине 1990-х в город с миссией найма сотрудников стали приезжать посланники Microsoft и других крупных корпораций. Уровень зарплат, которые предлагали новосибирским программистам зарубежные гости, поражал воображение еще больше, доходя до 80 тыс. долларов в год.
figure class="banner-right"
figcaption class="cutline" Реклама /figcaption /figure
Сегодня в Академгородке около 9 тысяч ученых и, о чем известно немногим, более 6 тысяч программистов. Причина проста: здесь всегда ценили хорошие мозги. И этого было достаточно, чтобы выросла целая отрасль экономики, которой не требовались существенные инвестиции в «железо» или в стены, как, например, машиностроению. Словом, постепенно Академгородок стал еще и ИТ-территорией, где сосуществуют гиганты (вроде Alawar или Центра финансовых технологий) и небольшие команды, работающие, как правило, на экспорт. Именно здесь, словно в первобытном «бульоне», появляется объединение людей, которое через пятнадцать лет станет одной из крупнейших российских компаний – Alawar (формально компания была создана в 1997 году и получила свое нынешнее название в 1999-м). Один из ее основателей – выпускник Новосибирского государственного университета Александр Лысковский.
Alawar известна своими продуктами «Веселая ферма», «Сокровища Монтесумы», «Приключения Масяни» и другими. Стоимость разработки одной игры достигает 100 тыс. долларов, но в случае успеха прибыль может зашкаливать за десятки миллионов долларов. Это позволяет сохранять в компании высокие «белые» зарплаты. Сам Лысковский уверен, что лучше Новосибирска для его компании места нет. А иметь центральный офис в Москве вообще противопоказано: у столицы нет имиджа интеллектуального центра (в отличие от Академгородка), там плохая экология и высокая стоимость жизни (при том что программист в Новосибирске может получать даже больше денег, чем в Москве). «Компании, которая продает свою продукцию по всему миру, нет смысла сидеть в столице какой-то определенной страны. Если бы мы сидели в Нью-Йорке – это было бы еще понятно, но Москва-то зачем? – улыбается Лысковский. – Москву никто не считает местом, где делаются хорошие игры. Там есть только деньги и власть Путина. Кроме того, сегодня программист в Новосибирске может получать за вычетом стоимости аренды жилья столько же, сколько в Москве. К тому же Москва – это большой и не очень удобный город с пробками и смогом. Да и разрыва между Москвой и Новосибирском в культурной жизни уже нет».
Он не похож на айтишника, скорее на предпринимателя западного образца с демократичным кабинетом, отвечает на вопросы коротко и по делу и рассказывает длинные истории только тогда, когда речь идет о делах минувших. Но и эти рассказы он приправляет фразой «теперь-то я понимаю», особенно когда речь заходит о причинах того или иного поступка, о суммах сделок, о схемах заработка. «Я поступил в НГУ в 1992 году, тогда еще дома ни у кого не было компьютеров, разве что у богатых людей. А студенты довольствовались компьютерами в терминальных классах университета. И поэтому мы постоянно что-то придумывали, чтобы оставаться в этих классах, делать вид, что мы пишем курсовые работы, и так далее. Ну и, конечно, половину времени играли в игры. Это заметил лаборант, отвечавший за эти классы, и сказал: «Если вы уж тут все равно сидите, то делайте что-нибудь». Мы ответили: «Окей, будем писать игры». И вот мы вечерами собирались и писали игры», – рассказывает Лысковский.
Первый заказ он с приятелями делал, как ни странно, для NASA – «простенькие игры, которые управлялись не мышкой и клавиатурой, а сопротивлением кожи». «Конечно, все это неправда, но деньги были попилены, и это был наш первый коммерческий заказ, а за ним последовало еще несколько. А потом мы решили серьезно взяться и написать игру. В 1997 году мы начали делать большую стратегию «Сварог» про славян-язычников и немцев-тевтонов, по мотивам повести писателя-фантаста Успенского. Очень приятный дядька, у него были красноярские друзья, которые продавали трубы для нефти и газа. То есть нормальные такие мафиози. Они приезжали на вокзал на тонированной “шестерке”, открывали багажник, в котором лежали пачки денег, доставали оттуда несколько пачек, и мы шли в шашлычную обсуждать детали проекта», – вспоминает Лысковский.
А через несколько лет после вышеописанных событий появился Alawar. В первое время Лысковский с партнерами делали игры, которые за счет курса доллара приносили огромные по тогдашним меркам деньги. «Это было целое приключение. Приходила какая-то бумажка, про которую в Новосибирске никто ничего не знал, – чек американского банка. Все говорили: «Это что – деньги?» Обналичиванием занимался только ВЭБ, документы нужно было посылать в Москву, но периодически за вычетом огромного количества непонятных налогов чеки все же превращались в реальные деньги», – говорит он. Сейчас финансовые показатели своей деятельности компания не раскрывает. Известно только, что это крупнейший российский производитель казуальных (простых, легких) игр. По некоторым оценкам, оборот Alawar превышает несколько миллионов долларов в год, темпы роста – 30–40%. Структура продаж: 30% – в России, половина – США, еще 20% – весь остальной мир. Сегодня группа состоит из нескольких юридических лиц, которые, однако, зарегистрированы в Новосибирске и платят налоги здесь же. Для местного бюджета это идеальный налогоплательщик, потому что основные затраты любой ИТ-компании – это зарплата, налоги с которой питают муниципальную казну. Штат – около 150 человек.
К середине 2000-х компания стала работать как «издательство», которое продвигает и продает на рынке продукцию небольших студий разработки. «Чтобы быть успешным на рынке, нужно строить конвейер, выпускать от 30 до 50 игр в год. Для этого мне нужно или посадить в офис 300 человек, или найти маленькие компании и помочь им с продвижением игр, деля в какой-то пропорции доходы. Мы пошли по второму пути – и сейчас с нами работают более 40 студий: в Минске, Барнауле, Петрозаводске и многих других городах», – объясняет Лысковский.
Требование Александра Лысковского к развитию Сибири только одно: комфортная инфраструктура для бизнеса и жизни. Будучи активным деятелем «профсоюза» айтишников – ассоциации «Сибакадемсофт» – он продвигает идею создания «Силиконовой тайги»: комфортного кластера для программистов. Уже реализовано строительство «башни для айтишников» – Центра информационных технологий технопарка новосибирского Академгородка. Развиваются связи с Новосибирским госуниверситетом и Сибирским отделением РАН. «Перспектива – создание здесь экономики кластерного типа. Когда мы вместе с теми же учеными будем говорить, какие нам нужны дороги, больницы и школы. Мы ведь что-то делаем для города и хотим, чтобы он что-то сделал для нас, – говорит Лысковский. – Вот Alawar: мы активно работаем на рынке Запада. Причем мы ведь не нефть вывозим и даже не идеи, мы экспортируем готовый продукт – игры, созданные на основе этих идей».
Осторожный Шерлок Холмс Александр Ивантер
Юрий Буланов стремится превратить небольшой Кузнецкбизнесбанк из Кемеровской области в абсолютно безрисковый и вечноживущий финансовый институт. По уровню избыточной ликвидности этого банка можно смело судить о пульсе экономики 540-тысячной индустриальной столицы Кузбасса
section class="box-today"
Сюжеты
Экономический потенциал регионов:
Регионы завязли в долгах
Вызов возвращения государства
Старожил «Силиконовой тайги»
/section section class="tags"
Теги
Экономический потенциал регионов
Политика в регионах
Бизнес и власть
Инвестиции
Эффективное производство
Сибирь
Спецдоклад "Освоение Сибири"
/section
Плотно сбитый, с уютными седыми усами и внимательным взглядом мужчина больше похож на мастера инструментального цеха, чем на банкира. Собственно, финансы и не были его первой профессией. Родом из Новокузнецка, Юрий Буланов окончил местный Сибирский металлургический (ныне индустриальный) институт, после чего остался в нем работать, защитив кандидатскую диссертацию и дослужившись за семь лет до проректора по экономике и социальным вопросам. В начале 1990-х начал докторскую, но рыночная реальность поставила вопрос ребром: или продолжение научной карьеры, или благосостояние семьи. Ответ был предопределен, и Буланов уходит работать в Сбербанк. А еще через пару лет, в 1996-м, он оказался в Кузнецкбизнесбанке. К тому времени банк молотил на рынке шесть лет, «колхоз» из трех сотен компаний-учредителей консолидировался до четырех акционеров – физических лиц, пятым стал Буланов. Хотя сегодня его пакет составляет чуть больше 10% акций, он больше всех, и не только по должности, занят делами банка. Другие совладельцы имеют прочие бизнесы, которые обслуживаются в Кузнецкбизнесбанке в ряду десятков других VIP-клиентов. «Мы долго друг к другу притирались, понимали, кто что может, с кем и как лучше работать. Слава богу, понимание достигнуто. Мы часто спорим, но в важные моменты находим решение. Это огромное везение в жизни и одна из важнейших причин, почему я так долго здесь работаю», – говорит Буланов.
«Я по натуре алармист»
Но это причина эмоционально-психологического толка. Залог же рыночного долголетия Кузнецкбизнесбанка кроется в необычной бизнес-модели этого финансового института. Сотни банкиров могут часами расписывать вам свои эксклюзивные компетенции по управлению рыночными, кредитными, процентными, валютными и любыми другими рисками. Но неумолимо повторяющиеся на жестком российском банковском рынке кризисы хоронят детища девяти десятых этих хвастунишек. Буланов не хвастается, он спокойно докладывает, что просто перевернул привычный алгоритм кредитно-депозитной работы: «Традиционная схема работы банка незамысловата: собрал деньги на рынке по максимуму, потом думаешь, куда бы все это с приемлемым риском разместить. У нас же логика обратная. Мы идем от активов. Мы определили для себя приемлемый уровень риска по кредитам и начинаем выдавать, следя за тем, как ведет себя подушечка необходимой ликвидности. Если она начинает таять, мы чуть-чуть повышаем процент по депозитам и восстанавливаем ее – при этом параметры риска в активной стороне баланса остаются неприкосновенными. Это не что иное, как вариант применения контрциклического буфера в терминологии Базеля III, мы сами до него додумались».
figure class="banner-right"
figcaption class="cutline" Реклама /figcaption /figure
Понятно, что в ситуации торможения общехозяйственной конъюнктуры такая ультраконсервативная бизнес-модель приводит к сверхкапитализации (норматив достаточности банка на конец прошлого года достиг 25%, Буланов считает минимально приемлемым показателем 14%, а не 10%, согласно правилам ЦБ), разбуханию низкодоходной ликвидности в ущерб кредитованию (доля ценных бумаг в активах Кузнецкбизнесбанка превышает треть, а кредитный портфель медленно сжимается), небольшому снижению темпов роста и рентабельности бизнеса.
В 2014 году Буланов рассчитывает остаться в пределах нынешней валюты баланса: сначала показатели уйдут вниз, потом постоят, а где-то в августе-сентябре восстановится рост. «Мы следуем с некоторым лагом за городской экономикой, – поясняет Буланов. – Ее пульс можно в первом приближении измерить динамикой совокупной выручки предприятий города. После кризиса 2009 года она быстро росла, а где-то во второй половине 2012 года случился перелом, экономика города пошла вниз, а с 2013 года остановился рост и началось некритичное сжатие нашего банковского бизнеса».
«Я по натуре алармист – лучше перестраховаться, – откровенничает Буланов. – Честно говоря, ни разу это правило не подводило – ни в работе, ни в жизни. Я на досуге на катамаране люблю сплавляться по рекам – там тоже однозначно приоритет надежности. Есть интересная книга Джима Коллинза “Созданные навечно” – об идеологии и методологии работы долгоживущей компании, это как раз про нас. Мы не ставим во главу угла финансовые показатели. Если все делать правильно, то финансовые показатели – темпы прироста, валюты баланса, прибыль и капитал – получаются как логическое следствие вот этой правильной работы».
Можно было бы восхищаться философией осторожного банкира, если бы не одно соображение: на минутку представив, что таковой заразятся все наши банкиры, понимаешь, что в этом случае наши привычные кредитные заморозки для предприятий превратятся в жесткий ледниковый период. Наши сомнения задевают Буланова за живое: «Если экономика прирастает на полтора процента, то почему банковская система должна прирастать на двадцать? По итогам прошлого года совокупный портфель банковских корпоративных кредитов вырос чуть меньше чем на 13 процентов. А депозиты, привлеченные от организаций, опять же в целом по России, примерно на 14 процентов. То есть мы видим более или менее сбалансированную картину: потребность в кредитовании растет пропорционально потребности в сбережении. Мы работаем в меру сил для города. Мы не проедаем деньги акционеров, наоборот, банк устойчиво прибылен, мы уже шесть лет не платим дивиденды и всю прибыль капитализируем, в общей сложности за счет прибыли увеличили капитал почти до миллиарда трехсот миллионов рублей».
Жертвы были обречены
Еще одна «фишка» Буланова – страсть к цифрам и показателям, причем далеко выходящим за стены родного банка. Все-таки аналитическая жилка сидит у него в печенках – недаром и докторская диссертация уже на финишной прямой. Массивный шкаф у рабочего стола заставлен пухлыми папками. Несколько раз во время беседы хозяин кабинета стремительно бросался к шкафу за очередной папкой и воодушевленно тыкал в десятки здоровенных таблиц. «Посмотрите нашу базовую табличку, – азартно приглашает к анализу данных Буланов. – Каждый месяц по официальной информации Банка России мы заносим в нее ключевые показатели деятельности десяти крупнейших федеральных банков, банков Кемеровской области, банков сходного с нами размера и банков, с которыми у нас есть межбанковские отношения. Мы анализируем уставный капитал, собственный капитал, баланс-нетто, кредитный портфель, сумму привлеченных ресурсов, зависимость от рынка МБК по пассивам, долю просрочки, долю резервов на возможные потери по ссудам, финансовый результат, рентабельность активов, рентабельность капитала и два ключевых норматива ЦБ – первый и третий. Выводим средние значения показателей по каждой группе банков и внимательно следим за отклонениями». Первый же наш вопрос был абсолютно предсказуемым – в момент беседы не прошло и месяца с момента отзыва лицензии у крупнейшего в области Новокузнецкого муниципального банка: выдавала ли таблица сигналы раннего предупреждения в отношении потерпевшего? «Ну конечно же! – восклицает Буланов (Кузнецкбизнесбанк вместе со Сбером уже испытывает приток клиентов от лопнувшего конкурента). – По НМБ мы видели тревожные признаки уже несколько лет, по всем показателям произошедшее могло состояться и гораздо раньше, еще весной 2009 года, тогда их вытянули за уши, но они не сделали никаких выводов – ребят, что называется, понесло. Вот смотрите, на 1 декабря 2013 года норматив достаточности капитала 11,1 процента, и значения стабильно низкие, летом снижался до 10,7 процента. Третий норматив смотрим, уровень ликвидности – еле-еле дотягивали до 67 процентов. Доля резервов НМБ с начала года уменьшилась, можно посчитать, что они восстановили из резервов порядка 180 миллионов рублей дохода – при показанной прибыли 28 миллионов рублей. Отсюда следует, что их истинный финансовый результат в 2013 году – убыток примерно 150 миллионов рублей и вчистую “нарисованный” первый норматив». Мониторинг Буланова показывает, что «нежильцами» были и все другие крупные жертвы рыночной чистки ЦБ: и «Пушкино», и «Смоленский», и самарская «Солидарность», и громче всех грохнувшийся Мастер-банк. «Вот только зачем было отзывать лицензию у “Мастера”? – недоумевает Буланов. – Его надо было санировать с использованием механизма АСВ, как ряд крупнейших банков осенью 2008-го. В результате сильно раскачали рынок, парализовали межбанк, нервировали клиентов. Скажем, мы с середины декабря вообще ушли с межбанка, абсолютно окуклились, досрочно закрыли кредитные линии даже нашим постоянным, давним контрагентам».
Тактика малых дел
Устав от беседы, напоследок решаем оживить разговор: «Как относитесь к девальвации рубля, Юрий Николаевич?» «Хорошо отношусь, – бесхитростно отвечает банкир, – мы неплохо заработали на ажиотажном спросе на обменные операции, сразу же увеличили спред между курсами покупки и продажи. В общем, за месяц практически выполнили квартальный план по прибыли». – «Жируете на народной беде?» – «Выходит, да, – растерянно улыбается Буланов, но сразу уточняет: – А стратегически девальвация плоха, конечно. Люди-то беднее становятся. Государство заодно с экспортерами выезжает на населении».
Вопрос о средствах преодоления экономической стагнации вводит Буланова в состояние глубокой задумчивости. Наконец, отложив в сторону папки с таблицами, он отвечает: «Мое ощущение такое, что одного-двух решений, которые ситуацию российскую, региональную или конкретно нашу городскую возьмут и какой-то палочкой-выручалочкой вытянут, нет и не может быть в принципе. Нужна постепенная кропотливая работа каждого на своем месте».
Новокузнецк—Москва