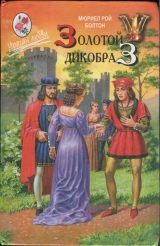
Текст книги "Золотой дикобраз"
Автор книги: Мюриел Болтон
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 28 страниц)
Прошло несколько часов, сотни глаз тревожно глядели со всех башен и стен Нанта. Анна со своей свитой удалилась, но армия осталась. Они разбили лагерь вокруг городских стен и начали осаду, не скрывая своих серьезных намерений. Анна вернулась в Париж и перед королевским судом выдвинула обвинение в измене герцогам Бретонскому и Орлеанскому. Суд прислал обоим герцогам уведомление явиться и ответить на обвинения.
Это была пустая формальность, и когда пришел назначенный день и в большом зале суда трижды выкрикнули их имена, в ответ – только тишина. Никто не явился к мраморному судейскому столу.
В осажденном Нанте запасы продовольствия были большие, стены крепкие, а оружия и людей хватало. Открыто сражаться приходилось только, когда бретонцы пытались прорваться через окружение, но это случалось довольно редко. Однако в замке пахло тревогой и раздорами.
Герцог Франциск был уже стар и слаб, и друзья его ссорились друг с другом. Большие разногласия у герцога возникли с Аленом д’Альбре, грубым старым солдафоном, стоявшим во главе значительной группы войск, в поддержке которых город очень нуждался.
– Этот брак твоей дочери с Орлеанцем – это же просто смех один, – начал д’Альбре с наглой бесцеремонностью. – О нем надо забыть, и чем скорее, тем лучше. Ее мужем должен стать тот, у кого нет жены, от которой он должен вначале избавиться.
– Но я обещал свою дочь герцогу Орлеанскому и слово нарушить не могу.
– О, эти обещания! – презрительно процедил д’Альбре. – Будь честен хотя бы перед самим собой, да и нами тоже. Тебе не так уж долго осталось жить, и когда ты умрешь, то оставишь свою юную незамужнюю дочь отстаивать независимость Бретани. Орлеанец, будь у него одна или хоть десять жен, все равно жениться не может, и, кроме того, никому из нас не хотелось бы видеть у нас хозяином француза. Нам нужен бретонец, крепкий, за которым пойдет народ. Я всегда считал, что свою дочь ты собирался отдать мне. Помню много раз ты намекал мне на это. Может, я мало привел к тебе своих людей, так я не настолько богат, чтобы содержать армию для своего собственного удовольствия.
Герцог в гневе посмотрел на него.
– Ни одним своим словом я не намекал тебе ни на что подобное. Такое для меня просто немыслимо. Я прекрасно знаю, что ты собой представляешь. Послушай, что говорят о тебе люди, как они смеются, подсчитывая всех твоих бастардов. Мне и в голову не могло такое прийти, что у тебя может быть что-то общее с Анной-Марией!
Тяжело было герцогу, размолвки с д’Альбре, разлад среди его приближенных, а Людовик, как и во все прежние кризисные моменты своей жизни, был связан по рукам и ногам и ничем не мог помочь своему умирающему другу. Зловещая тень мертвого короля преследовала его. Осаду Нанта можно было и пережить, но Людовик был осажден своим браком. С этим-то что делать?
Однажды вечером он оказался один на крыше замка. Облокотившись на каменную кладку, он вглядывался в темнеющее небо. Где-то там, совсем недалеко городские стены, а за ними лагерь, а в нем враги, его враги.
Анна Французская – его враг. Подумать только! Детьми они вместе играли, смеялись, целовались, когда стали взрослее, а теперь он в осажденном городе, а ее солдаты караулят его. Он тяжело вздохнул и уперся подбородком в скрещенные руки.
Сзади послышались шаги. Он обернулся и увидел Анну-Марию. Она осторожно пробиралась к нему по неровным камням. Подойдя, она тоже оперлась на каменную кладку.
– Что-то сегодня ты не очень весел, – сказала она.
Он улыбнулся белому овалу ее лица, смутно угадываемому в темноте. На ней была меховая накидка, лицо обрамлял меховой капюшон.
– Возможно, ты поможешь мне развеять печаль.
– А отчего ты грустишь? Из-за этой армии? – она сделала жест куда-то вдаль, имея в виду, что на самом деле это очень маленькая армия.
– Конечно, – сказал он беспечно, – регентша привела сюда немало людей.
– А может быть, ты грустишь о самой регентше? Непонятно только почему. Отец говорит, что она похожа на лису.
Людовик рассмеялся.
– Нет, она не похожа на лису. Она очень красивая.
– Отец говорит, что она и наполовину не так хороша, как я.
– Она может оставаться очень красивой, и все же ты прекраснее ее даже больше, чем в два раза, – сказал он улыбаясь, и ему неожиданно пришло в голову, что это действительно так. Ей сейчас было почти четырнадцать, очаровательная смесь детской непосредственности с пробуждающейся женственностью. Умные, темные, все понимающие глаза, а свежих щечек хотелось коснуться, они были, как спелые персики. Нежная округлость шеи и рук, тонкая талия, уверенно расширяющаяся книзу, а выше этой талии, еще выше, угадывались не очень большие, но крепкие груди.
– Так что отец твой совершенно прав.
– Но ты не ответил на мой вопрос. Ты думал о ней?
– Трудно не думать о ней, когда ее армия взяла нас в кольцо.
– Не так уж их много. Мы будем сражаться и победим, когда придет время.
– Когда придет время. А когда оно придет? Мы должны ждать, пока д’Альбре соберет достаточно войска, но он, похоже, не очень торопится с этим.
– Он считает, что прежде отец должен пообещать выдать меня за него замуж, а уж потом он пошлет свои войска. Но если он действительно ждет этого, то его войск мы не увидим никогда.
– Ты, я вижу, не в восторге от перспективы связать свою судьбу с храбрым д’Альбре.
– Конечно. Ведь я обещана тебе.
– Но я, да поможет мне Бог, еще так далек от свободы. И даже не знаю, когда это случится.
– Ничего, я подожду.
– Какая ты милая, – произнес он печально, а она ответила ему взглядом, полным обожания. И они застыли рядом, бок о бок, вглядываясь в даль, устремляясь взором сквозь город и городские стены, сквозь огни неприятельского лагеря все дальше и дальше. Они пытались разглядеть во Франции город Тур, там жила женщина, о которой они сейчас думали.
Людовик, как заклинание, все время повторял про себя: «Мы враги, мы враги, мы враги». Но это мало помогало. Забыть ее он не мог. И вообще, все могло повернуться совсем по-иному, не оставь ее отец такого завещания. Но теперь все кончено. Никогда им не быть вместе. Никогда, никогда, в этой жизни! Он вздохнул, и Анна-Мария, стоящая рядом, будто прочла его мысли.
«Почему он думает о ней, об этой женщине с лицом хитрой лисы, когда рядом я и он собирается жениться на мне?» – раздражаясь, спрашивала она себя.
Она очень ревновала Людовика к регентше и никогда к его законной жене. Последняя для нее была лишь смутной тенью, досадным препятствием, а не женщиной.
«Все дело в том, что я еще слишком молода, – думала она. – Будь я хоть на год старше, я бы знала, как заставить его забыть эту лису. Он бы ее быстро забыл. А сейчас он считает меня ребенком. О, если бы он не был женат на этой убогой, мы могли бы уже сейчас пожениться, и он бы увидел тогда, какой я ребенок. Стоило бы ему только поцеловать меня…» Она поглядела сквозь полусомкнутые ресницы на его крепкие руки, сжимающие камень, на его пальцы, и ей стало тепло от этих мыслей. В них не было никаких слов, в этих мыслях, только чувства, одни чувства.
* * *
Зима заставила французов снять осаду. Армия Анны возвратилась во Францию, оставив во многих местах Бретани свои войска. Людовик тоже покинул Нант, надеясь освободить со своими людьми эти города. Зимняя кампания прошла почти успешно. Неприятель не ожидал его появления зимой. Людовику удалось отбить три больших и несколько малых городов. Это породило у герцога Франциска новые надежды, что весной удастся отстоять независимость Бретани и, может быть, Людовик получит наконец развод. Но пришла весна, и Анна послала в Нант еще большую армию под командованием молодого, но уже широко известного военного гения двадцатидевятилетнего Людовика де Ла Тремоя.
Он вышел в апреле, двигаясь прямо к Нанту, как кегли сшибая на своем пути все бретонские города.
Людовик со своим войском тоже двигался, и не зная этого, прямо на Ла Тремоя. Бретонская армия покинула Нант, рассчитывая внезапно атаковать королевские войска у города Сент-Обен-дю-Кормье, который они намеревались отбить у французов. Вообще-то это была не армия, а лоскутное одеяло – бретонские, английские, французские мятежники, восставшие против регентши, наваррские и германские наемники. У каждой группы был свой предводитель, со своим личным мнением насчет стратегии и тактики в этой кампании. Под командованием Людовика находились бретонские уланы и остатки французских мятежников. Большая часть бретонского войска была с угрюмым д’Альбре, который все еще не решил, стоит ли ему ввязываться в это дело или нет. Во главе наваррцев стоял близкий друг герцога Франциска Маршаль де Рью, небольшой группой англичан командовал лорд Скейлз, и наконец германскими повстанцами, насчитывающими восемьсот всадников, командовал герцог Оранжский.
После длительных споров и пререканий эта армия начала двигаться вперед. Разумеется, вразброд и в беспорядке. Людовик, который двигался в первых рядах, успел помахать на прощание милой девушке и ее отцу. Анна-Мария с самоуверенностью, свойственной юности, ожидала только скорого триумфального возвращения своего любимого. Никаких иных поворотов она не допускала. Герцог Франциск, конечно, надеялся на Людовика, но он бывал в переделках (и не раз) и знал, что перед сражением каждый уверен в победе, а вот что будет после… И Людовик тоже предупреждал, что самый короткий путь к поражению – это разделить армию на части, и чтоб каждой частью командовал свой полководец.
Среди провожающих находился и мрачный Макс. Ему пришлось расстаться со своим солдатским мундиром. Людовик строго приказал ему оставаться в Нанте и ждать там его возвращения, потому что, как выразился Дюнуа, «солдат из Макса такой же, как и камердинер, только наоборот».
Медленно двигаясь и пререкаясь буквально на каждом шагу, отдельные группировки наконец-то сблизились. Первое серьезное предупреждение они получили сразу же после встречи с двумя форпостами французов. Во время столкновения нескольким всадникам пришлось, быстро передвигаясь от группы к группе, согласовывать действия. Там, где Ла Тремой одним своим словом решал все вопросы, бретонские предводители по часу (а то и больше) спорили друг с другом.
– Надо отступить, – настаивал д’Альбре, – отступить в Нант, пока еще есть время.
Людовик нетерпеливо восклицал:
– Уже поздно. Они нас настигнут с тыла и разгромят в клочья. Надо атаковать, пока они еще полностью не сгруппировались.
– Да, – соглашался де Рью, и кивали головами д’Оранж и Скейлз, – единственная надежда на быструю стремительную атаку.
Д’Альбре своим людям отдать приказ отказался. Дюнуа, стоявший рядом с ним, мрачно произнес:
– Тебе что, регентша заплатила, чтобы ты держал нас здесь, пока продвигается Ла Тремой?
На что д’Альбре заорал во все горло, да так, что было слышно почти всем воинам в первых рядах:
– Очень страшное обвинение ты тут выдвигаешь против меня. По-моему, каждому известно, что вы, орлеанцы, давно готовы заключить с регентшей сепаратный мир! Вот так вот! И как только начнется заварушка, вы нас тут же предадите!
Ропот поднялся в рядах воинов. Из уст в уста все передавали этот слух, который только что пустил д’Альбре. В конце концов все бретонское войско превратилось вскоре в бушующий океан. Возмущенные воины выкрикивали, что Дюнуа только что вернулся из Франции, что орлеанцы – это французы и с армией регентши воевать не будут. Все это и без того витало в воздухе, и д’Альбре достаточно было в эту сухую солому только бросить искру.
Людовик не стал ничего отвечать д’Альбре, не захотел терять драгоценного времени. Он спешился с коня и, хлопнув его по крупу, приказал бежать вперед. Удивленный конь проскакал на некоторое расстояние по дороге, а Людовик пешком прошел к передним рядам бретонцев и закричал, силясь перекрыть шум:
– Это ложь, наглая ложь! В этом сражении я буду с вами, и те, кто не хочет быть поверженным наземь, прежде чем нанесет за своего герцога и свое отечество хотя бы один удар, тем лучше идти за мной! А те из вас, кто желал бы получить копье в спину, следуйте за д’Альбре!
Вновь поднялась суматоха, но Людовик не стал ждать, как распределятся симпатии воинов. Он отдал приказ:
– Вперед! С нами Бог и справедливость! Вперед!
И он пошел вперед. Дюнуа тоже спешился и пошел рядом с ним. Они шли так, как будто за ними идет целая армия. Немного спустя Людовик оглянулся, и сердце его упало. Почти половина бретонской армии начала отступать с д’Альбре.
Он тут же приказал остановиться и подготовиться к бою. Германские всадники начали рассредоточиваться вдоль поля брани, к ним присоединилась немногочисленная кавалерия мятежных французов. Но, прежде чем все было готово, атаковал Ла Тремой. Его тяжело вооруженные всадники бешено мчались с копьями наперевес. Они смели переднюю линию германцев и отделили их от задних рядов. Одновременно они атаковали и с флангов. Часть воинов Ла Тремоя начали преследовать отступающую армию д’Альбре. Ошеломленные натиском бретонцы, расчлененные на мелкие группки, гибли, пронзенные копьями, а Людовик, Дюнуа и герцог д’Оранж, пешие, беспомощные, пытались сражаться среди этой мешанины.
Д’Оранж, увидев, как швейцарские наемники Ла Тремоя расправляются с каждым пленным, никого не оставляя в живых, попытался прикинуться мертвым, упав на груду трупов. Людовик и Дюнуа остались биться вдвоем, прикидывая только, скольких им еще удастся отправить на тот свет, перед тем как умрут сами.
И вот упал Дюнуа с тяжелой раной, без чувств. Дико закричал Людовик, стоя над ним, пытаясь его защитить, отчаянно работая направо и налево своим двуручным мечом. Швейцарцы окружили его, радуясь, что им попалась такая крупная добыча, какой-то знатный французский барон. Они уже предвкушали радость, сейчас они разрубят его на куски своими палаческими топорами, и он видел свою смерть в их глазах, сверкающих под блестящими шлемами. Но Людовик думал сейчас не о себе. Он представлял, как тело друга, что беспомощно лежал здесь, на земле, будет вскоре разорвано и затоптано десятками лошадиных копыт и тяжелыми ногами швейцарцев.
– Дюнуа! – продолжал кричать он, как будто тот мог его слышать. – Дюнуа! – кричал Людовик, задыхаясь, а меч его с каждым ударом двигался все медленнее и медленнее, и крик его отдавался в пустотах шлема.
Упав на колени под ударами швейцарцев, Людовик понял – это смерть, и, теряя сознание, прощаясь с другом, в последний раз прохрипел:
– Дюнуа!
Уже в следующий миг обезумевшие от крови наемники должны были разрубить его на мелкие куски, но французский всадник, случайно оказавшийся поблизости, разглядел в нем ценного пленника. Он приказал швейцарцам не трогать его и, прокладывая себе путь через них так, как будто это были враги, подъехал к Людовику и взял к себе на седло. А разочарованные швейцарцы, посылая ему проклятья, развернулись на поиск очередной жертвы, благо, жертв вокруг было с избытком.
Вот так Людовик оказался жив и попал в плен. Кроме него, страшной участи стать кровавой добычей швейцарцев избежали еще несколько баронов. В их числе и Дюнуа, а также герцог д’Оранж и… д’Альбре.
Это было поражение. Полное и сокрушительное. Людовик и Дюнуа были все еще без сознания, когда их перевезли в замок Сабль, где держали до тех пор, пока не был заключен мир.
По условиям мирного договора, который без проволочек был подписан 20 апреля 1488 года, герцог Франциск был признан побежденным. Он становился вассалом Франции, без всяких оговорок, и был обязан изгнать со своей территории всех иностранных баронов и солдат. Его дочь не могла выйти замуж без согласия на то короля Франции. Платой за эту войну была утрата всех бретонских городов, которые захватили французы. Теперь герцог мог отправляться домой и умирать поверженным вассалом Франции.
Остальных ожидали наказания различной степени тяжести. Дюнуа должен был провести несколько месяцев в тюрьме, у него отобрали ряд привилегий, д’Оранж был снова отправлен в изгнание, де Рью был прощен, герцогу Лотарингскому пришлось заплатить огромный штраф, д’Альбре был осужден, но отпущен, хотя Ла Тремой говорил Анне, что его следовало бы наградить за помощь Франции.
Участь Людовика должна была решить сама регентша. Он ждал сурового наказания. Скорее всего его лишат многих привилегий и кое-каких земель, придется заплатить солидный штраф. Больше ничего особенного он не ожидал.
Никто не знал, что его ждет. Никто, кроме Анны.
Глава 13
Луи еле передвигался, когда его привезли в башню Бурже, самую знаменитую тюрьму Франции. Он еще не оправился после битвы, раны были едва залечены, а дух подавлен. Вечерело, и огромное каменное сооружение угрюмо темнело на фоне закатного неба. Он еще раз взглянул на башню, когда они въезжали в пустой двор. Цокот многих копыт эхом отзывался в массивных каменных стенах и мостовой. Хотя в этом и не было никакой необходимости, но Анна послала с ним усиленную охрану.
Он подумал, сколько же еще пройдет времени, пока он, свободный, сможет выйти из этих огромных, окованных железом дверей, что открылись сейчас, впуская его. Приговор ему так и не объявили.
Болезненно морщась, Людовик тяжело спрыгнул с коня и сразу же был окружен плотным кольцом стражи. Вместе они начали подниматься по лестнице, а у дверей из охраны остались только четверо – двое впереди и двое сзади. Его ввели, и дверь закрылась за ним с каким-то унылым безнадежным скрипом. В пустой и холодной комнате с ним остались двое стражников, пока остальные двое отправились в соседнее помещение, чтобы выполнить необходимые формальности. Вскоре они вернулись вместе с хранителем башни, и все вместе они двинулись дальше, вверх по лестнице, через плохо освещенный переход, потом еще выше, по другой лестнице, пока наконец не достигли заветной двери. Стражники расступились, и вперед, звеня ключами, выступил тюремщик.
И эти лестницы, и коридоры, и тусклый свет, и звук шагов напомнили Людовику о давнем посещении Линьера. Сейчас его снова запрут, и не так, как тогда. Совсем не так.
Дверь отворилась, и Людовик вслед за тюремщиком вошел внутрь. Он вошел туда добровольно, понимая, что сопротивляться бесполезно – иначе его заволокут силой. Хранитель башни поставил фонарь на стол и, сказав что-то невнятное насчет того, что сейчас вернется, вышел. Дверь захлопнулась, и Людовик услышал, как ее запирают снаружи. В этой двери сверху было маленькое окошечко, пропускающее кое-какие звуки. Вначале он услышал неразборчивые голоса стражи, затем их шаги в коридоре, потом перестал слышать даже это. Он остался один, в полной, захватывающей все большее и большее пространство тишине.
Людовик сбросил плащ и, взяв фонарь, обошел с ним камеру. В одной стене, вверху, имелось маленькое зарешеченное окно. Другая стена была совершенно глухая, правда, испещренная многочисленными царапинами. В камере была деревянная скамейка, скорее всего она служила кроватью (она была достаточно длинной), и высокий деревянный табурет в паре с ветхим скрипучим столом. Он поднял фонарь, чтобы осмотреть оставшуюся часть камеры, и дрожащий огонек высветил нечто у последней, четвертой стены. От взгляда на это нечто у него перехватило дыхание. Это была железная клетка. Расширившимися от ужаса глазами он смотрел на нее. Вернувшись к столу, Людовик поставил фонарь, пытаясь убедить себя, что это просто так, что это совпадение, что это не для него.
Услышав звук Шагов у двери, он быстро выдвинул табурет и сел, пытаясь придать лицу безразличное выражение. По звуку вроде бы там должно было быть несколько человек, но в камеру вошел один тюремщик. Людовик посмотрел на этого человека, в чьих руках находилось теперь его будущее. Он был высок, худ и почти полностью лыс, с нечистой кожей и лицом, сильно изрытым оспинами. От его измятой одежды исходил какой-то мерзкий кислый дух. И вообще, от всего его облика веяло чем-то затхлым, какой-то плесенью, будто он родился и вырос в одной из этих сырых, лишенных солнца камер своей собственной тюрьмы.
Он заговорил с Людовиком с почтительной холодностью:
– Монсеньор, меня зовут Герен.
Людовик молча выслушал это представление, и Герен добавил:
– Я здесь к вашим услугам.
– Благодарю вас, мсье. Наверное, было бы неплохо выяснить, насколько различаются мое и ваше представление об услугах, которые вы можете мне оказать.
– Все, что угодно, в пределах указаний, которые мне даны, монсеньор.
– Я бы высоко оценил, если бы вы смогли организовать мне доставку некоторых вещей. Прежде всего, разумеется, одежды. Все, что на мне, – Людовик посмотрел вниз и улыбнулся, – выглядит так, как будто я не снимал это всю войну. Впрочем, это, наверное, так и есть.
Прервав Людовика, Герен покачал головой.
– Боюсь, что это невозможно, монсеньор. Я имею в виду доставить вам одежду из дома. Я принесу вам кое-что, разумеется, не такое изысканное и дорогое, к чему вы привыкли.
Людовик бросил на него острый взгляд, подозревая, что этот человек издевается над ним, но Герен, похоже, сказал не больше того, что сказано.
– Но я полагаю, для ваших нужд здесь этой одежды будет вполне достаточно, – закончил он.
Начало не очень многообещающее, но Людовик решил продолжить:
– Потом, разумеется, мне потребуются бумага, перья и чернила. Я должен срочно написать несколько писем. И не сомневаюсь, что вы поможете переслать их на волю с посыльным.
Людовик замолк, увидев, что Герен вновь покачал головой.
– Боюсь, что и это невозможно, монсеньор. У меня относительно вас очень строгие предписания.
– Вы хотите сказать, что мне запрещено с кем-либо общаться?
Герен поклонился, подтверждая сказанное.
– Но это же смешно. Я полагаю, вы ошибаетесь. Кто отдал такой приказ?
– За короля приказ подписала мадам Анна Французская, монсеньор.
– И что, это мадам Анна приказала, чтобы у меня не было одежды?
– Да, монсеньор.
– А посетители? Меня может кто-нибудь посещать?
– Нет, монсеньор.
– Ну, а книги или еще что-нибудь для развлечения?
– Извините, но также нет, монсеньор, – ответил Герен с той же самой безразличной почтительностью, которая уже начала раздражать.
Людовику не терпелось узнать самое худшее. Он посмотрел Герену в глаза и спросил с нажимом:
– А то, что я должен быть помещен в камеру с железной клеткой, это тоже приказ мадам Анны?
Ему казалось, что в глазах Герена промелькнула веселая искорка.
– Да, монсеньор.
Людовик быстро отвернулся. Просто не верилось, что Анна может так поступить с ним. Он выпрямился.
– Могу я увидеть этот приказ?
Герен пожал своими худыми узкими плечами и устало поднял брови.
– Если это вас немного успокоит, я не вижу причин, почему бы и не показать вам этот приказ.
По-видимому, что-то вроде этого он ожидал, потому что, выйдя за дверь, Герен тут же вернулся с толстым бумажным свитком. Он начал разворачивать его так, чтобы Людовик мог видеть. Одновременно с ним в камеру вошли двое стражников и молча замерли у закрытой двери.
Людовик наклонился вперед, бегло просматривая написанное. Анна не оставила ни малейшего шанса для разночтения или же ошибки. Подробнейшие инструкции буквально относительно всего. Вся его будущая жизнь была описана здесь черными чернилами, ровным четким знакомым почерком Анны. Никаких писем, никаких визитеров, никаких физических упражнений и прогулок, никаких книг и музыкальных инструментов. Пища: хлеб и вода, дважды в день, и на ночь… – буквы запрыгали у него перед глазами, – …помещать в железную клетку. А внизу, под всем этим печать Франции и разборчивая подпись – Анна Французская.
«Это невероятно», – больно заныло его сердце.
Он поднял глаза и увидел, что все на него смотрят. Герен с холодным безразличием, один стражник с нескрываемым сочувствием, а другой, встретившись с ним взглядом, смущенно отвел глаза. Людовик собрал все свое мужество. Ему хотелось выглядеть достойно.
– Теперь я вижу, – сдавленным голосом произнес он, – это не ваша ошибка, а моя.
Они продолжали стоять молча, готовые к каким-то действиям. И тогда, почувствовав слабость во всем теле, он понял – наступает ночь, и они ждут, чтобы посадить его в эту клетку. Мысль о сопротивлении он тут же отбросил, это бесполезно.
– Зачем они здесь? – спросил он Герена, показывая на стражников.
– Чтобы привести в исполнение приказ мадам Анны, если это будет необходимо.
– Мсье Герен, могу я поговорить с вами несколько минут наедине? – Людовик подумал, правда без всякой надежды, о том, чтобы подкупить этого человека. Ответ Герена его не удивил.
– В этом нет никакого смысла.
Герен прошел в дальний темный угол камеры, где ждала черная стальная клетка, и из многих ключей на связке выбрал один. Затем со скрипом открыл дверцу, в которую должен был проползти Людовик.
– Теперь я вынужден просить вас, монсеньор, войти сюда. Надеюсь, своим сопротивлением вы не сделаете так, чтобы выполнение наших обязанностей оказалось для вас более болезненным.
Он ждал, положив руку на дверцу клетки.
Людовик оглянулся. В камере три человека, дверь закрыта, а там, за ней, людей много больше. Он понимал, что должен подчиниться. Натянув потуже плащ, чтобы не пораниться об острые края решетки, в полной тишине он начал протискиваться в небольшое отверстие, оцарапав при этом свой лоб и ободрав начавшую затягиваться рану на плече. В клетке он развернулся, пытаясь устроиться поудобнее, насколько было возможно в этом маленьком пространстве, где нельзя было не то что встать или сесть, но и нормально лежать. Здесь можно было только скорчиться.
Взглядов стражников и Герена он избегал. Без сомнения, это был самый унизительный момент в его жизни. Он, наследник престола Франции, вся жизнь которого прошла в роскоши, окруженный почетом и уважением, теперь он заключен в железную клетку и низведен до положения, ниже которого нет в этой стране.
Он закрыл глаза и не открывал их, пока со скрипом закрывалась дверь клетки и стражники покидали камеру. Он слышал, как закрылась дверь, как ее заперли снаружи, и только когда не стало слышно ни звука, он открыл глаза вновь.
Фонарь Герен забрал с собой, но оставил свечу, торчащую в бутылке. Увидев ее, Людовик вначале испугался. А что, если она ночью повалится на стол, и он загорится, а затем и стул? И он, Людовик, живьем изжарится в этой клетке! Сначала лопнет кожа, и кровь потечет наружу, точно так же, как у только что убитого жаворонка, когда его жарят на вертеле. Он попытался отогнать эти ужасные мысли, но сердце его отчаянно колотилось. Необъяснимый ужас охватил его, как и всякого мужчину, если тот не способен избежать опасности.
С трудом он попытался изменить позицию. Прутья решетки больно давили на раненое плечо, да и весь бок ужасно саднил. Он почувствовал облегчение на несколько минут, но вскоре мускулы заныли снова, а прутья нашли себе новые места, где были кровоподтеки и ушибы. Уже несколько дней он почти не спал и надеялся, что хотя бы усталость свалит его, но вскоре все мысли поглотила боль, не оставив никакого места для сна или даже страха перед пожаром от упавшей свечи. Людовик скорчился, потом изменил позу и снова скорчился, затем перевернулся, но ни одна поза не давала никакого облегчения. Он пытался лежать неподвижно, особенно тогда, когда чувствовал на себе взгляд стражника через оконце в двери. Он считал до ста, оставаясь в одной и той же позе, затем менял ее и снова считал, наблюдая за свечой и пытаясь по ней определить, сколько еще осталось до утра.
Наконец, боль в ранах и во всем теле стала невыносимой. Время перестало для него существовать. Единственной реальностью в этом мире была сейчас его боль и эта железная клетка. Невозможная, нестерпимая боль окрасила всю камеру в красное, а неистовое желтое пламя, что мерцало и подрагивало посередине этой камеры, вытянулось, превратившись в лицо Анны. Где-то в его сознании, смутно забрезжило, что он сходит с ума, Людовик колотил кулаками по решетке, разбивая их в кровь, и кричал, повернув голову к этому пламени:
– Анна! Анна!
Он кричал снова и снова, и ненависть к ней захлестывала его. Неужели она так безразлична к его боли? Ведь ему так больно. Боже!
Она кивала ему и, танцуя, приговаривала:
– Берегись, Людовик! Никакие, даже самые заветные воспоминания не заставят меня быть к тебе милосердной. Ты – предатель!
Заветные воспоминания! Дети у пруда, обсуждающие, как они будут править Францией. А дрожь, что пронзила его, когда он обнаружил, что она не мальчик? А Монришар? А терраса в Амбуазе, когда она целовала его и… лгала? А ее голос: «Нет, своей клятвы я не забыла». И блеск в ее глазах, и как она сжимала его руку, когда они танцевали! А ее поцелуи в Туре! Заветные воспоминания! Заветные воспоминания.
– Никаких заветных воспоминаний, – шипело пламя. – Берегись, Людовик! Берегись! Берегись! Берегись!
Его угасающее сознание сконцентрировалось на этом переливающемся огоньке, который был ее лицом. Если бы он мог до него дотянуться, он бы убил ее. Но убить ее нельзя. Дверь не пускает. Для того чтобы до нее дотянуться, надо открыть эту дверцу в клетке. Но она уже никогда не откроется. Никогда.
– Берегись, Людовик!
* * *
Когда утром к нему вошел Герен, Людовик был без сознания. Герен позвал стражника, и они вместе вытащили его из клетки. Он лежал на полу в неловкой позе, лицом вниз, и они решили не поднимать его на дощатый топчан, там было не лучше, чем на полу. Герен принес его завтрак – кусок свежего хлеба и кувшин воды – и оставил на столе. Задумчиво глядя на бесчувственное тело, стражник попытался поудобнее устроить его, на что Герен саркастически заметил:
– Ты попусту растрачиваешь свою добродетель. Ему уже никогда не выйти отсюда. До конца дней своих он останется здесь, а это уже не за горами.
Однако стражник флегматично продолжал укрывать тело несчастного плащом. Затем, поставив рядом с рукой Людовика кувшин с водой, чтобы тот мог его легко взять, он проворчал:
– Это человек. И он не хуже Лотарингца, Оранжа или Бретонца. Но они на свободе.
Герен рассмеялся.
– Давай, пошли отсюда. Ты нянчишься с ним, как мать с трехмесячным дитем. А наша мадам на троне что-то не горит желанием облегчить его участь.
Несколько позже, но тоже утром, Людовик пришел в себя и тут же забылся глубоким сном. Но проспал недолго. Проснулся от боли – все тело затекло и остро ныло. С трудом открыв опухшие веки, он воспаленными глазами обвел камеру и удивился, что его вытащили из клетки. То, что она когда-нибудь снова откроется, он и не ожидал. Людовик сел, и плащ сполз с его плеч. Кто это так заботливо его укрыл? Конечно, не Герен. Увидев рядом кувшин, он начал жадно пить и выпил все, необдуманно не оставив ничего на потом. А затем с трудом заставил себя подняться. Но полностью выпрямиться ему не удалось, и, сделав несколько неуклюжих шажков и с большими усилиями добравшись до табурета, он с облегчением сел. На столе он увидел хлеб и, немного передохнув, взял его и начал медленно есть.








