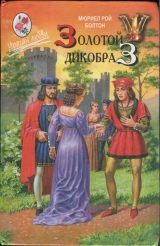
Текст книги "Золотой дикобраз"
Автор книги: Мюриел Болтон
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 28 страниц)
На следующий день прибыл ящик из Парижа, и Макс, чтобы расплатиться за него, пришел просить жалование за следующий месяц.
– Принеси этот ящик сюда, Макс, – приказал Людовик и заговорщически улыбнулся Дюнуа, который сидел на подоконнике, разглядывая синее итальянское небо. На дворе стоял сентябрь, и было очень жарко.
Макс стоял у дверей с ящиком в руках, нерешительно глядя на своего господина.
– Что в этом ящике? – спросил Людовик.
– О, Ваше Сиятельство вряд ли заинтересует его содержимое. Там обычные вещи.
– Конечно, обычные, – согласился Людовик, – зачем же из Парижа везти какие-то необычные. Может быть, там «модные куколки»?
– «Модные куколки»? – эхом отозвался Макс, удивляясь, откуда Людовик мог узнать об этом.
– «Модные куколки», – сказал Дюнуа. – О них так много кругом говорят, давайте посмотрим на них хотя бы.
В смущении поставил Макс ящик на пол и, пользуясь своим ножом, открыл его. Затем, немного поколебавшись, извлек одну из куколок.
– О, совсем новый фасон – буфы и разрезы! – воскликнул Макс, уже предвкушая переполох, какой поднимут служанки вокруг этой куколки.
– Слишком уж вычурно, беспорядочно как-то, – произнес Людовик, – и вдобавок эти перья…
– Вообще черт-те что! – высказал свое мнение Дюнуа.
Сложную отделку платья из зеленого бархата составляли разрезы и декоративные прорези, изнутри все сплошь в разнообразных цветных заплатках. Этот фасон был вдохновлен битвой при Нанси, где победоносные королевские наемники, швейцарцы, смеха ради использовали яркие лоскуты от знамен поверженных бургундцев, чтобы прикрыть дыры и прорехи в своих мундирах. Парижские модельеры быстро откликнулись на эти выкрутасы и внедрили такой фасон в мужскую и женскую одежду.
Пышные рукава подняты кверху и собраны в пуфы в трех местах по длине руки. Корсаж со множеством разрезов, через которые проглядывали пурпурные, фиолетовые и красные шелковые заплатки, тоже собран в пуфы в двух местах. Юбка разрезов не имела, зато вся в пуфах. Силуэт завершала огромная несуразная шляпа, украшенная множеством перьев.
– Не думаю, что это будет пользоваться успехом, – сказал Людовик, – слишком уж все громоздко и неудобно.
Тут он задумчиво улыбнулся.
– Но я знаю одну женщину, которая будет это носить.
Дюнуа и Макс оба кивнули. Они тоже знали эту женщину. Конечно же это была Беатриче дель Лукка, которую оба недолюбливали.
– Я обещал это ей, – начал Людовик и нахмурился, заметив, как вздохнул Макс. Затем он жестко продолжил: – Я хочу, чтобы ты передал это ей, Макс. То есть я хочу, чтобы на эти куколки посмотрела Катрин, а вечером я возьму их с собой, покажу дамам. Сразу же после Катрин принеси их мне.
– Но, Ваше Сиятельство, – воскликнул Макс, – у них там уже наготове портные, чтобы скопировать фасон. И она, надев платье сегодня вечером, скажет, что оно у нее уже давно.
– Именно так она и сделает, – согласился Людовик. – Принеси-ка свои бритвы, Макс.
Удивленный Макс принес свои острые бритвы. Под соленые комментарии Дюнуа Людовик стащил с куклы ее одеяние и передал Максу.
– Отрежь все эти цветные заплатки, но будь аккуратен.
Макс повиновался, но был явно озадачен. Скрестив ноги, он уселся на пол и начал отпарывать многоцветные шелковые лоскутки. Сквозь образовавшиеся прорехи были видны его пальцы. Дюнуа уже понял замысел и с восторгом следил за происходящим.
– Вечером мы покажем куколку с пришитыми заплатами, но эта баба появится при дворе, и сквозь эти прорехи будет просвечивать ее розовая плоть!
Комната огласилась оглушительным хохотом. Проворно работали пальцы Макса, он делал свое дело превосходно.
Эффект оказался еще более забавным, чем они ожидали. После торжественного приема, когда весь двор переместился в салон для танцев и карточной игры, Людовик объявил, что только что получил из Парижа новые «модные куколки». Да, да, именно тот самый фасон, с прорехами! Он послал за ними, а дамы с нетерпением стали ждать.
Беатриче дель Лукка еще не появлялась. Она ужинала в своих апартаментах, подгоняя камеристок и портных побыстрее закончить костюм. Она предвкушала восхищение, с каким будет встречен ее приход, изумление в глазах дам (фасон слишком смелый), потрясение мужчин, когда они увидят ее белоснежную кожу, просвечивающую сквозь прорези в темно-зеленом бархате.
Она пришла довольно поздно, так что у дам было достаточно времени внимательно рассмотреть каждую куколку и все обсудить. Это была настоящая драма, когда они увидели ее. Она смело прошествовала через зал к столу, где лежали куколки, а дамы, вытягивая шеи, старались получше ее разглядеть.
Что это за белый материал просвечивает у нее сквозь прорези? Когда же они наконец осознали, что это у нее просвечивает, то все застыли в оцепенении. Нет, это уже слишком. Она зашла слишком далеко. Фасон сам по себе довольно странный, но все же пристойный. Но то, как она переиначила его, – просто позор.
Наконец она смогла разглядеть куколку на столе, и у нее перехватило дыхание. И тут она услышала рядом с собой мужской голос.
– Я вижу, – произнес Людовик, – Катрин не совсем точно описала вам этот костюм.
Она встретилась с ним взглядом. Его глаза ласково улыбались ей, а потом они начали блуждать по широким прорехам в ее корсаже, где было видно немало белых пикантных закруглений.
– Но все же я считаю ваш наряд очень интересным. Жаль только, что вы его больше никогда не наденете.
Ей захотелось закричать, ударить его. Но ни того, ни другого сделать было сейчас нельзя. Наоборот, сейчас надо было делать вид, что ничего не случилось, и достойно закончить вечер. Бросив на Людовика взгляд, полный ненависти и обещания расплаты, она отошла прочь.
Подошел Дюнуа и, еле сдерживая себя, чтобы не расхохотаться, тихо произнес:
– Я думаю, что, если мы не хотим получить в бокал с вином порцию яда, нам пора сматываться отсюда. И побыстрее!
* * *
Рим, Папа, для всего христианского мира оба эти понятия были почти синонимами и внушали трепетное благоговение. От пребывания в этом городе зависело будущее Людовика.
Дворец папы Секста IV был не менее светским, чем какой-нибудь королевский двор. Там всегда толпились красавицы и богатеи, входили и выходили ремесленники и мастеровые, поскольку намечалось возведение нового большого собора Св. Петра. И, конечно, повсюду мундиры солдат. Все это не случайно, ибо по всей Италии распространились антипапские настроения. В жестоком противостоянии находился Рим с Флоренцией, Папа воевал с семейством Медичи. Приближалась решительная схватка, и главным призом победителю была Флоренция.
В Риме Людовик и Дюнуа встретились со своим давним другом Жоржем. Он уже приобрел среди церковников весомое положение. Радостно поворачивал он свое круглое багровое лицо то к одному, то к другому. Его голубые глаза сияли. А друзья выкладывали свои путевые впечатления.
– Но где вы так долго пропадали? Я уже отчаялся вас здесь увидеть.
– Да, мы тут по дороге замешкались немного, – признался Людовик, обменявшись с Дюнуа улыбками.
– Замешкались? Вы что, перепутали дорогу? Попали в Англию?
– Да нет же, – объяснил Дюнуа, – мы были в Милане. Он оказался так хорош, что Эжен решил там остаться. У Людовика тоже была там очень красивая девушка, только с ее братьями ему не повезло.
– Я вижу, вы прибыли в Святой Город начиненные грехами. Немедленно покайтесь.
– Обещаем тебе, святой отец, – ответили друзья и потешно склонили головы.
Они остановились в апартаментах Жоржа в Папском дворце. Он водил их по Риму с одержимостью, с какой старожил (пусть даже и с небольшим стажем) показывает город новичкам.
– А мы еще осмотрим развалины храма на горе и обязательно посетим Колизей при лунном свете!
Но для Людовика более важным было осмотреть, как выглядит кабинет Папы, и Жорж договорился об аудиенции на следующей неделе.
Папа Секст IV встретил его радушно, но немного торопился. Это был уже очень пожилой (шестьдесят три года) и больной человек. Он мирно беседовал с Людовиком, когда вошел его племенник, кардинал Риарио, и что-то сказал ему на ухо. Папа поспешно благословил Людовика и отправил прочь, хотя тот не высказал и половины того, что намеревался сказать. Через две недели была назначена еще одна аудиенция. Людовик вернулся в апартаменты Жоржа и сообщил Дюнуа и Максу, чтобы они приготовились к длительной осаде.
Жорж на помощь Папы не надеялся. У Секста IV с французским королем был свой конфликт, и он не мог себе позволить осложнить ситуацию только потому, что герцогу Орлеанскому не нравится его жена. Жорж предварительно беседовал об этом с Папой, и тот сказал ему, что получил письмо от короля, где четко сказано, что Орлеанец женился по своей воле, без всякого принуждения, его брак освящен святой церковью и что принцесса (очень набожная девушка, о чем Папе хорошо известно) может поклясться на святой Библии, что это правда. Если Папе будет угодно, то король может выслать письменное подтверждение, данное под присягой.
Прошел месяц, а Людовику так и не удалось еще раз встретиться с Папой. Началась война с Флоренцией, и Его Святейшество был очень занят. Но, поскольку Людовик проявлял большую настойчивость, Папа написал королю и предложил прислать письменное подтверждение от Жанны.
Прошло еще несколько месяцев, а Людовик все мучился и ждал. Ему было очень интересно узнать, как король выпутается из этого положения, ибо не мог поверить, чтобы Жанна могла солгать перед Богом.
Наконец к Папе прибыли гонцы и привезли послание, подписанное Жанной и подтвержденное двумя церковниками с безупречной репутацией, кардиналом Бурже и епископом Руанским.
Людовик стоял у стола перед Папой и тяжело дышал.
– Ваше Святейшество, я не могу поверить, что эти люди приняли участие в подобной лжи.
– Во что же ты веришь, сын мой? – устало спросил Папа.
– В то, что это фальшивые свидетельства.
Папа вопросительно поднял кустистые седые брови, а Людовик продолжил:
– Даже если здесь была бы подпись самого Господа Бога, это все равно было бы ложью.
Увидев неодобрение на лице Папы, Людовик попросил позволения удалиться, забыв даже испросить следующей аудиенции.
Вскочив на коня, он поскакал вдоль Тибра и все думал и думал. Как же так? И какие здесь замешаны люди – Жанна, епископ, кардинал… Да нет, это невозможно, чтобы целовать Святой Крест и потом лгать. Возможно, Жанна после той ночи в Линьере его возненавидела за те ужасные слова, что он тогда ей сказал. Ну что ж, она права. Он сам не переставал упрекать себя за жестокие слова, которые на самом деле адресовались не ей, а ее отцу. В конце концов, в этом деле она так же беспомощна, как и он.
И Людовик решил написать ей письмо. Честно покаяться, сказать, что он глубоко сожалеет о своей грубости и жестокости по отношению к ней и испрашивает письменного подтверждения, действительно ли ее послание Папе, присланное королем, подтвердили епископ и кардинал. Скорее всего, она не ответит, возможно, у нее не будет возможности, но попытаться стоит.
Чуть больше чем через месяц, пришел ответ. Мягкий, прощающий ответ и очень обнадеживающий. Она понимает его тогдашнее состояние, его возмущение в ту ночь было направлено не на нее, а на те ужасные обстоятельства, в которых он оказался. Она сожалеет об этом и не осуждает его. Что же касается письменного свидетельства для Папы, подтвержденное кардиналом Бурже и епископом Руанским, то, да, ее отец действительно просил их письменно подтвердить, что от ее имени и по ее желанию одному из монастырей были пожалованы какие-то земли и деньги. «Но каким образом, – удивленно спрашивала она, – Людовику известно об этом подтверждении, и почему это его интересует?»
– Ах вот оно в чем дело! – вскричал Людовик. – Вот, значит, как это все было сделано! Король просто обманул этих достойных людей, они думали, что подписывают подтверждение о получении земель, а король потом ниже сам приписал лживые свидетельства.
Он немедленно доставил это письмо Папе.
Но ничего не произошло. Папа только покачал головой – это письмо носит частный характер и ничего изменить не может.
Он сожалеет, но оснований для аннулирования этого брака не видит. И это решение его окончательное. Он всегда рад видеть у себя герцога Орлеанского, но только не по этому поводу.
Папа благословил Людовика и отпустил с миром.
Мрачный добрался Людовик до своих апартаментов и приказал Максу собираться в дорогу. Через несколько дней они выезжают. Затем зашел к Дюнуа и рассказал ему о своей последней встрече с Папой.
Все. Их миссия закончена. Больше здесь делать нечего, теперь все дела во Франции – надо встретиться с кардиналом Бурже и епископом Руанским и заручиться их письменными свидетельствами.
Дюнуа стоял посередине комнаты в странной позе. Взгляд его был каким-то туманным, а лицо бледно-серым.
– Что с тобой, Дюнуа? – отрывисто бросил Людовик.
Дюнуа из стороны в сторону покачал своей большой головой.
– Не знаю. Чувствую так, как будто в меня вселилась тысяча чертей.
– Вид у тебя неважный, – встревоженно пробормотал Людовик. – Ты должен лечь в постель.
– Какая постель… Я не болен. Это пройдет…
С этими словами он повалился вперед, на пол. Людовик успел подхватить его, иначе он разбил бы себе голову о мраморный камин.
Людовик крикнул Макса и Иосифа, но к тому времени, как они прибежали, он уже сам уложил своего друга на постель. Ужасно было видеть Дюнуа без чувств, с серым лицом. Дюнуа, который никогда в жизни не испытывал ни малейшего недомогания.
Собрались доктора и принялись спорить. Это лихорадка (а в те времена любая болезнь была лихорадкой), нет, это что-то с легкими, это желудок, нет, это сердце. Но в одном они были единодушны – Дюнуа серьезно болен.
– Дни и ночи просиживал Людовик у его постели, наблюдая за беспомощными докторами, видя, как его друг стремительно теряет вес, слабеет день ото дня.
Почти каждый день Дюнуа пускали кровь. Считалось, что таким способом можно изгнать болезнь. Это продолжалось до тех пор, пока однажды Людовик их не остановил. Не лучше ли оставить бедному Дюнуа хоть немного крови, «на развод». Лихорадка Дюнуа продолжалась. Он часто бредил. Временами приходя в сознание и видя рядом Людовика, слабо улыбался.
– Что, умираю? – спросил он однажды.
– Какая чепуха, – твердо сказал Людовик и помолился в душе Господу, чтобы слова его оказались правдой.
– Это хорошо, – пробормотал Дюнуа. – Не хотелось бы умереть в Италии.
– Ты умрешь во Франции.
– Не хочу умирать в постели.
– Ты не умрешь до девяноста лет.
– Умереть на коне, – продолжал Дюнуа. – Лучшего места не придумаешь.
– Не такое уж это и удобное место.
Но Дюнуа настаивал.
– Умереть на коне… на быстром коне, с мечом в руке… и… во Франции… только не в Венеции, там слишком много воды.
– Нет, не в Венеции, – заверил его Людовик. – Я обещаю тебе – во Франции и на коне.
– Будь я проклят, если этого не произойдет, – неслышно пробормотал Дюнуа и безжизненно откинулся на подушки.
Шли дни, недели, и Дюнуа удалось победить болезнь. Он начал медленно поправляться, набирать вес. Но еще много пройдет недель и месяцев, прежде чем он сможет опять путешествовать. И это угнетало, ведь из-за него и Людовик теперь сидит на месте, не вступая в битву с королем.
Много раз предлагал он Людовику отправляться без него, но тот не желал даже слышать об этом.
В эти тревожные дни Людовик осознал, как много значит для него этот крепкий преданный кузен. За исключением, пожалуй, Анны, Дюнуа был его самым ближайшим другом, и даже если придется ждать долго, он будет ждать до весны, пока Дюнуа не окажется в состоянии сидеть в седле и сможет выдержать дальнюю поездку.
– Мы будем ждать вместе до тех пор, – твердо заявил он Дюнуа, – пока конь не сможет нести тебя. Но если ты снова заведешь об этом разговор, мы будем ждать, пока ты не сможешь нести коня.
Глава 9
– Ален, ты меня любишь?
Казалось, по замку Блуа бродит эхо с этим вопросом, который шепотом задавала де Морнаку Мария и нетерпеливо ожидала подтверждения.
– Ален, ты меня еще любишь?
Она начала задавать этот вопрос через месяц после свадьбы, когда вдруг испугалась, что совершила ошибку, когда вдруг внезапно поняла, что быть женой де Морнака это совсем не то, что она предполагала. Он был с ней телом, и то не так уж много, ну а душой… (если таковая у него водилась, в чем она начала в последнее время серьезно сомневаться). В общем, он дал себя ей не больше, чем она имела прежде. Вместо тесного общения, Мария почувствовала себя еще более одинокой, ибо он проявлял больше интереса к хозяйству, а большинство ее друзей сразу куда-то исчезли. Все они считали, что она залетела слишком высоко. Иметь такого любовника совсем даже неплохо, но выходить замуж только для того, чтобы все знали, что вы были любовниками… Те немногие друзья, что с ней остались, тоже были потрясены. Они называли ее «бедная Мария», гордились своей верностью, старались как-то заглушить скандал, возникший вокруг нее.
Одного-единственного визита ко двору для нее было достаточно. Домой она вернулась взбешенная – эти шуточки, эти смешки за спиной, да и почти что прямо в лицо. И этот ее постоянный рефрен «Но все это неправда!», когда речь заходила об отце Людовика, звучал сейчас довольно глупо.
Она часто плакала по ночам и, когда уже была не в силах переносить одиночество, поворачивалась к безмятежно спящему де Морнаку.
– Ален! – шептала она, слегка трогая его за плечо. – Ты спишь?
Он медленно продирал глаза и бормотал что-то несвязное.
– Ален, ты спишь?
– Что, что?.. Конечно, я спал. Что случилось?
– Мне приснился страшный сон. Поговори со мной, чтобы я могла его забыть.
Поговорить! Посередине ночи, и это после того, как все, что он хотел сказать, он ей уже сказал пару часов назад. Ну, что это за женщина, обожает вести разговоры по ночам!
Но де Морнак смягчался и прижимал ее к себе, чтобы она могла забыть свой страшный сон.
– Что тебе снилось? – сонно спрашивал он.
Она начинала плести какой-то длинный рассказ о том, как ее куда-то везли на лошадях, и все такое прочее. Выдумывала всякую чушь, лишь бы что-то говорить и слышать его голос, который он изредка подавал. И вот в тот момент, когда он уже снова начинал засыпать, она и задавала свой коронный вопрос:
– Ален, ты еще любишь меня?
И он давал ей свой неизменный ответ:
– Конечно, дорогая, ты же сама знаешь, что я люблю тебя.
Эта процедура повторялась раза два в неделю, и терпение де Морнака начало иссякать. Однажды, когда она разбудила его ночью после очень трудного дня и задала тот же самый до смерти надоевший вопрос: «Ален, ты спишь?», он рывком вскочил с постели.
– Ради Иисуса И Пресвятой Девы Марии! – закричал он. – Нет, я не сплю. Как я могу спать, если ты меня будишь?
С глубоким ворчанием он сорвал с постели покрывало и завернулся в него.
– Я возвращаюсь в свою старую холостяцкую постель, где меня не будут каждые полчаса будить, чтобы я выслушивал рассказы о каких-то дурацких снах!
Придерживая покрывало, он резко вышел из комнаты. Она прокричала ему вслед что-то жалобное, умоляющее, но дверь с шумом захлопнулась. «Какая же я идиотка, – проклинала себя Мария, – зачем мне надо было его будить, как было хорошо, покойно, когда он мирно посапывал рядом».
А де Морнак шагал по холодным переходам замка, бормоча под нос, что если это и есть счастливая супружеская жизнь, то такая жизнь не для него. Марию следует проучить. Если она не перестанет систематически его будить, он навсегда переберется в свои прежние апартаменты.
Урок этот для Марии даром не прошел – ночи его с тех пор стали более спокойными. Его, но не ее. Марию взяла в свои липкие руки бессонница. Раньше трех-четырех утра она никогда уже не засыпала, и эти ночи, не имеющие конца, стерли остатки ее былой красоты. И это ее тоже тревожило. Она пыталась бороться с увяданием, пыталась удержать супруга, но и то, и другое у нее получалось плохо. Если бы она могла его лучше понять, не предъявляла к нему таких непомерных претензий, не нарушала его покой, она вполне могла бы выиграть это сражение. Но ей все время хотелось, чтобы он разубеждал ее, развеивал ее сомнения. Она постоянно с этим к нему приставала и переполнила наконец чашу его терпения.
– Ален, ты еще любишь меня? – этот вопрос она задавала слишком часто.
И вот однажды он медленно повернул к ней свою голову и резко бросил:
– Не знаю.
Она глуповато-удивленно воззрилась на него.
– Ты не знаешь?
– Ты спрашивала об этом столько раз, что, по-моему, заслужила получить правдивый ответ.
– Конечно.
– Ну, так вот, единственное, что я знаю, так это то, что я любил тебя когда-то. Возможно, люблю и сейчас, но мы поднимаем по этому поводу столько шума, что теперь я даже не совсем уверен в этом.
Мария ничего не поняла.
– Скажи, ты меня любишь или нет!
– Знаешь что, мне кажется, у нас понятия о любви совершенно разные. Например, что ты понимаешь под любовью?
Мария была счастлива рассказать ему об этом.
– Я могу только сказать, что я думаю, когда говорю тебе о любви. Я хочу быть с тобой всегда. Всю свою жизнь я принесла в жертву тебе. Я душу свою продам дьяволу, если ты потребуешь этого.
Голос Марии дрожал, когда она говорила.
Де Морнак с сожалением покачал головой.
– Нет.
– Нет? Что ты имеешь в виду?
Он поднялся со своего кресла и устало подошел к камину.
– Если этот бессмысленный набор слов и есть любовь, то я никогда не любил ни тебя, ни кого другого.
– Ален! – всхлипнула Мария. – Это неправда. Ты только зол на меня за то, что я не даю тебе спать по ночам!
Легче всего для него было бы признать это и заверить ее в своей вечной любви, тем самым обеспечив спокойный вечер. Но он устал от этих ее постоянных слез и эмоций. «Пора положить этому конец, – говорил он себе, – раз и навсегда. Нам никогда не удастся достичь гармонии, и она должна перестать это требовать».
– Я вовсе не сержусь на тебя, и мне вовсе не хочется делать тебе больно. Я просто пытаюсь правдиво ответить на твой вопрос, но, по-видимому, правда тебя не интересует. Я бесконечно устал от этих твоих постоянных претензий. Тебе все еще кажется, что мы молоды и наш роман только начался. Я вижу, ты не удовлетворена тем, как я к тебе отношусь. Боюсь, тебе придется с этим смириться.
Это было жестоко по отношению к ней, но справедливо. Ведь что она делала до сих пор – с помощью слез, которые на него давно уже не действовали, она умоляла его, навязывала ему свою любовь, лезла к нему с ней, требовала, чтобы он отвечал ей тем же. Все это было совсем не то, что нужно. А сейчас она сделала еще одну грубую ошибку.
– Когда я подумаю, чем для тебя пожертвовала – своим сыном, своими друзьями, своим достоинством…
Он тут же прервал ее:
– А разве я просил тебя о чем-нибудь подобном?
– Но если ты никогда меня не любил, зачем ты позволил мне разрушить свою жизнь?
– Да. Мне следовало ожидать таких разговоров, – грустно заключил он. – Ты предпочитаешь не помнить, что это не я, а именно ты настаивала на браке. Я в точности перечислял (и не раз), что ты при этом теряешь, но ты упорствовала. У тебя всегда было свое собственное мнение обо всем, независимо от того, что об этом думают окружающие.
– Нет, это неправда!
– Нет? Ты хотела этого брака, чтобы с помощью церковного обряда успокоить свою совесть. А ты подумала, как это отразится на твоем сыне?
Мария не отвечала.
– Ты всегда повторяла, что Людовик – это для тебя все. Ради него ты была готова пожертвовать всем, даже надеждой попасть после смерти в Рай. Но слова ничего не стоят. Возжелав, чтобы епископ благословил твой грех, ты сделала ему больно. Разве это не пример твоей любви?
– Нет, – ответила она тихо. – Я была неправа, но не понимала этого.
– Да ты просто никого не хотела слушать. Что касается меня, то мне все равно. Я не возражаю против того, чтобы люди думали, что Людовик мой сын. Это меня забавляет. Но, уверяю тебя, Людовика совсем не забавляют грязные памфлеты о его рождении, что циркулируют по всей Европе. Люди хихикают ему вслед, когда он проходит.
У Марии перехватило дыхание.
– Я глубоко сожалею, – беспомощно пролепетала она.
Через мгновение она встала и страстно прокричала ему в лицо:
– И зачем только ты тогда пришел в эту комнату, почему ты не оставил меня в покое!
Некоторое время он рассматривал ее в полной тишине.
– Если бы я мог предположить, что это перерастет в такую пламенную страсть, а не будет просто безобидным любовным приключением, да я бы, конечно, этой ночью остался у себя и послал бы за какой-нибудь миленькой служанкой. Видит Бог, у меня нет ни времени, ни энергии для такой пламенной страсти, что превращает мои дни и ночи в сплошной кошмар слез, причитаний и упреков. У меня нет никакого желания, чтобы ты из-за меня продавала душу дьяволу. Все, что я хочу, так это мира и покоя, но, по-видимому, с моей стороны, это слишком непомерное требование.
Никакого ответа от Марии не последовало. Она забилась в угол кресла и залилась слезами.
– Я вижу, ты собираешься предаться великой печали. Ну что ж, если хочешь, можешь развлекаться подобным образом, с меня довольно.
С этими словами он ее покинул и отправился в свои апартаменты.
Обидные его слова пробудили гордость Марии, и она оставила его в покое, на время, по крайней мере. Днем она поддерживала с ним формальные отношения, ну а ночью молилась, чтобы он к ней вернулся. «Конечно, он вернется, – думала она, – когда увидит, что мои притязания на него умерились. Конечно, это было не всерьез, когда он говорил, что не любит меня».
Но шли недели, и Мария начала терять самообладание. А ночи ее становились все длиннее и длиннее. И еще – трудно было сносить все понимающие взгляды прислуги. Все больше времени она начала проводить в одиночестве, потому что с камеристками ей говорить не хотелось, а друзей не осталось.
И вот однажды вечером одиночество стало для нее и вовсе нетерпимо. Она надела самое лучшее платье и решила навестить де Морнака в его апартаментах. Она хотела очень тактично намекнуть, что если он хочет жить отдельно, то она не возражает, только пусть переберется поближе, в одну из больших гостевых комнат. Тогда это не будет выглядеть так странно. В общем, она надеялась на восстановление отношений.
Тихо проследовала она к его апартаментам, по возможности стараясь быть незамеченной. Сердце ее колотилось, когда она подошла к его двери. Мария остановилась перевести дух и оправить платье. Она уже тронула за ручку, как услышала чей-то тихий смех. Оглянувшись, она не увидела в темном проходе никого, но тут смех повторился. Смеялась женщина. Марию пронзила мысль – смех исходит из комнаты де Морнака. Он не один! У него женщина!
Ей вдруг сделалось плохо. Она стоит у двери своего супруга, здесь, в своем собственном доме, она жаждет его. А он? Он изменяет ей сейчас с ее собственной служанкой. Теперь она различила и его низкий глубокий смех, вперемежку с дробным женским хихиканьем. Они над ней смеются!
Мария повернулась и поспешила к себе, безразличная теперь к тому, увидят ее или нет. Подобно лунатику, который обходит все препятствия на пути, не видя их, она прошла прямо к маленькому алтарю в своей молельне. Зажгла две свечи и опустилась на колени. Тело ее оцепенело, но не разум. Он работал четко, как никогда еще прежде. Она не искала успокоения, она обозревала свою жизнь, пытаясь доискаться, что же такого было в ней, что привело ее к такому позорному исходу, и что с этого момента будет представлять дальнейшее ее существование.
Беззвучно шевеля губами, она повторяла:
– Не жалей себя за то, что он был неверен тебе. Это твое наказание за то, что ты изменила Карлу… и Людовику. Ален прав, ты сама этого хотела. Когда у тебя был Карл, тебе его доброты было мало. Ты жаждала любви. Ну что ж, ты ее получила. И, когда она пришла к тебе, ты забыла и о себе, и о своем сыне, о чести Карла, о друзьях. Все отбросила в сторону, ничего у тебя не осталось, только сознание безвозвратной потери. А Людовик? Ты обрекла его на страдания, на всю жизнь. Он сам, да и все вокруг, всегда сомневались, был ли действительно Карл его отцом. Своим браком ты развеяла эти сомнения. О Боже, как я могла так поступить со своим сыном!
Она скорчилась перед алтарем, без конца задавая себе этот мучительный вопрос. И так до рассвета. В молельне было холодно, но она ничего не ощущала. Притулившись головой к резному выступу алтаря, она наконец погрузилась в глубокий сон, уткнувшись лицом в подол деревянного одеяния Мадонны.
Утром Мария еле передвигала ногами. Голова и глаза невыносимо болели. К вечеру у нее заложило горло и поднялась высокая температура.
Несколько недель она тяжело болела. И когда наконец смогла встать с постели, то это была уже совсем другая женщина. Былое жизнелюбие и энергию заменили равнодушие и усталость. Она почувствовала себя старой и безразличной к тому, как выглядит. И вообще безразличной ко всему, включая де Морнака. В ее ушах эхом продолжал отдаваться тот же самый вопрос: «Что же я сделала со своим сыном?»
* * *
Де Морнак был с ней ласков и предупредителен. Она отвечала ему с вежливым равнодушием. К чему обижаться на Алена, если сама виновата. Никаких попыток вернуть его она больше не предпринимала. Иногда, очень редко, он посещал ее, и она уступала его страсти, сама загораясь на несколько мгновений. Но эта страсть никогда не затрагивала ее сознание. Она принимала ее как нечто такое, что нужно подавить и забыть.
Мария знала, что все это старит ее, но почти не гляделась в зеркало. А когда смотрела на себя, то видела, что той весенней примулы, как однажды назвал ее де Морнак, давно уже нет. Она увяла, исчезла.
И, как ни странно, от этой мысли ей вдруг становилось легче.








