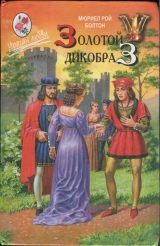
Текст книги "Золотой дикобраз"
Автор книги: Мюриел Болтон
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 28 страниц)
Мюриел Рой Болтон
Золотой дикобраз
Глава 1
Король Франции Людовик XI[1]1
Людовик XI (1423–1483) – Валуа, король Франции с 1461 г. (Здесь и далее примечания переводчика.)
[Закрыть] стоял у алтарной ограды Орлеанской часовни, держа на руках новорожденного кузена. Его крестник пронзительно орал, а сам король больше всего на свете желал бы сейчас швырнуть этого маленького негодяя в серебряную купель с освященной водой. Швырнуть и, как можно дольше, не вынимать, потому что это бастард[2]2
Бастард – в средневековой Западной Европе внебрачный сын владетельной особы (короля, герцога и т. п.).
[Закрыть] – и тут нет сомнений, хотя доказать ничего не докажешь.
Недобрый взгляд короля, как нож в масло, вошел в фигуры священников, бормочущих молитвы в своих ярких красочных облачениях, пронзил их насквозь и уперся в нечто. Это нечто, по-видимому, должно было считаться отцом крохотного существа, что вопило тут и сучило ножками. Король разглядывал престарелого герцога Орлеанского. Тот, наблюдая за обрядом крещения, весь так и светился от счастья.
«Идиот, – подумал король, – ведет себя будто и вправду верит, что это его сын по крови, плоть от его плоти».
Косые лучи летнего солнца пробились сквозь витражное стекло и цветными бликами мягко окрасили в розовые и желтые тона худое утонченное лицо Карла, вспыхнули в его голубых глазах торжествующим ликованием.
«Старому дураку далеко за семьдесят, – с горечью продолжал свои размышления король, – и за все годы супружества он смог произвести на свет только одну маленькую дочь с такой же, как и у него самого, изящной комплекцией. Так какое же, скажите на милость, он имеет право дурачить нас, выдавая этот кусочек крепкой мужской плоти за собственное произведение?
Дитя получит его имя – это верно, и унаследует все обширные земли герцогства Орлеанского, а ведь они должны были отойти к королю, если бы герцог Карл умер, не имея наследника». Сознавать это само по себе было уже противно, но претензии герцога на отцовство переполняли чашу королевского терпения, заставляя его кипеть внутренним гневом, который он едва сдерживал. Желудок Людовика XI, изнуренный постоянной злобой и нервными стрессами, болезненно содрогался от спазмов, когда король представлял себе, что же произошло на самом деле.
Любому из присутствующих было ясно, как Божий день, что молодая герцогиня, – с согласия мужа или без такового, – имела связь с молодым сильным мужчиной, а результат этой связи – вот он, в королевских руках.
С кислой улыбкой на худом лице, мрачный как туча, король уложил дитя на атласную подушечку и огляделся вокруг. Церковь переполняли коленопреклоненные бароны, съехавшиеся в Блуа из всех провинций герцогства Орлеанского, чтобы присутствовать на крестинах Людовика, наследника герцогства и, возможно, наследника французского престола. Крестным отцом младенца был сам король Людовик.
Это было живописное зрелище. Перед королем простирался луг, покрытый изумительными цветами. Зеленые и голубые камзолы мужчин (парча, отделанная горностаем) были туго стянуты в талии широкими поясами (здесь преобладали тона зеленый и коричневый). Пышные шляпы без полей, напоминающие тюрбаны, из алого с золотом шелка необыкновенно контрастировали с высокими из черного бархата конусообразными энненами[3]3
Эннен – головной убор знатных дам в виде высокого (до 70 см) конуса.
[Закрыть] женщин. Титулы собравшихся были под стать их одеяниям – герцоги и герцогини со всей округи оказали честь Орлеанскому дому и младенцу, который в один прекрасный день мог стать королем всей Франции.
Но красочная панорама не развеселила угрюмого короля. Ни один мускул на его лице не дрогнул, когда он наконец остановил свой взгляд на милой склоненной головке матери ребенка. Губы ее шевелились в молитве. Мария Орлеанская, молодая и свежая, выглядевшая именно так, как однажды ее описал супруг, то есть «настоящий солнечный зайчик в тенистом саду», прилежно молилась. Вне всякого сомнения она благодарила Господа за то, что Он наконец даровал ей сына. Ее светлые длинные волосы были убраны под высокую коническую шляпу, отчего обнажилось маленькое розовое ушко и вдобавок были хорошо видны не менее розовые щечки. Платье – из лазорево-голубого бархата. Обильно расшитое внизу золотыми нитями, оно обтягивало ее с разумной скромностью. Все это как нельзя лучше подчеркивало темно-голубые глаза герцогини и коралловый изгиб ее губ, не тронутых помадой. Она вдруг испугалась за свой точеный носик. Ей показалось, что он слегка покраснел от всех этих переживаний. Под прикрытием широкой кардинальской мантии она наклонилась еще ниже и бросила быстрый взгляд на блестящий серебряный диск, что висел у нее на поясе, украшенном драгоценными камнями. Тогда вошло в моду использовать такие маленькие серебряные диски как зеркальца. Да, ее нос немного блестел, и ей немедленно захотелось помазать его тем снадобьем, что камеристка купила недавно у странствующего парфюмера-итальянца.
Тем временем месса закончилась. Быстро опустила она зеркальце, укоряя себя за суету в такой момент – ведь только что окрестили ее сына. Ее с Карлом сына! Радостно взглянула она на мужа, который стоял рядом у алтаря.
«Зачем она на него смотрит? – грустно удивился король. – Почему бы не оглянуться вокруг и не поискать глазами мужчину, того, кто на самом деле сделал ей этого отпрыска?» Согласно общему мнению папашей являлся Ален де Морнак, мажордом двора герцога Орлеанского.
Когда сия потрясающая новость две недели назад достигла королевского двора в Туре, придворные со смехом повторяли друг другу, что матушка-природа поощрила естественный союз, ибо формальный никуда не годился.
– Слышали, – хихикала одна дама, – у герцога Орлеанского родился сын?
– Вы имеете в виду, что герцогиня родила сына? – следовал быстрый ответ.
– Как это чудесно, – ликовала притворно первая дама, стараясь быть серьезной, но едва сдерживая смех, – что Бог наконец внял ее молитвам!
– Вы знаете, я слышала, Бог этот весьма хорош собой, – продолжалось злословие. – Темноволосый неотразимый гасконец, у него необычайный дар быстро откликаться на женские молитвы.
– Что вы говорите! – удивленно выкатывала глаза первая дама. – Тогда, может быть, и нам следует усерднее молиться. Во всяком случае, я очень бы хотела пообщаться с таким Богом.
В другое время король, наверное, тоже от души посмеялся бы, но не сейчас. Рождение этого ребенка так много отняло у него, что тут было не до забав. Больше всего короля мучило сознание того, что все возможно было предотвратить. Достаточно было удерживать своего престарелого кузена, Карла Орлеанского, при королевском дворе, не отпуская ни на шаг. То есть устроить так, чтобы муж и жена все время жили порознь. Герцогиня, возможно, все равно родила бы сына, но тогда ничего не стоило доказать, что это бастард, и лишить его всех прав наследования.
«Следовало догадаться, – с горечью думал король, – что нечто подобное обязательно произойдет. Будь он на их месте, несомненно поступил бы точно так же. И никакая мораль здесь ни при чем.
Больно, очень больно сознавать, что мерзкий ублюдок будет владеть землями, которые по праву должны принадлежать королю».
Людовик заметил, большинство женщин в церкви начали вытягивать свои слабые шейки, чтобы разглядеть де Морнака, «Благодетеля», как его все в Орлеане называли. Проклиная себя в душе за то, что он вообще находится здесь, король слегка повернул собственную шею, желая взглянуть на предполагаемого отца своего августейшего кузена.
«Да, – чертыхнулся в душе король, – выглядит он, как настоящий благодетель. Его благодеяний, пожалуй, хватит на целый полк бастардов, а то и больше».
Темноволосый крепкий гасконец – настоящий жеребец – возвышался, точно утес. Его лицо оставалось невозмутимым, как будто всех этих женщин вокруг, что хихикали и сверлили его глазами, не было и в помине.
– Проклятье Божье! – вдруг негромко воскликнул король Людовик, чем изрядно напугал стоявшего рядом священника.
Поспешно приподнял он подушечку с младенцем, но было уже поздно. Теплая струйка просочилась сквозь подушечку и окрасила полы королевского плаща. Нового и весьма дорогого. Длинное нарядное это одеяние король Людовик любил особенно. Оно укутывало его в тяжелый бархат от шеи до лодыжек, скрывало худые коленки, которые постоянно зябли, несмотря на шерстяные чулки, а вечно холодные руки надежно прятались в широкие, с рубчатыми краями и пурпурным подбоем, рукава. Словом, самое подходящее одеяние для человека с неважным кровообращением.
И вот теперь, вдобавок ко всем неприятностям, что доставил этот противный младенец, он еще испортил и лучшую вещь в королевском гардеробе!
Сразу же по окончании церемонии, будучи в гневе, король направился в опочивальню Марии, где той предстояло вновь улечься в постель.
– Мадам, – желчно начал король, – ваш маленький отпрыск промочил всего меня насквозь и испортил мой лучший плащ. Прошу сказать, что все это означает, предзнаменованием чего, по вашему мнению, является?
Надо заметить, король Людовик XI редко выходил из состояния постоянной подозрительности. Помимо этого, он был еще и очень суеверен, в каждом событии, даже самом незначительном, всегда искал какие-то знамения и таинственные знаки свыше. Рассказывают, что однажды он приказал казнить чем-то не угодившего ему астролога. Когда того вели на смерть мимо короля, тот объявил:
– Сир, моя кончина наступит за три дня до вашей!
В испуге король отменил свой приговор и долгие годы опекал астролога, как лучшего друга.
Вот и сейчас вопрос прозвучал столь неожиданно и неуместно, что Марию вдруг разобрал смех, и ничего она не могла с собой поделать, несмотря на явное неудовольствие монарха. Она была счастлива, и ее радовало все, совершенно все. Мария откинулась на атласную подушку и смеялась так, что заболели ребра.
Более опытный и хладнокровный Карл тоже был на седьмом небе от счастья, однако предпочел объясниться, слукавив:
– Я полагаю, это означает следующее: поскольку вы были столь добры, дав младенцу свое имя, он, в свою очередь, тоже пожелал вам дать что-нибудь.
– Ах, вот что это означает, – холодно заметил король. – В таком случае поблагодарите его от моего имени и передайте, что впредь я предпочел бы обойтись без подобных интимных подарков.
– Сейчас ему просто больше нечего вам предложить, – сказал Карл, а Мария вновь разразилась хохотом.
– У него есть Орлеан, и этого уже достаточно! – в свои слова королю удалось вложить как можно больше сарказма. – Кстати, я еще не поздравил вас, мадам. Не каждая женщина способна столь неожиданно подарить супругу наследника. А главное, – столь своевременно.
Карл слегка приуныл, а у Марии немедленно пропало желание смеяться. Видимо, до них тоже дошли слухи.
Она поблагодарила короля за поздравление, сделав вид, что не заметила никаких намеков.
– Благодарю вас, – ответила она. – Этого события мы ждали долгие годы. Я тоже еще не успела поблагодарить вас за то, что вы милостиво согласились быть крестным отцом нашего маленького Людовика. Это также было для нас неожиданно.
– Все это не стоит мне ровно ничего. Тем более что малыш мой кузен, – в устах короля эта фраза прозвучала довольно грубо. – Я счастлив быть занесенным в список его отцов.
Произнося эти слова, он наблюдал за выражением лица Марии. Увидев, как зарделись ее щеки, он почувствовал себя чуточку лучше. Ему тут же захотелось выложить им про свои намерения относительно ребенка, они пришли в голову, когда он держал его на своих руках и клялся перед алтарем быть младенцу вторым отцом.
Разумеется, в первую очередь крестный отец надеялся на смерть ребенка. На это всегда нужно надеяться, но, поскольку младенец является предполагаемым наследником престола Франции, предпринимать что-либо в этом направлении сейчас никак нельзя. Да, да. Если король умрет, не оставив сына (а его у него пока нет и, видимо, не предвидится), то этот ребенок Марии и один Бог знает чей станет королем Франции. Ежели ребенок умрет, а в обстоятельствах его смерти будет что-то необычное, найдутся многие, кто заподозрит короля. Буря, которая может подняться после этого, способна смести Людовика с трона. Значит, остается надеяться только на то, что ребенок родился слабым и болезненным, и в конце концов какой-нибудь фатальный недуг скосит его, словно сорную траву.
С улыбкой посмотрел король на герцога и герцогиню Орлеанских, стараясь придать своему облику злого коршуна как можно более благочестивый и доброжелательный вид.
– В судьбе маленького Людовика я намереваюсь принять самое горячее участие. Ваш сын – мой кузен и крестник. Я дал ему свое имя и собираюсь дать много больше. Я отдам ему свою дочь!
Он увидел, как супруги обменялись ликующими взглядами, и это ему не понравилось. Людовику захотелось сделать им больно. Не зная пока, как это сделать, он продолжил:
– Думаю, через несколько лет мы объявим об официальной помолвке. Я желаю, чтобы он как можно чаще бывал в моем доме, в Туре, чтобы он привык к моей семье. К тому же я хотел бы лично следить за его образованием.
Затем с непроницаемым видом он принял их горячую благодарность и быстро покинул опочивальню. Находиться там дольше Людовик не имел никакой возможности. Глядя на счастливые лица родителей, ему хотелось немедленно задушить их обоих.
Сразу же после его ухода Мария забралась в свою обширную постель под балдахином и принялась успокаивать дитя, которое все это время не переставало плакать. Ребенок протестовал против мира, в котором невинных младенцев забирают из теплой колыбельки и, прижав к жесткой мужской груди, несут к купели, где окунают в холодную воду.
– Ш-ш-ш, ш-ш-ш, – нежно шептала Мария.
Никогда еще она не была столь счастлива. Подлинное блаженство вот так переводить взгляд с ревущего младенца на супруга и обратно. Супруг в это время глядел в окно, обозревая свои родовые владения. Теперь они перейдут к сыну. А он-то боялся, что у него никогда уже не будет сына.
Карл стоял у окна, погруженный в воспоминания. После печально знаменитой битвы при Азенкуре[4]4
Битва при Азенкуре является одним из самых трагических событий в Столетней войне Франции с Англией. Главной причиной Столетней войны (она длилась с перерывами с 1337-го по 1453 год) была борьба за французские земли, захваченные Англией… Война шла с переменным успехом, однако после победы при Азенкуре в 1415 г. англичане захватили всю Северную Францию, включая Париж.
[Закрыть] он попал в плен к англичанам и провел там долгие двадцать пять лет. Боже, как жаждал он все эти годы хоть краешком глаза взглянуть на родные земли.
Двадцати лет от роду он встал во главе объединенной французской армии и повел ее к катастрофе. Мальчишка, чьи познания о войне ограничивались стихами, которые сам же и сочинял. Однако в армейских рядах царил дух самоуверенного оптимизма, несмотря на молодость и полное отсутствие опыта у полководца.
Воинам было достаточно того, что их ведет Карл, герцог Орлеанский, второе по значению лицо в государстве после короля и дофина. В сияющих доспехах, верхом на своем чудесном коне Карл с гордостью объезжал свое войско. О, как он ненавидел потом эту свою гордость и самодовольство! Но это уже после краха. А в ту ночь, ночь перед решающей битвой, его переполняло чувство уверенности. Он был уверен в том, что завтра, двадцать пятого октября 1415 года, как только наступит серый рассвет, здесь, на поле у Азенкура, он наголову разгромит войско короля Англии Генриха V, а вместе с тем раз и навсегда отпадут его смехотворные претензии на французский трон.
С ним бок о бок сражались все знатные бароны Франции, за исключением герцога Бургундского, который метался между французским королем и английским и в конце концов принял мудрое решение пересидеть дома и подождать, чем закончится битва.
Сражаться в первых рядах войска, где смерть настигает раньше, было привилегией самых именитых. Карл Орлеанский на своем неутомимом коне стоял во главе баронов. Справа находился Людовик де Бурбон, слева – коннетабль[5]5
Коннетабль – во Франции до XVII в. одно из высших должностных лиц, главнокомандующий армией.
[Закрыть] Франции д’Альбер, а сразу следом шли Аленсон, Невер, Даммартин, Савэ, Вендом и Брабан. И это только те немногие, кто его окружал в сей роковой день. Они балагурили и весело шутили по поводу несметного количества пленных, которых возьмут завтра утром, и о том, каким унижениям подвергнут Генриха Английского.
Де Бурбон с притворной строгостью ворчал:
– Да это же преступление! Преступно говорить так о славном короле Хэле[6]6
Хэл – уменьшительное от английского имени Генри (в русскоязычной исторической литературе Генрих).
[Закрыть]. Он всего-то пришел сюда, чтобы заявить свои законные права на трон. Вместо того чтобы раскрыть ему объятия, вы берете в руки оружие.
Последние слова потонули в хохоте. Савэ широко улыбнулся:
– Завтра он увидит, как мы его встретим!
Карл Орлеанский криво усмехнулся:
– Англичане – весьма талантливая нация. Надо уметь так глупо и упорно претендовать на Францию[7]7
К началу XIV и в XV веке Англия имела обширные владения во Франции, главным из которых была Аквитания. Французы боролись за возврат своих земель. В это тяжелое для Франции время королева Изабелла допустила просчет, выдав свою дочь за английского короля Генриха V (правил Англией с 1413-го по 1422 г.), который вскоре заявил свои претензии на французскую корону.
[Закрыть], пытаясь урвать для себя лакомый кусок, и при этом на столь серьезном уровне. Это, знаете ли, потрясающая черта – шутить, и чтоб было совсем не смешно.
– Скоро они загрустят от своих шуток, – резко бросил д’Альбер.
Всегдашняя способность Карла отрешаться от общепринятых представлений позволяла ему смотреть на вещи прямо, без предубеждения.
– Конечно, все верно. Но англичане привыкли делать любое дело хорошо и основательно. Претендуя на что-то, они никогда не допустят, чтобы даже самый маленький лучик иронии проник сквозь толщу фальшивой искренности, которую они обычно напускают на себя. И тем не менее я восхищаюсь их хладнокровием и…
Что же восхищает Карла в англичанах, поведать ему так и не дали. Друзья попросту отказались слушать. Со всех сторон посыпались шутки, голос Карла был заглушен смехом. Мнение было единодушным – если француз вдруг начал восхищаться англичанином, значит, это мертвый англичанин.
Как не терпелось им тогда броситься в атаку, хотя до рассвета оставалось еще около трех часов. О сне никто и не помышлял. Хотя бы просто прилечь на охапку скошенной травы, этого не было и в мыслях, ведь все они были слишком возбуждены, им хотелось петь или в крайнем случае просто покричать. Возможно, на исходе была их последняя ночь на бренной земле, и им не хотелось проводить ее во сне. К тому же не хотелось вылезать, а потом вновь облачаться в тяжелые доспехи.
Сверху начало понемногу моросить. Огромные сучья в кострах зашипели, вверх взметнулись черные столбы дыма. Сердито отплевываясь от дождя, взлетали высокие языки пламени, отражаясь в золотых и серебряных доспехах, высвечивая в ночи то там, то здесь яркие плащи и не менее яркие знамена. Священной французской орифламмы[8]8
Орифламма – в средневековой Франции штандарт, знамя королевства.
[Закрыть] среди них не было, она появится утром непосредственно перед атакой. Неустойчивое пламя быстро гасло, и тогда все погружалось во мрак: плащи, доспехи, которые в темноте приобретали темный, даже зловещий вид. Только глаза и лица французских солдат продолжали светиться своим особым внутренним светом, светом надежды и нетерпения. Солдаты уже видели изрядно потрепанную армию короля Генриха, оттесненную на север, к Кале, сейчас они стояли на ее пути к проливу, не давая возможности отплыть неприятелю в Дувр. Таким образом, французская армия находилась в своеобразных тисках между англичанами и Англией, и Генриху, захоти он добраться до дома, нужно было прокладывать себе дорогу через их укрепления.
Будь Карл Орлеанский и остальные его сподвижники чуть более опытными и осторожными, они бы продолжали оставаться на тех же позициях. И тогда малочисленная английская армия, отрезанная от источников снабжения и не имеющая возможности отступать, согласилась бы на самые унизительные условия мира. Генрих уже посылал парламентеров с предложением перемирия. Он обязывался, если ему и его армии позволят вернуться в Англию, возместить ущерб, который нанес французам в Нормандии. Но его посланцев просто выбросили из штабного шатра французской армии под улюлюканье и смех. Такой бесплодный мир Франции был не нужен. Полный отказ короля Хэла от своих идиотских притязаний на корону Франции – вот чего они хотели и не сомневались, что получат желаемое в пятницу после полудня 25 октября 1415 года. В рыцарских наставлениях и балладах о битвах ничего не говорилось об осмотрительности и осторожности. Французские бароны всегда преклонялись перед безрассудной отвагой в бою, а добиваться победы ценой каких-то осторожных маневров, об этом Карлу Орлеанскому и д’Альберу даже в голову не приходило.
Карл вглядывался вперед, перед ним простиралось поле, где в темноте притаились враги, он еще раз повторил про себя план утреннего сражения. И увидел себя во главе авангарда кавалерии. Они обойдут с флангов передовые ряды английской пехоты – кавалерии у тех вовсе не осталось. Всадники пройдут сквозь массу пеших воинов с легкостью, с какой меч рассекает оплавленную свечу, а затем атакуют их с тыла. И, прежде чем те сообразят в чем дело, прежде чем поймут, что, собственно, произошло, они будут полностью окружены. А когда восемь тысяч воинов – а именно столько насчитывает сейчас английская армия – окажутся в кольце сорока тысяч французов, победить их будет несложно.
Со стороны англичан не было слышно ни смеха, ни ликующих возгласов. Это было усталое войско, истосковавшееся по дому. Но войском этим руководил Генрих, руководил умно и умело. В походе с ним произошла метаморфоза – из распутного, легкомысленного принца он быстро и незаметно превратился в хладнокровного, строгого короля. Свою миссию, ниспосланную, как он считал, свыше, Генрих видел в том, чтобы покарать французов за их злодеяния. Он тоже всматривался вперед, туда, где находились враги, и видел яркие отблески костров в лагере французов, слышал их громкие крики, смех и пение. Генрих понимал, насколько французы уверены в победе. Он хорошо понимал также, сколько их противостоит ему. Но ему на руку были глупое безрассудство и юношеский задор предводителей французов. Те упорно лезли в драку, а надо бы методично осаждать англичан, и вскоре Генрих сам бы запросил пощады. Но они жаждут битвы, битвы в открытом поле. Хорошо, пусть грянет битва. У Генриха был свой план сражения, и план этот не имел ничего общего ни с рыцарством, ни с поэзией.
Забрезжил рассвет. Хмурый, серый, бессолнечный. Все небо затянули низкие тучи. Поля Азенкура поливал мелкий холодный назойливый дождь.
Посмотрели французские воины на хлябь, разверзшуюся перед ними, и неясная пока еще тревога в первый раз закралась в их сердца. Их предводители собрались вместе и о чем-то оживленно толковали. Невидимый и неслышимый призрак битвы при Креси[9]9
В крупном сражении Столетней войны при Креси в 1346 г. французы потерпели сокрушительное поражение от англичан.
[Закрыть] заметался по стану французов.
– Так уже было однажды. Вспомните, что случилось при Креси, – шептал он на ухо солдатам, и те внезапно содрогнулись от дурного предзнаменования.
А Генрих, наоборот, ожил. И этот дождь, ливший всю ночь напролет, и эта непроходимая грязь на полях – все было для него знаком свыше. Все вдохновляло его. Он выехал перед своим авангардом, куда поставил английских и шотландских лучников. Мысленно послав молитву Господу, он сделался на мгновение печальным, склонив долу свое красное лицо и ссутулив плечи. Но уже в следующее мгновение выпрямился и звенящим голосом, в котором для его воинов заключалась особая магия, прокричал:
– Именем Всемогущего Бога, знаменосцы Святого Георгия, вперед!
И сразу же в сочащееся влагой небо высоко взметнулись штандарты Святого Георгия. Лучники опустились на колени. Каждый взял щепоть грязи с поля и помазал ею губы в знак того, что все они пыль Господня, в пыль и уйдут, если падут на поле биты. Ничто в облике этих лучников не смогло бы тронуть восторженное сердце француза. Никакой романтики и поэзии не было в их грязных кожаных доспехах. Босые ноги облеплены грязью. Они сняли обувь, чтобы легче было держаться на ногах в этой непролазной грязи.
Карл Орлеанский, Бурбон, д’Альбер и остальные бароны – вся высшая знать Франции – опустили забрала и наклонили головы, чтобы стрелы, летящие к ним, словно хищные злые птицы, не смогли найти уязвимого места. Прежде чем отдать приказ к наступлению герцог Орлеанский с минуту помедлил, обозревая ряды англичан. С удивлением он обнаружил, что каждый лучник имеет острый длинный прут, на несколько футов выше его головы. Воткнув этот прут глубоко в грязь перед собой, лучник стоял за ним, будто хотел спрятаться за тонким деревцем без листьев. Поскольку такой прут был у каждого лучника, передовая линия англичан, что пересекала все огромное поле, напоминала длинный забор, сооруженный из острых кольев. Расстояние между кольями составляло около двух футов, и позади каждого стоял человек. Смешная защита от тяжелой кавалерии французов, не правда ли? Но ни Карл, ни Бурбон, вообще никто из них не засмеялся. Воистину дурной, зловещий знак.
А сырые острые колья поблескивали на тусклом солнце, а за каждым из них молча стоял человек и ждал, изготовив свой длинный лук.
Приподнявшись на стременах, Карл поднял высоко над головой копье и дрожащим от волнения голосом возгласил:
– Во имя Господа Бога, вперед, Франция!
И атака тяжелой кавалерии началась, как он и планировал.
Но оказалось, что кавалерийская атака в его планах и на поле Азенкура – две совершенно разные вещи. То, что в представлении Карла должно было со свистом нестись навстречу врагу, медленно и тяжело тащилось. Кони по колено увязали в густой жиже, и только боль от английских стрел заставляла их вообще двигаться куда-либо. А двигаться следовало вперед. И если это удавалось, то непосильная ноша была для них еще хуже вражеских стрел.
Французы медленно ползли вперед. Причем каждый думал не столько об атаке, сколько о том, чтобы не упасть. Ибо падать было нельзя. Вес великолепных, роскошных доспехов неумолимо тянул вниз. А там внизу человек захлебывался жидкой грязью. Падение означало смерть. Бесславную смерть.
Воинам, идущим следом, было легче передвигаться. И они шли, тесня передних, не подозревая об этом. У авангарда было два варианта: либо воины тонули в море жижи, либо, счастливо избежав этой подобной печальной участи, оказывались прижатыми к английскому «забору», где также погибали, ибо там было скользко, слишком скользко.
В передних рядах нельзя уже было различить, где кони, а где люди. Они падали вместе и порознь, делали отчаянные попытки подняться, но вырваться из черной пучины их не пускали доспехи. А через мгновение на них наступал следующий ряд людей и коней, и все повторялось вновь. Потери были бесчисленными, но огромная тяжелая французская машина все-таки двигалась вперед. И ряды англичан дрогнули, в «заборе» образовались бреши. Они отступили. Карл, – к счастью, он тогда еще был в седле, – с восторгом увидел, как знамя Святого Георгия оказалось в руках у Савэ. Тот немедленно швырнул его в грязь. Но следующий момент Карлу увидеть не довелось, когда Савэ упал с коня с дюжиной смертельных ран. Карл вообще ничего больше не видел, ибо конь его поскользнулся и тяжело повалился в грязь. Животное еще дергалось и било копытами, визжало от боли в раненом боку, но Карл не делал никаких попыток подняться, потому что тяжелые доспехи все равно не дали бы ему это сделать, но главным образом потому, что он был без сознания.
Битва длилась еще много часов, но ничего уже не видели голубые глаза двадцатилетнего полководца. Англичане действительно отошли назад, но это было не отступлением, а только стратегическим маневром, чтобы уйти от невероятного слепого нажима французов. Отступление это сослужило англичанам неоценимую пользу. Французская кавалерия в буквальном смысле сама себя погубила. Своих лучников французы поставили в тыл, ибо негоже представителям низших сословий идти в первых рядах войска. Поэтому стрелять они могли только в спины своих баронов, которые по праву шли впереди. И тут англичане, босые, в легких кожаных доспехах, внезапно появились из леса, окружавшего со всех сторон поле, и начали крушить английских воинов, одетых в неуклюжие стальные латы. Этот маневр вскоре решил исход сражения. При этом каждый четвертый из воинов, которые еще совсем недавно были так веселы и беспечны, так уверены в скорой и легкой победе, остался лежать мертвым на этом поле. Десять тысяч жаждущих сражения, непобедимых молодых людей тихо лежали на поле Азенкура. Ни тебе победы, ни славы – только тишина. И в этой тишине медленно обходили павших и раненых англичане в поисках дорогого оружия и драгоценностей. Выискивали они также и знатных пленников. Когда они подошли к Карлу Орлеанскому, тот был еще жив.
Вместе с Бурбоном, Вендомом и несколькими другими, избежавшими смерти, его на повозке доставили в Кале. Они предпочли бы лучше умереть, чем быть узниками Генриха и постоянно выслушивать его бесконечные проповеди и морали.
Со всеми почестями их усадили за пиршественный стол короля Генриха, однако глаз не спускали. Пленники старательно перемешивали еду в своих тарелках, набросав туда кусочки хлеба и сделав вид, что полностью поглощены этим занятием. Головы они поднимали редко, только тогда, когда замечание короля или какой-либо его вопрос относился лично к ним. В их сознании рядом с ноющей болью, вызванной позором и унижением, вертелась только одна мысль – как скоро смогут их выкупить из плена? Английский король не торопился обсуждать этот вопрос, но заверил, что пребывание в гостях в такой стране, как Англия, весьма полезно. Он даже пошел дальше и, кажется, ожидал от них что-то вроде благодарности за то, что увозит их из жестокой Франции.
Философский склад ума не позволил Карлу поддаться всеобщему унынию. Он делал вид, что сосредоточен на еде, а сам исподтишка наблюдал за королем. Это было довольно забавное зрелище. Умные пытливые глаза никак не вязались с полными чувственными губами, причем эти губы непрерывно изрекали благочестивые сентенции. Король наслаждался и не скрывал этого. Карл улыбнулся про себя, подумав, что в такой обстановке немудрено получать удовольствие, когда твои враги повержены и вынуждены выслушивать все, что ты им ни скажешь.
– Воздержание, – говорил король с набитым ртом, едва шевеля языком, – умеренность, эти понятия вам, французам, неведомы. Вы предаетесь разврату и пьяному разгулу даже в святые дни. Неудивительно, что Господь отвернулся от вас.
Он оглянулся вокруг в ожидании аплодисментов и получил их, увидев, как согласно закивали головами его епископы.
«Какая прелесть, – подумал Карл, глядя на короля и стараясь не выдать иронии во взгляде, – неужели он забыл, как совсем недавно, будучи принцем Хэлом, пьяный обходил одну таверну за другой, инкогнито, но каждому желающему с готовностью прямо в ухо орал, кто он такой».
* * *
Карл оглядел стол и увидел, что об этих похождениях нынешнего монарха помнит каждый из присутствующих, кроме, пожалуй, самого короля. Поглядев на хмурое, презрительно надутое лицо Бурбона, Карл снова про себя улыбнулся.
– Но только не в святые дни, – пробормотал он себе под нос и заметил испуганно-удивленные взгляды, которые устремили на него несколько придворных Генриха.
Их держали в Кале еще несколько недель. За это время им пришлось выслушать немало проповедей короля, и только в середине ноября Карл и другие знатные пленники были погружены на флагманский королевский фрегат, который и отбыл в Дувр.
«Это просто сон, кошмарный сон, – думал Карл, наблюдая, как исчезает за горизонтом французский берег. – Конечно, это сон. Скоро наступит утро, и я проснусь в своем доме в Блуа рядом с Бонн, моей молодой женой». Он вспомнил ее чарующую красоту, ее прелести, и тоска железной рукой сдавила сердце. Боже, в каком Раю он жил. Ведь это был Рай, подлинный Рай, где он мог предаваться беззаботной, абсолютно счастливой жизни с красавицей женой, там у него были поэзия, свои книги, свои земли и замки, дающие ему все необходимое».








