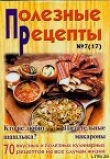Текст книги "Рецепты идеального брака"
Автор книги: Мораг Прунти
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 18 страниц)
Глава восьмая
Джеймсу и мне нравилась одиннадцатичасовая воскресная служба в местной церкви в Килкелли, которая была к нам ближе, чем приходская церковь Охамора. И главное, чтобы дойти до нее, не нужно было пересекать поля. По этой причине церковные собрания становились чем-то вроде парада мод, привлекая тех, кто любит поспать, и публику менее серьезную, чем угрюмый фермерский люд деревенской церкви. Были бедняки, которые приходили в церковь босиком, а обувь надевали прямо перед ступеньками церкви, и были менее бедные, кто приходил или приезжал на велосипеде полностью обутым. По мере того как мы взрослели, казалось, разница между бедными и менее бедными не очень увеличивалась, и, выйдя замуж за Джеймса Нолана, я примкнула к рядам последних. Я уже считала себя стоящей на несколько более высокой ступеньке социальной лестницы благодаря своей связи с тетей Анной и, будучи молодой и глупой, была способна извлекать из этого определенную пользу.
В тот первый год я ненавидела Джеймса Нолана. Из-за того, как он вел себя на людях, как будто он – ровня всем остальным, я считала его надменным. Я чувствовала, что знаю свое место, и я помню, как он представил меня доктору и его жене и как меня вывело из себя то, что он считает меня подходящей компанией для таких важных людей. Леди пригласила меня на чай, и меня еще больше рассердило то, что им обоим, похоже, нравился Джеймс. Я ответила, что у меня нет времени для таких приятностей, потому что мой муж задает мне слишком много работы. Я видела, что она поражена моей дерзостью, но Джеймс засмеялся над моей попыткой смутить его, как будто я была самой умной женщиной из всех, кто находился поблизости.
Он всегда как будто хвастался мной. Что бы я ни делала или ни говорила, казалось, ничто не могло оттолкнуть его от меня. Если я надевала кричащий костюм в церковь, Джеймс говорил, что я выгляжу «превосходно». Когда я говорила грубости, он считал, что я шучу. Куда бы мы ни пошли, он притягивал к себе людей как магнит, и первое, что он делал, это представлял меня как сбою жену, и его лицо при этом сияло от гордости, будто он говорил: «Посмотрите, что у меня есть!»
Хотя мы оба знали, что я ему не принадлежу. Никоим образом.
Церковь в Килкелли была довольно просторной, с длинным проходом. У нас с Джеймсом были места во втором ряду прямо возле кафедры, где, как и ожидалось, должен сидеть учитель местной школы. Джеймс мягко клал руку мне на талию, пропуская меня перед собой в церковь каждое воскресенье. И в течение всего первого года нашего брака это было единственное его прикосновение ко мне.
С первой нашей совместной ночи я ясно дала Джеймсу Нолану понять, что, если он хочет предъявить свои супружеские права на меня, ему придется их добиваться. Я бы не оттолкнула его, мое тело было его собственностью, и было богопротивно отказывать ему. Но Джеймс знал о моих чувствах к нему. Хотя я никогда этого не высказывала, мое неприятие его присутствовало в доме повсюду. Я убедилась, что была образцовой женой во всем, что касалось публичной жизни. В шесть утра я уже была на ногах. Куры накормлены, огонь разведен, вода для умывания и бритья подогрета и дожидается, когда Джеймс встанет в восемь. Он ел горячую кашу со сливками, а в час дня каждый день на столе было мясо с двумя видами овощей. К чаю всегда был выбор пирога, кекса или хлеба с джемом. Его рубашки были накрахмалены и отутюжены, и каждый предмет одежды, начиная от носков и заканчивая его мягкой фетровой шляпой, штопался и отпаривался до тех пор, пока не начинал выглядеть лучше, чем в день покупки. Дом был настолько чистым, что гость мог почувствовать себя неловко, ставя ботинок на мой сияющий пол или вешая грязное пальто на спинку одного из моих стульев. Я была настолько скрупулезна в ведении домашнего хозяйства, что даже частички золы возле каминной решетки выстраивались в стройную пирамиду в страхе передо мной.
Я знала, что если буду много работать, то никто, даже Бог, не усомнится в том, что я чту и уважаю своего мужа. Только Джеймс и я знали, что ему не нужны ни мое почтительное отношение, ни уважение.
Ему была нужна моя любовь. Я же еле сдерживала злобу, потому что во мне не было той любви, которой он желал. Я уже отдала ее другому.
Только когда ночью закрывалась дверь нашей спальни, всплывала правда о нашем договоре, в котором не было любви. Джеймс продолжал спать рядом с кроватью на лежанке, которую я соорудила ему в нашу брачную ночь. Я помню, как дрожала от страха в чужой постели в первую ночь, боясь, что мужчина, с которым я едва знакома, внезапно в темноте накинется на меня. Часы шли, и я уже почти хотела, чтобы он это сделал, и все было бы кончено, и ужасное ожидание завершилось.
Только утром я поняла, что Джеймс тихо выскользнул из спальни через час после того, как лег, и провел ночь на кухне, читая. Я была чуть ли не более взбешена, чем если бы все было иначе, потому что я уже знала о жестокости брака. Я почувствовала себя обманутой в ожидании варварского вторжения, когда мой викинг-завоеватель вместо того, чтобы нападать на меня, пристроил на носу очки для чтения «Ежегодного Капуцина». Этого я не поняла.
В течение первого года Джеймс часто читал по ночам. Он никогда не просил, не предлагал, не льстил мне и не совершал никаких попыток домогаться меня, кроме того, что часто говорил мне, что я – красивая. Я совсем не была благодарна своему мужу за то, как он усмиряет свои страсти; я в своем невежестве считала его слабым. Сейчас я думаю, что если бы в тот первый год Джеймс взялся за меня более твердой рукой, наш брак был бы более гармоничным.
Но, когда мы внезапно становимся святыми, желая отдать свое сердце, мы узнаем, что наша жертва больше не нужна.
Вопреки всем ожиданиям, в тот год мне очень помогла мать Джеймса, Элли, которая с самого начала настояла, чтобы я звала ее христианским именем. Рано овдовевшая, она вырастила семерых детей. Элли учила старших, пока они не стали помогать ей с младшими. Она была находчивой, необычной женщиной. Отказавшись принимать милостыню от соседей, она пристроила детей к нескольким родственникам на фермы, пока сама провела несколько летних сезонов на работах в Англии бок о бок с нашими мужчинами. Тот факт, что вместо скандалов с соседями это ее решение принесло ей уважение, вполне дает представление о ней как о человеке. Элли Нолан не была фанатичной католичкой. Она была трудолюбивой, щедрой женщиной, которой было все равно, что скажут о ней люди. И, к чести нашего сообщества, о ней хорошо отзывались. Ни о чем этом я не знала и не думала, когда оказалась живущей рядом с матерью-инвалидом моего нового мужа. Все, что я знала, это то, что, к моему удивлению, она мне понравилась и что она была добра ко мне, хотя уж точно не должна была.
Скоро наш быт наладился. После того как Джеймс открывал школу в девять утра, я с завтраком Элли на подносе пересекала короткое поле. Готовить для нее мне было приятнее, чем для ее сына. Я находила похвалы Джеймса фальшивыми, думала, что он так говорит только из-за напряженной ситуации, царившей в нашем доме. Похвала Элли всегда была искренней, хотя у нее и не было причин высказывать ее. Она признавала, что плохо готовит, и приходила в восторг от моих оладий боксти, выспрашивала точный рецепт, а потом смеялась над своей идеей когда-либо приготовить их самостоятельно. Элли могла позволить себе смеяться над собой, и поэтому ее было так легко полюбить. Хозяйство в ее доме велось как придется, и, когда я начинала суетиться с уборкой, она звала меня, чтобы я села и почитала ей. Читать в одиннадцать утра, когда было полно работы, казалось мне странной идеей, но Элли настаивала, что нужно питать ум, как и тело.
Ее любимым стихотворением было «Женщина у озера» сэра Вальтера Скотта. В Элли по-прежнему было много огня, и ей нравилось описание кровавой битвы на Шотландских холмах. Она вместе со мной повторяла каждую строчку:
Пусть английские стрелы летели, как дождь,
Кресты, розы и снова розы,
Разили дико и без разбора.
Когда я доходила до женщин, оплакивающих своих погибших любимых, и мой голос начинал дрожать в каком-то великом признании в любви, я всегда чувствовала, что Элли знала: я думаю о Майкле. Она, конечно, была в курсе того, у меня был роман с янки. Но мне всегда казалось, будто Элли знала больше: что я не люблю ее сына, хотя перед полуднем я срывалась с места и бросалась домой, чтобы приготовить ему обед.
Я верила, что Элли любила Джеймса преданной страстной любовью, которую каждая мать испытывает к своим сыновьям. В любом случае мы с ней подружились. Она появилась в моей жизни недавно, но уже оказывала на меня огромное влияние. Возможно, потому что она дала мне почувствовать, что я была не такой плохой женой, какой притворялась. Возможно, ее безусловное одобрение сделало меня менее жестокой к Джеймсу, чем я могла бы быть. Хотя я по-прежнему была невнимательной с ним. Может быть, таким образом Элли просила меня быть хорошей женой ее сыну после того, как ее не станет. Просьба, высказанная в лоб, разумеется, не сработала бы. А может быть, я просто нравилась Элли, и она была рада, что мы стали родственницами. Я не знаю и никогда не узнаю.
Но вот во что я верю: у Элли Нолан было больше мудрости, чем я приобрела за все время своего замужества. Рано потеряв мужа, она поняла, как мало мы ценим настоящую любовь, когда она рядом с нами. Поэтические литературные страсти всего лишь вымысел. А правда любви, то, как она ускользает, когда ты пытаешься заполучить ее, то, как она разъедает твое нутро, когда ты понимаешь, что потерял ее, – эта правда намного глубже, чем романтические девичьи мечты. После смерти мужа Элли из последних сил боролась в одиночку, чтобы накормить, одеть и выучить своих семерых детей. Она понимала, что поэзия и страсть хороши для чтения перед камином. Но женщина, которая умела хорошо готовить и убирать в доме, была неплохим началом для ее работающего сына.
Элли знала, что любовь, сильная в начале, часто ослабевает в конце, сдается еще до конца гонки. Порой до финиша доходит тот, кто медленнее всех стартовал.
Но этому уроку ничто, кроме времени, не может научить.
Глава девятая
– Это, – говорит Дэн, когда мы подъезжаем к небольшому продуктовому магазину, – МакЛин авеню.
Он говорит это так, будто мы наконец достигли цели. Не в Йонкерсе, а в «жизни». МакЛин авеню – это место, где вы можете купить воскресный выпуск «Ирландской независимой газеты» и хрустящие хлопья «Танго», насладиться чашкой чая «Бэррис» с импортными колбасками и беконом или напиться ирландского пива в ирландском баре с людьми, которые тоже хотели бы быть ирландцами – вроде Дэна, и с некоторыми, кто претендует на то, что действительно является ирландцем, вроде меня.
На самом деле, Дэнов «пунктик» на все «ирландское» просто сводит меня с ума. Это единственное, что есть у нас действительно общего, но наше понимание того, что значит быть ирландцем, в корне разнится. Хоть я и не родилась в Ирландии, я провела там большую часть своего детства и студенческие годы. Для меня Ирландия – это мрачные коричневые болота, окрашиваемые переменчивым солнцем в тысячи оттенков пурпурного и золотого. Это горький запах горящего в сырой день торфа и пирог с ревенем моей бабушки. Это Джойс, Йитс, Бехан, Патрик Кавана – сложное творческое наследие, слишком обширное, чтобы пытаться его объяснить.
Для Дэна? Это зеленое пиво и резиновый пирог из магазина.
Я это знаю, потому что Дэн возвращается из магазина с пакетом молока и целлофановой упаковкой, содержимое которой считается «Настоящим традиционным ирландским пирогом на дрожжевой закваске», испеченным женщиной по имени Китти. Дата употребления – следующая осень, а состав – список химикатов.
– Это гадость, – говорю я, а Дэн выглядит обиженным. Как будто я говорила не только о пироге. Атмосфера между нами накаляется. Он знает, что делает что-то не так, но боится спросить меня, что именно. Затем в игру вступает вина, арбитр моей честности. Как только доходит до правды, вина всегда вступает в игру, чтобы создать дымовую завесу.
– Детка, – говорю я Дэну, – я испеку тебе пирог вкуснее, чем этот. Настоящий ирландский пирог на пивной закваске.
Он наклоняется и целует меня несмотря на то, что он за рулем. А я удивляюсь тому, как легко я могу превращаться в Дорис Дэй. Но больше всего меня поражает то, что я вышла замуж за человека, который мне при этом верит.
По мере следования по нашему запутанному пути дома становятся все более фешенебельными. Кажется, будто индивидуальность можно купить за деньги, и чем выше мы продвигаемся по склону, тем более интересными становятся дома. Мой цинизм по отношению к Йонкерсу временно умолкает при виде трехэтажного здания из красного кирпича с красивыми коваными решетками на балконах Дэн останавливает машину и говорит:
– Приехали.
Я ошеломлена.
– Здесь?
– Это он, детка.
– Этот? Из красного кирпича?
– Тебе нравится?
И Дэн делает то, что я не могу выносить. Он переполнен мальчишечьим энтузиазмом. Он смотрит на меня в ожидании одобрения, похвалы В ожидании фразы «я тебя люблю».
– С виду красивый.
На самом деле я уже люблю этот дом. Но я не могу этого сказать. Дэн купил этот дом десять лет назад для вложения денег. Однако не только для этого – он надеялся, что однажды встретит подходящую женщину, и у него будет подходящий дом, куда ее можно будет привести. Если я скажу этому дому «да», я скажу «да» гораздо большему. Глупо говорить, что я не готова переезжать в дом Дэна, когда я уже согласилась быть с ним до конца жизни. Но до тех пор, пока у каждого из нас есть отдельное жилье и соглашение о временном совместном проживании, у меня есть запасной выход.
В доме на Лонгвилль авеню такой двери нет. Там внутри солнечные лучи, старые дубовые полы, подвал, полный старой мебели, требующей полировки, новой обивки, возвращения к жизни. А в коридоре томятся настоящая ванна из литого железа и кухонный шкаф с эмалевой столешницей и разбитыми петлями. В доме дюжина комнат, ждущих, когда их распределят по ролям: детской, кухни, гостиной, спальни.
Прямо позади меня топчется Дэн, шаркая и надеясь.
Вот он начинает:
– Здесь, правда, беспорядок, но…
Он хочет, чтобы я закончила его предложение. Чтобы я сказала ему, что вижу то же, что и он: да, с его руками и моими глазами этот дом можно превратить в прекрасный семейный очаг. Я понимаю его мечту, и я хочу разделить ее. Только не с ним. Поблекшая цветная занавеска за задней дверью колышется от ветра, и тоска моей тайны переливается через край моей души. Вместо ответа я иду к задней двери, открываю ее со скрипом и вхожу в сад. Он в запустении.
Я иду по каменной, кажущейся бесконечной, дорожке, но, дойдя до зарослей плюща и распускающихся клематисов, я понимаю, что пришла к стене. Слева растет свежая, зеленая яснотка, из которой – я делаю мысленную запись – получится прекрасный суп. Справа от себя я вижу каменного херувима, смотрящего на меня из зарослей сорняков. Когда я отодвигаю их в стороны, заросшая мхом статуэтка падает. Я наклоняюсь, чтобы поднять ее, и вижу, что она упала на ковер из широких оборчатых листьев, закрывающих узкие красные стебли.
Это был дикорастущий ревень…
Глава десятая
Элли умерла через год после нашей свадьбы.
Джеймс устроил небольшой праздник по поводу нашей годовщины и подарил мне брошь в виде ласточки. Я вежливо его поблагодарила, но брошь не надела, а положила на трюмо. Готовя завтрак для Элли, я все размышляла о новой блестящей безделушке. Если я надену брошь, Джеймс подумает, что я сделала это в знак любви. Если я никогда больше ее не достану, Джеймс, возможно, впредь не станет делать мне подарки. Я нашла компромисс. Я надену брошь для Элли и похвастаюсь тем, что ее сын мне подарил. Элли порадует, что Джеймс сделал меня счастливой.
Мне потребовался год для того, чтобы принести в жертву чьему-то счастью маленькую частичку гордости, но было уже слишком поздно.
Когда я ее нашла, Элли лежала на спине. На коленях у нее были четки. Она мирно умерла во сне. Должно быть, она знала, что умрет. В этом не было ничего удивительного, поскольку мне казалось, что Элли знает все.
Я час проплакала над ее холодным телом перед тем, как позвала мужа. Слезы лживы. Когда мы громко кого-то оплакиваем, мы делаем это для самих себя, слишком уж легко мы осознаем горечь утраты. Я любила эту старую женщину, но я позволила ее телу остыть, пока была занята созерцанием собственных несчастий. Элли отвлекала меня, а теперь мы с Джеймсом остались одни. Что мне было теперь делать?
Судя по моему опыту, честность редко бывает актом доброты, чаще она является жестокой, эгоистичной потребностью очиститься, прикрываемой моралью.
Я зарылась лицом в Эллино серое шерстяное одеяло, вцепилась в ее твердые, сжатые пальцы и заплакала над всеми своими горестями. Я сказала ей, что не люблю ее сына, но обещаю, что никогда его не оставлю. И хотя я это сказала, я знала, что до настоящего момента я никогда не пыталась полюбить его, я только старалась содержать его и дом в чистоте и порядке.
Наплакавшись, я пошла в школу и сказала Джеймсу, что его мать умерла. Он воспринял это стоически и не закрывал школу до обеда Элли была стара, и поскольку Джеймс покидал школу с каменным лицом, соседи догадались, что произошло. Похороны начались практически без нашего участия.
Бдение продолжалась три дня и две ночи. Элли положили в кухне, как было заведено. Это были первые похороны, в которых мне довелось принимать непосредственное участие. Соседи купили лучшую посуду и принесли сдобные лепешки, бутерброды, пироги, бекон и кур. Было ясно, что они хотели сказать: они знали и любили Элли всю ее жизнь, а я вмешалась в чужие дела. В течение этих нескольких дней дом принадлежал им, и они приходили и уходили, когда им вздумается. Толпа друзей и незнакомцев, пришедших принести свои соболезнования, приговорила невообразимое количество еды и десять полных бутылок виски. Джеймс всех их приветствовал, как будто они были так же близки Элли, как и он сам. Он предлагал им еду и напитки, как будто они заслуживали утешения так же, как и он.
Я оставалась с ним, и мы вместе принимали слова соболезнований до тех пор, пока могли держаться на ногах. Впервые за все время нашего брака я могла сказать, что мы делали что-то вместе. Я уважала Элли, и в эти несколько дней я восхищалась тем, как Джеймс держался и щедро принимал гостей.
На похороны я надела подходящее черное пальто и маленькую шерстяную шляпку, которую мне когда-то подарила Элли. Я приколола на лацкан брошь, что подарил мне Джеймс. Она была неуместно нарядной, но мне было все равно. Джеймсу тоже было все равно, а я знала, что Элли понравился бы этот маленький бунт. Когда священник дошел до последних молитв отпевания, закапал дождь. Во время службы я взяла Джеймса под руку, чтобы люди видели, что я его поддерживаю. Когда на крышку гроба посыпалась глина, я почувствовала, как Джеймс потянулся ко мне, и я не отодвинулась, а позволила ему держаться за меня. Его пальцы были такими же холодными и сухими, как у его матери за два дня до этого.
Мы приехали домой, мы снова были одни, как в первую брачную ночь, только наша усталость из-за недосыпа еще больше подчеркивала наше одиночество. Джеймс находился в растерянности, осиротевший взрослый, не верящий своему горю. Мать рисует для своего ребенка карту, в центре которой находится она сама. Ее смерть стирает эту карту. Мама оставляет тебя, и ты понимаешь, что должен заново нарисовать карту для себя, чтобы выжить, но не знаешь, с чего начать.
Джеймсу остались только чистый лист бумаги да молодая лживая жена, которая не любила его так, как он хотел. Я это знала, но моя жалость и чувство долга по отношению к нему, тем не менее, только усилили мою озабоченность собственными проблемами.
Когда мы вернулись домой, наш дом показался нам чужим, как будто мы отсутствовали не три дня, а несколько месяцев. Это самая грязная шутка смерти: то, как она играет со временем, когда кажется, будто похороны длятся вечность, а когда они заканчиваются, ты снова оказываешься наедине с первым потрясением, как будто похорон вовсе не было.
Я спросила Джеймса, не хочет ли он поесть, и он отказался. Хотя было еще только четыре часа вечера, я пошла в спальню, задернула занавески и легла в постель. Мои веки были налиты свинцом, но, когда я уже начала погружаться в фиолетовую темноту сна, я внезапно почувствовала что-то за своей спиной. Я машинально вскочила и закричала от страха. Мой голос прозвучал настолько громко, что я едва его узнала, и это напугало меня еще больше.
Джеймс забрался в кровать рядом со мной. Я увидела, что его руки и плечи обнажены, а это, как я поняла, означало то, что он – голый. Я не знала, смеяться мне или плакать, но я не боялась. В комнате было светло, и он смотрел на меня.
Я попыталась извиниться и объяснить, почему я закричала.
Его глаза были прикованы к моему лицу. Не надеясь найти во мне любовь, зная, что это слишком много, он искал во мне хоть какой-то намек на чувство. Доказательство того, что в браке со мной могло быть какое-то утешение. После года нашей совместной жизни не приходилось ждать многого. Хотя бы чуточку тепла, чтобы спрятаться в нем, немного силы духа, которая поддержала бы его, немного уверенности, что подпитала бы его. Джеймс ничего не нашел, и тогда я поняла, что он действительно видит мое отвращение к нему.
В этот момент я осознала глубину его горя. Его лицо сжалось, и он от меня отвернулся. Наша постель стала лодкой, качаемой волнами его горя, которая вздрагивала в такт его всхлипываниям. Должно быть, при виде этих нетерпеливых, полных жалости к себе слез, которые мне самой были так знакомы, я дрогнула. Горе Джеймса было оправданным. Он был обнаженным, отвергнутым мужчиной, настолько раздавленным своим горем, что физически был не способен подняться и уйти от меня.
Я боялась не того, что может сделать Джеймс, этого, чего не могла сделать я сама. Боялась собственной холодности и бессердечности. Я так боялась этого, что я попыталась.
Я протянула руку и прикоснулась к его макушке. Его волосы были жесткими, и меня это удивило. Я часто на них смотрела и гадала, какие они на ощупь, но никогда не прикасалась к ним. Я ожидала, что его тело застынет, как будто малейшего невинного прикосновения с моей стороны будет довольно, чтобы подавить бурю страсти. Я была разочарована, когда Джеймс не перестал плакать. Больше того, я хотела, чтобы он перестал. Я не чувствовала в себе сил быть свидетельницей такой боли. Поэтому я перегнулась через него и неуклюже поцеловала его в мокрую щеку.
Он вдруг повернулся и жадно поцеловал меня в губы. Я почувствовала себя преданной, как будто он слезами о своей мертвой матери выманил у меня любовь. Я знала, что это было не так, но чувство было именно такое.
Когда ты молод, чувства – твоя правда, любовь – это то, что ты чувствуешь. Годы научили меня, что любовь – это не эмоции, которые ты испытываешь к кому-то, а то, что ты для него делаешь, то, как ты растешь вместе с ним.
В ту ночь я отдала Джеймсу свое тело. Я не отдала чувство или страсть, которую испытывала к Майклу Таффи. Хотя сейчас я предпочитаю этого не помнить, возможно, я отдалась Джеймсу не совсем по доброй воле. Но отдалась.
В течение последующих лет я никогда не говорила мужу, что тогда чувствовала к нему только жалость. Это была суровая правда, и я знала, что это сильно ранило бы его, поэтому я оставила это при себе. Я пошла на компромисс со своей правдой.
Хотя правда не всегда такова, какой кажется. Много лет спустя Джеймс рассказал мне, что имя, которое я произнесла в ту ночь, испугавшись во сне, было его именем.