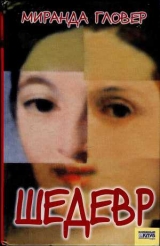
Текст книги "Шедевр"
Автор книги: Миранда Гловер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 22 страниц)
Я подошла и стала у Эйдана за спиной.
– Что ты о ней думаешь? – спросила я.
– Просто неотразима, – восхищенно прошептал он. – Выглядит очень эротично и подразумевает некий скрытый смысл. – Эйдан повернулся ко мне. Он выглядел спокойным, даже счастливым. – И ее платье идеально подходит для твоего проекта.
Я уже решила, что буду с удовольствием представлять Мари де Сенонн на аукционе. Что еще может служить лучшей одеждой для женщины, выставляющей себя на продажу, чем платье из красного бархата?
– Как все прошло сегодня? – поинтересовался Эйдан.
– О, прекрасно, – ответила я, уже забыв о представлении, – но сейчас я умираю от голода. По дороге домой я купила суши. – Я подошла к дивану, на который перед этим бросила рисунки и сумки. – Будешь?
Эйдан вновь сосредоточил свое внимание на картинах.
– Я уже ел, – рассеянно сказал он.
– С кем?
– Э… с Жаклин Квинет, – ответил Эйдан, стараясь говорить самым обычным тоном. – Она хотела обсудить детали предстоящей продажи.
Я не ответила. Вместо этого я плюхнулась на диван и открыла коробку с едой. Я накалывала колечки семги на кончик палочки, отправляла в рот и глотала с жадностью дикаря. Эйдан интересуется ею, это очевидно.
– Знаешь, ты очень понравилась Жаклин, – наконец произнес он. Эйдан правильно понял мое молчание и намеревался развеять мои опасения. – Она считает, что тебя ждет ошеломляющий успех. К ней уже поступило несколько запросов – два из Китая, парочка из Нью-Йорка. А я сегодня беседовал с Грегом Вейцем. Он говорит, что у него есть пара коллекционеров, обдумывающих назначенную сумму.
Грег был старым другом Эйдана и жил в Манхэттене. На самом деле Эйдану все еще принадлежит меньшая часть галереи Грега Вейца в северно-восточной части Нью-Йорка. Они немного сотрудничали, работая на меня, и Эйдану хотелось раскрутить мое имя за океаном. Но сейчас я была сосредоточена лишь на наших личных отношениях.
– Где вы сидели? – спросила я, даже не пытаясь скрыть раздражение.
– Что? – Эйдан резко повернулся и посмотрел на меня; его глаза удивленно расширились.
– Ты и Жаклин, где вы ужинали?
– Господи, Эстер, разве это имеет значение?
– Не имеет, – холодно ответила я. – Я просто поинтересовалась.
Поджав губы, он взял свою сумку и принялся там рыться. Для него была характерна нелюбовь к разоблачениям. Эйдан терпеть не мог, когда его пытались вывести на чистую воду. Он всегда уклонялся от прямых ответов, если я проявляла то, что Эйдан называл «легким неврозом»; он говорил, что я должна научиться принимать жизнь такой, как она есть, а не ждать прямых исчерпывающих ответов. Эйдан был прав, но, как правило, белые пятна, на которые он ссылался, существовали в моих отношениях с прессой, друзьями и критиками. До недавнего времени наши с Эйданом отношения были устойчивыми, хотя и тайными в течение долгих лет. На раннем этапе мы несколько раз охладевали друг к другу и у нас обоих были романы на стороне, но мы всегда честно рассказывали об этом. Таким способом нам удавалось избежать растущей запутанности отношений, которая никому не нужна. За последние три года наша связь стала особенно прочной. По крайней мере, насколько я знаю. Появление на сцене соперницы лишь усилило мои переживания по поводу того, что мы с Эйданом отдаляемся друг от друга.
– Жаклин передала кое-что для тебя, – сказал он, наполняя воздух беспечностью словно дешевым одеколоном и бросая мне маленькую черную книгу в бумажной обложке. Затем положил руки на бедра, ожидая ответа.
– Мне нужно в душ, – произнесла я и безо всякого интереса швырнула книгу на стол, даже не взглянув на обложку, – смыть эти отвратительные татуировки.
Когда я вернулась полчаса спустя, Эйдан лежал на моем розовом диване и читал книжку. Он взглянул на меня и, улыбнувшись, попробовал снова:
– У тебя все хорошо, Эстер? – его голос звучал ласково. – Ты, кажется, чем-то расстроена.
Моясь в душе, я решила больше не возвращаться к нашему разговору. Это лишь все испортит.
– Думаю, я просто слишком занята. Все дело в моем проекте. Мне нужно побыть наедине со своими мыслями. – Я села на пол перед Эйданом, и он принялся массировать мне плечи.
Я почувствовала, что постепенно расслабляюсь. Однако после истории с Жаклин, да и вообще всего, что сегодня произошло, я намеревалась спать одна.
– Представление меня вымотало, – соврала я через пару минут. – Мне нужно поспать.
К моему изумлению, Эйдан не стал возражать. Мы поднялись, и я смотрела, как он надевает свою куртку из грубой хлопчатобумажной ткани, нежно целует меня в щеку и, не торопясь, уходит.
Я легла спать, закрыла глаза, и мне снова приснился конец того лета, за которое я только что заплатила двадцать пять тысяч фунтов.
11
– Мисс Гласс?
Я посмотрела поверх «Вога» на регистратора.
– Смотровой кабинет номер четыре. Сюда, пожалуйста.
Я встала и не смогла сдержаться, чтобы украдкой не взглянуть на остальных посетительниц: пять или шесть женщин, прячущих свои лица и свой позор за потрепанными журналами. Их сердца, конечно, как и мое, гулко стучали, пытаясь выскочить из груди. Одна из них позволила себе поднять глаза и на долю секунды встретиться со мной взглядом, но затем снова погрузилась в относительную безопасность кулинарного отдела или рубрики ответов на личные вопросы. Но просить совета было слишком поздно – равно как и читать гороскоп. К тому времени, как вы окажетесь на одном из этих обтянутых синим нейлоном стульев, беда уже случилась.
– Так оно и есть. Можете одеваться.
Мистер Ничоллз повернулся ко мне спиной. Я услышала шлепающий звук, когда он начал стаскивать резиновые перчатки поочередно с каждого пальца своих пухлых рук. Глядя на свое румяное отражение в зеркале, он нажал левой ногой на педаль мусорного ведра и механическим жестом выкинул перчатки. Крышка захлопнулась с металлическим звоном, который пронесся эхом в полной тишине кабинета. Для мистера Ничоллза это была обыкновенная процедура, к которой он привык за много лет практики.
Я встала с гинекологического кресла, испытывая легкое головокружение, затем дотянулась до своих лимонно-желтых трусиков и стала их натягивать.
– Подойдете, когда будете готовы, – безразличным голосом сказал он, не оборачиваясь, и скрылся за шторой.
– Хорошо. Теперь вам все ясно насчет процедуры, Эстер?
Я заполнила документы, расписалась в том, что отказываюсь от зародыша, и протянула бумаги медсестре, которая сидела за столом в углу. Она была молода, не намного старше меня, подумала я. Какая странная работа для семнадцатилетней девушки. Как можно проснуться утром и подумать: «Да, абортная клиника на Харли-стрит – это моя жизнь»?
Она была очень хорошенькая, похожа на куклу Барби, – стройная блондинка с накрашенными розовыми губками, одетая в белый халат и чулки телесного цвета. Я никогда не носила бежевые чулки и форму. Самое большее, чего от меня могли добиться в школе, – это светло-голубая футболка и сине-зеленая юбка. Моя юбка всегда нарушала правила установленной длины, – наверное, отчасти поэтому я и сижу здесь в первых рядах. «Нарушая правила, помните о возможных последствиях», – говорил наш завуч, мистер Древелл, каждый раз, когда вызывал меня в кабинет, чтобы побранить за какое-нибудь мелкое хулиганство. Что ж, нельзя отрицать, на этот раз он оказался прав.
– С вами есть кому пойти? – спросил мистер Ничоллз с неискренней заботой. – Для вас может оказаться очень кстати – и до, и после, – если кто-то морально вас поддержит.
На минуту в моем сознании возникло лицо Эвы. Не могло быть и речи о том, чтобы оставить ребенка. Она взяла контроль над ситуацией, проявив решимость и беспристрастность, граничащую с патологией. Мне кажется, она все еще не может оправиться после смерти Симеона и на время стала бесчувственной. Прежде чем я успела опомниться, она обо всем договорилась и даже оплатила счет. Эва была пионером движения за право женщин на аборт, и десять лет назад ей удалось добиться внесения изменений в закон. Мы даже вместе участвовали в демонстрациях, высоко подняв плакаты, хотя я тогда была слишком маленькой, чтобы понять, по какому поводу шум. Я лишь знала, что дело касается прав женщин, и осознавала, что мы обе являемся членами этого особого клуба.
– У тебя впереди целая жизнь, Эстер, – решительно сказала Эва, когда я призналась ей в своем неприятном положении. – Слишком много женских жизней было загублено из-за ранних нежеланных детей.
Я не видела смысла с ней спорить. Возразить я ей не могла. Происходящее казалось иронией судьбы, учитывая обстоятельства, при которых я сама появилась на свет. Едва ли я была желанным ребенком. Мне иногда хотелось спросить, почему мать не оставила меня в больничном судне. Они с Симеоном ясно давали понять, что никогда не были влюблены друг в друга и что я была результатом единственной страстной ночи, произошедшей, без сомнения, не без участия алкоголя. Казалось, они видели некую романтику в том, что я являюсь «чистым ребенком любви» ранних семидесятых. Эву никогда нельзя было назвать воплощением материнской заботы. К тому же я мешала ее активной деятельности в нашей общине, которая всегда стояла для нее на первом месте. Мне казалось, что, если бы не случай, она никогда не стала бы заводить детей. Моя мать была слишком занята теорией феминизма, чтобы пачкать руки в практике. Однако я сочла нужным спросить ее насчет ребенка. Мне требовалась ее помощь.
Эва предложила пойти со мной, чтобы посмотреть «как все пройдет». Но я считала, что это слишком личное. И эту ситуацию я должна пережить сама. Я неважно себя чувствовала, но все-таки снова кивнула мистеру Ничоллзу и негромко соврала, что приду с подругой. Мой язык прилип к небу, во рту появился устойчивый кислый привкус. Я пришла к врачу через несколько дней после нарушения цикла, через две недели после смерти Симеона и исчезновения Кенни, явившегося дурным предзнаменованием.
Прием назначили на следующий день. Я вышла в июльскую жару и глотнула душный лондонский воздух. Затем я повернула за угол на Мэрилбоун-роуд и быстро бросилась к какой-то канаве: меня рвало. На меня смотрели незнакомые лица с верхнего этажа восемнадцатого автобуса. Они, наверное, решили, что я наркоманка.
Чтобы пережить случившееся, мне понадобился год. В течение этого времени я не могла вернуться в Икфилд-фолли и не хотела никого оттуда видеть. К всеобщему изумлению, Симеон оставил мне крупную сумму наличными. Думаю, что жизнь в общине была очень дешевой, к тому же он владел частной собственностью. К небольшой сумме прибавилась плата за семинары. Я вдруг обнаружила, что совсем неплохо быть свободной семнадцатилетней девушкой. По объявлению в «Вечернем знамени» я нашла себе на Мейда Вэйл жилую комнату – большое помещение с высоким потолком, умывальником и ноющим ребенком за стеной. Поначалу там стоял запах вареной капусты и окурков, из-за которого мои приступы рвоты возобновились. Но к комнате прилагался большой балкон, выходивший на зеленый городской сад, к тому же стоила она всего двадцать фунтов в неделю. Вскоре комната была облагорожена с помощью драпировок из дешевого бархата и горшков с цветами с рынка на Черч-стрит.
Моим соседом снизу оказался парень с жирной кожей и бычьим лицом – марокканец Ахмед, мелкий торговец наркотиками и ди-джей из «Астории» на Шеферд-буш. Он отнесся ко мне по-дружески, называл «сестренкой» и помог пережить эти первые месяцы с помощью бесплатной травки и ночных разговоров по душам. Первые несколько месяцев я безвылазно провела здесь, прячась ото всех и с упоением рисуя. Потом я купила мольберт и краски. Запах капусты уступил место сладкому аромату масляных красок. Этот похожий на пещеру, сырой, пропахший дымом старый дом стал моим спасением, приняв меня в свое лоно, как когда-то приняла община, неразрывно теперь для меня связанная с горечью прошлого. Никто здесь ничем не был никому обязан, отношения казались свободней и честнее. Главное – здесь можно было давать лишь то, что хочешь, и закрыть дверь, когда нет желания делиться; поэтому отсутствовало показное человеколюбие.
Целый год Эва умоляла меня приехать домой, чтобы закончить учебу, жить с ней и Джоном; ей хотелось все наверстать. Но для меня «мыльный пузырь» невинности лопнул в день смерти Симеона, и я не могла больше провести ни дня под крышей родительского дома. Эва не понимала, не могла понять, да мне и самой это было неясно. Но она не стала заставлять меня, лишь попросила звонить каждый день. Таким образом, я ото всех них освободилась; впервые за всю свою жизнь я могла делать то, что хочу, и за мной больше не наблюдало восемнадцать пар глаз, следивших за каждым моим движением.
Моими друзьями стали безработный актер Джордж, живший наверху, и, через несколько месяцев, его агент и любовница Клара. По счастливой случайности оказалось, что она работает на полставки преподавателем в Академии искусств. Встреча с ней стала для меня большой удачей, так как полностью изменила мою жизнь. Благодаря Кларе я, сама не знаю как, сдала экзамены на соискание стипендии Академии и следующей осенью стала студенткой. Я, конечно, воспользовалась возможностью проявить свой актерский талант. Не успела я оглянуться, как поступила на отделение драматического искусства и стала получать стипендию.
Возвращаться в общину было уже слишком поздно. Владелец участка, который арендовал Симеон, прервал действие договора и потребовал освободить его землю. Идиллия неожиданно закончилась. Членам общины дали год на то, чтобы найти новое жилье. Я была рада, что избежала этой участи. Ситуация напоминала освобождение заключенных. Они выглядели сбитыми с толку и жалкими. Я была как никогда настроена больше не возвращаться туда и даже не устроила прощальной вечеринки. Теперь настал черед для Эвы и Джона паковать чемоданы и ехать в Лондон. Не сговариваясь, все члены общины перебрались в город.
Как ни странно, Лондон стал для меня глотком свежего воздуха. Иначе говоря, он явился полной противоположностью тому, что я так сильно любила. Лондон не был похож ни на что известное мне ранее. И, тем не менее, здесь я чувствовала себя спокойно.
12
Я уже знала, какая картина откроет серию «Обладание». Герцогиня Миланская долгое время была моим талисманом, и это казалось мне неслучайным. С тех пор как Эва впервые показала мне этот портрет, я знала, что он принадлежит мне – в духовном плане, разумеется. Я много раз обращалась к нему в тот первый год в Лондоне и немного реже последние десять лет. Я возвращалась к портрету в нелегкие жизненные моменты и, глядя на лицо Кристины, погружалась в себя. В ее облике было что-то обнадеживающее.
Но я, пожалуй, никогда не хотела знать, что скрывается по ту сторону рамы, за чертами девушки, превосходно изображенной на холсте. Быть может, я боялась обнаружить в ее жизни что-нибудь трагическое, что заставит меня бояться нашего с ней сходства. Но сейчас очень важно подойти вплотную к ее личности, испытать вновь, каково это – быть шестнадцатилетней. Пора примерить ее образ на себя.
К счастью, постоянное местопребывание Кристины находилось всего за две мили от моего дома. И – что совсем уж редкая удача – в данное время у нее был одинаковый адрес с Билли Смитом. В этом году Билли располагался в просторной студии, которая находилась в Национальной галерее. Таксидермист[8] с некоторой склонностью к приему кокаина, который проводит большую часть времени среди национальных шедевров, может стать для галереи настоящим бедствием. Но на самом деле Билли был тут в своей стихии, заимствуя идеи прошлого и создавая новые серии произведений, которые будут следующей весной выставлены в Нейшнл Сэйнсберри винг.
Билли потребовал, чтобы я рассказала ему историю моей Кристины Датской, метко определив, что она будет символизировать политическое обладание. Закончив Голдсмит, он изучал теорию искусства в Кортуолд – вместе с непредсказуемым критиком Линкольном Стерном. Ханс Гольбейн Младший был темой письменной работы Билли. С тех пор прошло много времени, но Билли сказал, что с удовольствием пороется в конспектах. Его энтузиазм подействовал на меня благотворно. Я просмотрела книгу по истории искусства и, чтобы избежать ненужного интереса со стороны прессы, перед походом в музей закуталась с головы до ног. На картине одежда скрывает большую часть тела и головы Кристины. Я пошла еще дальше, надев черную бурку и вуаль, чтобы спрятаться от посторонних глаз. Когда я одевалась во все черное, прошлое снова возвращалось и пульсировало в моем сознании. Я должна была предвидеть, что, выбрав Кристину, вынуждена буду мысленно окунуться в события прошедших лет. Наверное, подсознательно я, наконец, готова распутать паутину своих девических переживаний; возможно также, это станет основной идеей проекта. Последний раз я одевалась так шестнадцать лет назад. Но тогда обстоятельства были совершенно другими, мне не нужно было прятаться – я еще не была знаменитой.
На улицах Лондона кавказскую бурку можно встретить так же часто, как и джинсы «Левайс», и пока я шла через Трафальгар-сквер, никто не обращал на меня внимания. Я так хорошо знала путь к нужной мне картине через лабиринт проходов и залов Национальной галереи, что могла бы найти ее с завязанными глазами. Я пришла на десять минут раньше. Портрет Кристины висел справа от «Посланников», другого шедевра Гольбейна, но сегодня я даже не удостоила его взглядом. Вместо этого я, не отрываясь, смотрела на главную цель моего визита, и портрет, казалось, оценивающе глядел на меня. Мое сердце забилось чаще. Эта картина была для меня началом всех начал. Работа над новым проектом всегда напоминала мне начало романа, она приятно будоражила мое воображение. И на этот раз мой замысел требовал реализации как никогда.
Кристина – великолепна и пленительна, частично оттого, что нарисована в натуральную величину и выглядит настоящей. Возможно, именно это всегда меня притягивало к ней? Она олицетворяла вечность и бессмертие. Я долго и внимательно разглядывала портрет. Гибкая и элегантная, но в то же время удивительно простая и, что самое важное, чрезвычайно юная. Она сняла бежевые мягкие кожаные перчатки, и ее безвольно сложенные руки цвета слоновой кости проглядывают через складки черного бархата. Левую руку украшает золотое кольцо с рубином. Многочисленные слои материи и украшения лишь подчеркивают хрупкость, намекая на скрытую чувственность натуры.
Нежный мех украшает платье, а белый круглый плоеный воротник контрастирует с тонкостью шеи и запястий. Платье обтягивает стройное хрупкое тело. Роскошная одежда радует глаз, указывая на богатство девушки и одновременно подчеркивая ее печаль, – известно, что ее муж, герцог Миланский, умер незадолго до написания картины.
У Кристины полупрозрачная, сияющая молодостью кожа. Волосы собраны под траурный чепец, что подчеркивает рельефность лица. Широкий лоб, круглые щеки, квадратная линия подбородка и сочная полная нижняя губа персикового цвета. Это единственная черта, которую я без труда могу найти у себя. Изображение в полный рост и непосредственное выражение лица делают портрет живым и реалистичным, словно его написали только вчера. Мне всегда было сложно поверить, что картина написана почти пятьсот лет назад.
– Извини, что заставил ждать.
Я обернулась и увидела коренастую фигуру Билли, который направлялся ко мне. Он был одет в просторный рабочий костюм. Я впервые заметила, что его курчавые черные волосы уже посеребрила седина. Руки словно веснушками были усыпаны пятнами белой краски. Билли выглядел не как ведущий британский художник, а скорее как маляр, которого наняли покрасить стены в Национальной галерее.
– Как ты узнал меня?
Он ухмыльнулся:
– Больше никто здесь не одет в плащ-палатку.
Я засмеялась, а он положил мне руки на плечи. Я сбросила их.
– Перестань, Билли, – шепотом попросила я, – меня сейчас узнают.
Он послушно убрал руки. Мы повернулись к картине, и Билли принялся рассказывать.
– Мне нужно знать, чего она стоила – на политической арене, как женщина и как произведение искусства, – прошептала я.
– На самом деле, – объяснил Билли, – портрет Гольбейна служил своеобразной фотографией на паспорт шестнадцатого века: леди собиралась в дорогу. Для того времени она была очень дорогим товаром, который можно было обменять, купить или продать, если предложена подходящая цена. Художник нарисовал Кристину во время своего делового путешествия по Европе, где он подыскивал возможных невест для Генриха VIII. Она позировала для Гольбейна в Брюсселе в течение трех часов. Время и дата создания картины отличаются необычайной точностью – час дня, 12 марта 1538 года.
Гольбейн вернулся со своими набросками в Англию, написал картину и представил этот портрет в качестве образца королю – что-то вроде знакомства по интернету в шестнадцатом веке, – чтобы тот посмотрел и оценил. По всей вероятности, как только Генрих увидел портрет, он решил: «Покупаю». Но у Кристины имелись свои соображения: она заявила, что, если бы у нее было две головы, одну она отдала бы королю. Она предпочла выйти замуж за Франсуа, герцога дю Бара. После его смерти в 1545 году Кристина управляла Лорреном. Итак, ей удалось сохранить свою прекрасную голову и к тому же унаследовать земли.
– Благодаря скорее везению, чем здравому смыслу? – спросила я.
Пока мы рассматривали лицо Кристины, стараясь разгадать образ, я почувствовала в ней уязвимость. Она была такой же, как я, когда рисовала Кенни Харпера. Насколько отличается ее молодость от моей? Я не могла не задаться вопросом, были ли у нас еще какие-нибудь сходные переживания, кроме смерти близкого человека.
– Ну, и как тебе первая женщина из твоего набора? – улыбнулся Билли поверх пластмассовой чашки. Мы вернулись в его студию. Довольно лестно иметь студию, расположенную в помещении величайшего музея мира. Возле стойки для шляп висело четыре кроличьих шкурки, рядом стоял мольберт, на котором помещался холст. На холсте полоски, написанные темной умброй, складывались в решетку.
– Я невольно попала под действие ее чар, – медленно проговорила я. – От нее у меня всегда мурашки по коже с тех пор, как я впервые увидела ее. Тогда мне было не больше двенадцати.
Билли походил на боксера на ринге, но когда он улыбался, вокруг глаз расходились мелкие морщинки, Выдавая спокойный мягкий нрав человека, который никогда не полезет в драку без повода. Он улыбнулся мне, и я улыбнулась в ответ. Перед моим мысленным взором на секунду всплыла потасовка, которая произошла на его последней выставке.
– Как тебе моя идея? – спросила я.
– Мне нравится: твоя продажа и все такое… – задумчиво ответил Билли. – Но в этом есть что-то циничное. Не знаю. Это как если бы ты расписалась в творческом бессилии, в неспособности создать действительно стоящую вещь. Неужели тебя сейчас настолько занимают мысли о культе личности и славе?
Его слова задели меня, но я знала, что Билли прав. Я погладила кроличью шкурку, оказавшуюся неожиданно тонкой, хоть и мягкой.
– Видишь ли, – наконец ответила я, – это верно лишь отчасти. Я хочу лицом к лицу столкнуться с реальностью и понять суть современного искусства. Знаю, затея весьма рискованная и меня может ждать провал. Но, думаю, здесь заключается зерно очень важной мысли, которое позже прорастет. Мысли о моей значимости, а также о значимости выбранных мною женщин.
Продолжая улыбаться, Билли взял кисть и принялся водить ею по линиям на холсте.
– Я завидовал, когда тебе предложили участвовать в этой международной выставке, – признался он, – но, с другой стороны, у меня есть студия в Национальной галерее. Мы квиты. Знаешь, Эст, я хочу, чтобы у тебя все получилось. Ты мне веришь?
Последние несколько лет мы оба номинировались на премию Джозефа Тернера, но ни Билли, ни я не получили ее. Теперь это уже не кажется таким важным. С тех пор как премию вручили Мартину Криду за проект с выключением ламп, она никого уже особо не волновала. Это что-то вроде разговора на заднем сиденье такси – способ избежать общения с толпой; идеальная тема для беседы, такая же, как погода – и настолько же бессодержательная. Но для нас с Билли его студия в Национальной галерее и мой новый проект значили очень многое.
– А ты что же? Чем дальше будешь заниматься? – спросила я.
Кисть замерла на полпути. Билли задумался, потом сделал шаг назад и отложил ее. Затем он засунул руки глубоко в карманы рабочих брюк, со свистом выпустил воздух сквозь зубы и покачал головой.
– Ну, мне, наверное, придется закрыть клуб. Это абсолютно идиотская затея.
Мне стало жаль Билли, хоть я никогда не понимала, зачем ему понадобилось впутываться в это рискованное предприятие, не связанное с его основной деятельностью. Даже Эйдан пытался отговорить его. «Сайт» существует уже три года. Билли, очевидно, не давала покоя идея скрестить известность с кулинарией и внести немного анархии в правила современной британской кухни, а заодно заработать денег. Вместо этого из его заведения постоянно увольнялись повара, а также все время возникали проблемы с остальным персоналом. Знакомые сходились во мнении, что Билли вкладывает недостаточно сил в свое детище, довольствуясь ведением дел по телефону, а сам тем временем занимается творчеством. Он также уезжал в прошлом году в Новую Зеландию, планируя снять фильм с каким-то молодым неизвестным режиссером. Фильм так и не материализовался, зато Билли вернулся с отпадной женой-дизайнером. Теперь они ждут ребенка. Это очень изменило его.
– Что же ты тогда будешь делать?
Билли принял таинственный вид:
– Мы с Кэрри присмотрели одну ферму за городом.
Я недоверчиво покачала головой и рассмеялась.
– Может быть, коровий навоз под ногами – как раз то, что мне нужно. Выращивать животных вместо того, чтобы делать из них чучела – это способно вдохнуть новую жизнь в мое творчество.
Когда я собралась уходить, Билли достал свою старую письменную работу по Гольбейну. Придя домой, я устроилась на розовом замшевом диване с большой чашкой чая и начала просматривать записи. Кристина занимала все мои мысли.
Как выяснилось, после того как она отвергла Генриха, его поиски невесты возобновились. Король вновь пригласил Гольбейна и отправил его в Германию, чтобы тот написал портрет Анны Клевской, протестантской принцессы. И опять Генрих влюбился в созданный художником образ, решив приобрести такой ценный «товар». На этот раз предложение было охотно принято, и вскоре «покупка» приехала в Англию с брачным договором. Но оригинал не соответствовал тому, что король увидел на холсте. Гольбейн неточно передал внешность Анны. Генрих стал возражать, утверждая, что его обманом хотят женить на «жирной фламандской кобыле», и вскоре избавился от нее. За несколько лет до этого Гольбейн умер от чумы. Мне кажется, Генрих верил в то, что здесь не обошлось без божественного провидения.
Вечером я позвонила Билли и попросила рассказать побольше о портрете. Он пообещал расспросить о Кристине смотрителя Национальной галереи. Перед тем как положить трубку, Билли заверил меня в том, что полностью одобряет мой замысел, добавив, что он надеется: его сегодняшние слова не были истолкованы превратно. Думаю, он говорил искренне, и, принимая во внимания его возможный отъезд из Лондона, мы больше не окажемся в ситуации, в которой будем соперниками. Нашей творческой среде не повредит немного незанятого пространства. Но сама я не собиралась в деревню. Там я начинала свой жизненный путь – и оттуда сбежала, как только мне исполнилось, как Кристине на портрете, «сладкие шестнадцать».
Верный своему слову, Билли позвонил на следующий день, чтобы сообщить новые сведения о шедевре Гольбейна. Одна из смотрительниц рассказала ему обо всех направлениях в живописи после смерти Генриха VIII. Как оказалось, история портрета Кристины так же интригует, как и судьба оригинала.
В течение следующих столетий картина переходила от одного знатного владельца к другому, пока не оказалась в 1909 г. собственностью государства. Но этому предшествовали события, которые грозили навсегда отобрать «Кристину Датскую» у Англии. В то время картина принадлежала герцогу Норфолку, который передал ее на хранение в Национальную галерею – самое безопасное место для такого ценного произведения искусства. Но затем для герцога наступили тяжелые времена, и он решил продать шедевр. Он обратился к лучшим агентам по продаже произведений искусства, и те быстро разыскали американского миллионера, который страстно хотел приобрести портрет. Они договорились о сумме семьдесят две тысячи фунтов стерлингов. Прекрасная леди должна была отправиться за океан. Но с одной оговоркой: герцог Норфолк дал Национальной галерее месяц на то, чтобы выкупить у него картину за назначенную цену.
Герцог недооценил народной любви к Кристине – или же, напротив, все предвидел и вел рискованную политическую игру. Разразился настоящий скандал на государственном уровне, бурно обсуждаемый в газетах и в Парламенте. Как спасти Кристину для нации? Фонд собрания национальных произведений искусств передал тридцать две тысячи фунтов, чтобы выкупить картину, но эта сумма была значительно меньше требуемой. Казалось, все потеряно, но Кристина на холсте продолжала сохранять полное спокойствие. Она и не такое пережила, только в прошлый раз спор происходил между королями, а теперь между государственной и частной коллекциями. Она продолжала понимающе улыбаться и, как выяснилось, не зря. За минуту до отплытия корабля, на который погрузили картину, стало известно, что недостающую сумму доплатила неизвестная женщина, и «Кристина Датская» осталась в Национальной галерее. Кажется, герцогиня Миланская действительно знала себе цену.
Билли был горд тем, что ему удалось так много найти. Таким образом он участвовал в моем проекте и как бы становился на один уровень со мною. Кроме того, теперь Билли сам хотел работать с портретом. Он сказал, что Кристина одна из тех женщин, которые, раз очаровав, больше не отпускают. Он использует ее образ в своем проекте как ответ на экспозицию Национальной галереи. Но в отличие от меня Билли больше интересовался меховой накидкой Кристины, чем мыслями, роившимися в ее голове.
Я была очень довольна таким началом. Но потом в записях Билли я наткнулась на упоминание о втором портрете Кристины и похолодела. Портрет был написан пять лет спустя, когда она опять была в трауре, на этот раз по своему второму мужу, герцогу дю Бару. На Кристине такая же одежда, как и на картине Гольбейна, но здесь она изображена по пояс; она держит молитвенник, и на руках нет перчаток. Пальцы усеяны кольцами. Ее чистота, казалось, испарилась. Неужели этот фламандский художник не сумел понять ее загадочный образ, или, может, ее жажда жизни действительно погасла? Как и Гольбейн, Михаэль Крокси рисовал Кристину заочно. На самом деле он никогда не видел ее. Надеюсь, он просто неудачно воссоздал эскизы. В то время Кристина была вдовой с двумя детьми на руках и перспективой прожить остаток жизни в одиночестве. Эти подробности меня расстроили. Почему меня так занимает история ее жизни? И почему, думая о ней, я начинаю бояться за себя?








