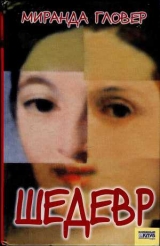
Текст книги "Шедевр"
Автор книги: Миранда Гловер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 22 страниц)
Я описала, как вижу проект, и показала Эйдану и Кэти семь выбранных мною портретов. Я – опытный постановщик, и мои представления всегда стоят тех денег, которые люди за них платят. Но главным условием работы всегда был зрительский фактор. Я устраивала зрелище именно в расчете на публику. Для меня все волшебство заключалось во взаимодействии автора и зрителя. Поэтому для этой выставочной недели я подготовлю семь десятиминутных представлений для приобретшего меня коллекционера, каждое из которых можно будет показать наедине или перед зрителями, в зависимости от содержания. Мы задействуем Петру, и она сошьет костюмы. Мы с Петрой дружим с колледжа, и она уже сделала для меня не один наряд. Сейчас она работает в Париже. Эйдан и Кэти согласились со мной, и мы отправили сообщение на автоответчик Петры с просьбой перезвонить.
Я сниму каждое представление на видео и составлю сериал для галереи Тейт. Когда выставка закончится, покупатель сможет приобрести всю работу целиком. Нужно тщательно обдумать, что будет означать каждое представление, но основная тема ясна уже сейчас: это должно быть обладание, в самом широком – и неожиданном – смысле слова. Теперь мне необходима только смазка, чтобы машина заработала. Я вспомнила о помятых автомобилях, выставленных в галерее, и пожелала, чтобы мой проект не постигла та же участь.
Пока мы говорили, Эйдан просматривал свой блокнот с адресами, Кэти забрасывала меня самыми разными вопросами и тут же записывала детали. Четыре часа спустя план был расписан в мельчайших подробностях. В конце февраля состоится аукцион Сотби. У нас шестнадцать недель; я должна спланировать собственную продажу, а Эйдан – найти платежеспособного коллекционера. Эйдан согласился вложить в проект сорок тысяч фунтов стерлингов. Из них двадцать тысяч Петре за костюмы и двадцать тысяч мне на поездки и декорации. Для того чтобы проект окупился и мы получили прибыль, я должна продаться за шестьдесят тысяч. Сумма показалась мне вполне реальной.
Я выбрала картины из семи разных коллекций, находящихся в разных частях земного шара, что обогащало проект историческим и географическим разнообразием. Перед аукционом необходимо было поехать посмотреть на каждую из картин. Кэти согласилась составить для меня план поездок. Учитывая все, что происходит сейчас в Лондоне, будет уместно совершить несколько коротких путешествий. С этой целью я устрою себе двенадцатинедельный марафон по шести городам, который начнется здесь, в Лондоне, затем я посещу Париж, Нант, снова побываю в Лондоне, потом отправлюсь в Нью-Йорк, в Вену, и, наконец, в Венецию. Вернусь я как раз вовремя, чтобы подготовиться к аукциону.
Эйдан, не перебивая, слушал, пока мы с Кэти обсуждали детали.
Мне было приятно, что идея захватила Кэти. Рано или поздно ее энтузиазм передастся Эйдану. Когда Кэти закончила, Эйдан бегло просмотрел записи и уставился на меня. Я улыбнулась, и, помимо своей воли, он улыбнулся мне в ответ. То была особая улыбка, блуждающая и неизъяснимая, если только вы не умеете читать в чужих сердцах. Кэти тоже увидела ее, но сделала вид, что ничего не заметила. Так Эйдан улыбался только мне, и его улыбка придала мне уверенности в своих силах.
– Я договорюсь о встрече с устроителями Сотби, – медленно проговорил он. – Нам нужно добиться, чтобы тебя выставили на продажу в феврале, – если они согласятся. Думаю, на сегодня все.
Он закрыл записную книжку, и Кэти ушла. Обсуждение было закончено. Как только она вышла, я пересела поближе.
– Есть еще одна вещь, – сказала я как можно спокойнее.
– Продолжай, – ответил Эйдан.
– Я хочу дать эксклюзивное право на публикацию Джону Херберту и «Клариону». Я не хочу, чтобы журналисты были настроены против нас. Линкольн подвел меня, и с ним нужно прекратить сотрудничество – но только на время проекта. По моему мнению, мы должны задействовать как можно больше печатных изданий, чтобы все узнали о проекте и мы смогли найти подходящих коллекционеров. Из всех газет у «Клариона» самый широкий круг читателей, а также это издание подходит мне, потому что у него самая скандальная репутация.
Эйдан подозрительно посмотрел на меня.
– Что на самом деле происходит, Эстер? – спокойно спросил он. – Что на тебя нашло?
Я почувствовала, что краснею, и изо всех сил попыталась подавить смущение.
– Не понимаю, о чем ты, – ответила я, стараясь не смотреть ему в глаза. – Я просто нахожу эту идею очень удачной. И я сама позвоню Джону Херберту. Потом вы с Кэти условитесь насчет цены. Договорились?
Эйдан наклонился вперед и пристально посмотрел на меня.
– Я не знаю истинных причин, побудивших тебя заняться этим проектом, – медленно проговорил он, – но ты знаешь мое мнение, и оно не изменится. И я намерен оставаться в стороне и заниматься лишь своей частью работы – продажей тебя.
Вернувшись домой, я позвонила Джону Херберту.
Он, казалось, был так же рад, как и удивлен, услышав мой голос.
– Как поживаете, Эстер? От вас давно ничего не слышно, – сказал он; его голос прозвучал грубо, – привык, наверно, произносить всякие вульгарные мерзости.
– Хорошо, – ответила я. – У меня к вам предложение. Есть ли у вас время для разговора?
– Для вас, Эстер, у меня всегда найдется время. Теперь расскажите мне о своих замыслах.
Я осторожно вела беседу, стараясь не упоминать ни о Кенни, ни о рисунке, но косвенно дала понять, что мне известно о его предложении, и Джон не стал отрицать этот факт. Я сказала ему, что могу предложить нечто большее, гораздо более интересное – эксклюзивный материал о моем следующем проекте, – объяснив, что он будет сенсационным и достойным освещения в печати. Мы условимся о цене, но, добавила я, словно эта мысль только что пришла мне в голову, с одним условием – информации о моем раннем эскизе и откровениям того, кто его предоставил, на страницах «Клариона» в обозримом будущем не будет места. После этих слов Джон понимающе рассмеялся и охотно дал такое обещание. Я не знала, насколько ему можно доверять, но приходилось довольствоваться его честным словом.
– Итак, где я могу получить подробности о вашем новом произведении? – с воодушевлением спросил Джон. Я ответила, что он может позвонить Кэти, но что я бы предпочла, чтобы он воздержался от обсуждения с ней такой незначительной темы, как тот рисунок. Он с готовностью согласился, и я повесила трубку в уверенности, что, по крайней мере, какое-то время Джон Херберт будет соблюдать условия нашего соглашения. Я представляла сейчас слишком большой интерес для прессы, чтобы он мог отказаться от моего предложения.
У меня оставалась еще одна ночь перед обещанным звонком Кенни. Он являлся единственной проблемой, требующей разрешения, и, пользуясь его игрой в хорошие отношения между нами, я надеялась поскорее завершить всю эту глупую историю и перейти непосредственно к тому, что интересовало меня больше всего на свете – к искусству. На стене моей студии в ряд висели семь цветных копий выбранных мною портретов. Я вытянулась на кровати, глядя, как заходящее солнце постепенно затемняет их и сужает спектр красок, и задаваясь вопросом, что готовит нам наше общее будущее. Они, казалось, смотрели на меня с надеждой и предвкушением. Я просто умирала от нетерпения; мне хотелось поскорее вдохнуть в них жизнь – с привнесением некоторых современных черт, разумеется. Но сначала надо было избавиться от Кенни, а потом необходимо показать портреты моему главному в таких делах помощнику. Кто еще, кроме Петры, в состоянии помочь мне претворить эту идею в жизнь? Она, в общем, согласилась участвовать в проекте, и мы условились, что она приедет в Лондон на выходные, чтобы мы могли все обсудить.
Я лежала в постели, чувствуя беспокойство и раздражение из-за предстоящего звонка Кенни. Когда я наконец задремала, он продолжал тревожить мое сознание, и сны вернули меня в тот момент, с которого все началось.
6
Я тихонько постучала в дверь и проскользнула в большую мрачную спальню. Эва сидела в дальнем углу комнаты у туалетного столика красного дерева, спиной ко мне, и вставляла в мочки крупные серебряные дугообразные серьги. В воздухе чувствовался аромат «Кашарель», похожий на запах освежающего дождя холодным утром. Я не могла вспомнить, когда Эва последний раз пользовалась духами.
– Ты готова?
– Еще минуту, – прерывисто сказала она заикающимся шепотом, если такое возможно. На Эве было длинное шелковое сине-зеленое платье, материя мерцала как крылья зимородка, на плечах – светло-зеленая шаль ручной работы, прошитая тонкой золотой нитью. Волосы зачесаны наверх и перехвачены блестящей перламутровой гребенкой. Она была похожа на редкую тропическую птицу.
Эва посмотрела на меня, и наши взгляды встретились в зеркале. Она тотчас же отвернулась. На ее лице не было слез, но кожа под глазами стала непривычно белой и одутловатой. Я подошла к ней и протянула руку. Она взяла ее. Руки у нее были ледяные.
– Симеон очень сильно любил тебя. Ты ведь знаешь об этом, правда? – спросила Эва слабым голосом.
Я не ответила. Вместо этого я опустила взгляд и уставилась в пол. «Не самый подходящий момент, чтобы говорить обо мне», – подумала я.
Все собрались внизу в большом зале, ожидая нас. Когда мы с Эвой спускались по главной лестнице, головы повернулись в нашу сторону, приглушенные разговоры оборвались и наступила полная тишина. Как и Эва, все присутствующие были одеты в какой-либо из цветов радуги – так завещал Симеон. Все, кроме меня.
Я оделась в черное: черные парусиновые туфли, браслеты из черных бусин на лодыжке и обеих руках, длинная черная креповая юбка, моя черная футболка «Эхо энд Баннимен» под черной рубашкой с черными пуговицами, черный плащ с чернобуркой, – и для контраста белый хлопчатобумажный воротник и манжеты. Глаза я подвела черным карандашом, на губах – черная помада, в ушах – черные как смоль сережки-гвоздики – и, чтобы хоть немного разбавить все это – пара мягких бежевых лайковых перчаток. Я зачесала волосы назад и надела черный бархатный берет. Черт бы побрал их хипповской идиотизм! Я могла быть лишь в черном. В конце концов, это похороны моего отца.
– Гольбейн[6] одобрил бы твой наряд, – шепнула мне на ухо Эва, ласково улыбнувшись, когда мы вышли из спальни.
Я знала, на что она намекает. Речь шла о нашем секрете, о картине, которая вызывала восторг у нас обеих. Симеону она тоже нравилась. На стене его ванной висел выцветший, со скрученными углами постер, изображающий «Кристину Датскую, герцогиню Миланскую». Мы купили его, когда Эва в первый раз повела меня в Национальную галерею, около пяти лет назад. Мы обе выбрали эту картину, как самую любимую работу из всей коллекции. Эва нашла, что Кристина чем-то похожа на меня, она только не смогла сказать, чем именно. Симеон согласился.
В сумерках самые представительные мужчины нашей общины вынесли на обыкновенных носилках гроб с телом своего бывшего главы, наставника и друга. Прошло пять дней после смерти Симеона, и, лишь когда все формальности были соблюдены, его вынесли из библиотеки и похоронили. Сегодня его завернули в листья конопли. Гроб выглядел ненадежным, слишком маленьким для мужского тела.
Мы шли за гробом сквозь широкие дубовые двери, впереди Эва с Джоном, потом я с Кэй и Джо, нашими близкими родственниками. За нами следовали остальные члены общины, всего восемнадцать человек; взрослые и дети объединились в общей скорби.
Гравий скрипел под нашими ногами. Под конец к процессии присоединилось еще около трехсот человек – друзей и сочувствующих. Они выглядели так, словно вырядились на одно из наших шумных празднеств – на всех была разноцветная одежда; лишь общее настроение соответствовало событию. Затем мы свернули налево и пошли по заросшему лугу, издававшему стойкий запах сладкого гороха и алтея. Воздух был наполнен жужжанием медоносных пчел Симеона, яростно собирающих вечернюю пыльцу. Узкой шеренгой мы шли вдоль цветущих садов и огородов; гроб несли высоко над головами, чтобы не задеть живую изгородь. Наш путь проходил мимо прохладного сумрака кустарников, домика на дереве и старых веревочных качелей, где обычно играли дети нашей общины. Здесь мы зажгли свечи и повесили на ветки разноцветные шелковые ленты, они выглядели точно флаги, возвещающие о деревенском празднике. Наконец мы вошли через деревянные ворота ручной работы в маленький, окруженный каменной стеной сад – последнее пристанище Симеона.
Сад находился на окраине поместья, к нему примыкали вспаханные поля. В саду было две яблони, одна груша, плакучая ива и маленький круглый пруд, где плавали белые лилии, – все это посадил Симеон за последние двадцать лет. В воздухе чувствовался запах лилий – тошнотворно сладкий и опьяняющий. За прошедшие годы здесь закопали несколько умерших домашних животных, и Симеон стал первым человеком, которого похоронили в этой неосвященной земле. И такое место вполне подходило для него как для основателя нашего селения и сторонника захоронения на лоне природы.
Некоторое время спустя все, наконец, собрались. Мы с Эвой стояли впереди, стараясь удержаться и не упасть в узкую глубокую яму.
Мне было жаль, что Кенни нет рядом со мной. Когда тело Симеона опускали в землю, Кэй и Джо запели старинную народную песню. Я почувствовала, что наклоняюсь вниз, словно меня непреодолимо тянуло к отцу. Эва схватила меня за руку и удержала от падения. Затем Джон прочел длинное бессвязное стихотворение, которое специально сочинил, и я почувствовала себя совершенно опустошенной. Солнце догорало и заходило за горизонт, кто-то из детей заиграл на флейте, а мы все брали пригоршни красных лепестков роз и кидали их в могилу, затем проделывали то же с влажной жирной землей. Потом мы медленно повернулись и в обратном порядке направились в поместье мимо догорающих свечей. Стало свежо, и, несмотря на теплую одежду, я замерзла. Пора было идти в дом, чтобы там помянуть Симеона.
Три часа спустя, получив свою порцию слез и воспоминаний и дождавшись, когда заиграет оркестр, я проскользнула в свою комнату и сняла одежду, в которой была на похоронах. Я оставила ее в беспорядке валяться на полу, нацепила джинсы и джемпер, прокралась вниз и вышла через черный ход. Я незаметно пробежала по лужайке к амбару, схватила велосипед и тихонько поехала по краю дороги, стараясь не попасть на гравий. Потом я погнала как сумасшедшая, пока свет из поместья не перестал освещать мой путь. Лунное сияние и блеск звезд подчеркивали белизну цветов, которыми была обвита живая изгородь. Я поехала быстрее. Воздух был свежим, влажным и дурманящим. Я вдыхала его так жадно, что закружилась голова, но я упорно продолжала крутить педали, стремясь поскорее добраться до намеченной цели. Я не в силах была дольше ждать – мне хотелось встретиться с Кенни, ощутить его объятия. Но когда я приехала, то увидела, что дом погружен во тьму. Три прошлые ночи Кенни вывешивал снаружи фонарь, чтобы я могла найти дорогу. Я поставила велосипед у дерева и осторожно подошла к окну его спальни и заглянула внутрь. Может быть, Кенни уже спит – или же он сидит в баре? Но было уже за полночь. Вряд ли он все еще там. Я сказала ему, что приду, как только смогу. Каждую ночь после смерти Симеона я спала крепким сном на большой старой отсыревшей кровати Кенни, в его успокаивающих объятиях. Никто из домашних не замечал моих поздних исчезновений и опозданий утром к завтраку. Они все были слишком заняты мертвецом, чтобы обращать внимание на тайные проделки живых.
Но сейчас, когда глаза привыкли к темноте, я увидела, что дом пуст, а кровать застлана. Кенни здесь не было. Я медленно обошла вокруг дома, заглядывая в каждое, покрытое паутиной окно, просто чтобы удостовериться в своей догадке. И лишь сделав полный круг, я заметила на кухонном подоконнике белый конверт. Я взяла его и увидела свое имя, написанное с ошибками косым почерком. Я распечатала конверт. Чтобы прочитать записку, которую я обнаружила внутри, потребовалось время. Было довольно темно, и мне пришлось подождать, пока лунный свет станет более-менее ярким, чтобы разобрать каракули Кенни. Это был первый и последний раз, когда я видела его почерк.
Эста,
извини, что не успел с тобой попрощаться, но дорога зовет меня, и я должен ехать. Я и мой мотоцикл не можем долго задерживаться на одном месте. Если бы я не познакомился с тобой, то уехал бы еще в понедельник. Я сочувствую тебе по поводу отца, это просто кошмар. Береги себя и продолжай рисовать!!!
Крепко целую. Кенни.
У меня задрожали руки. Лес вдруг показался очень густым, темным и таинственным, полным скрытого смысла и воспоминаний; древние корни шумящих деревьев уходили глубоко в старую землю, ту землю, где теперь спал вечным сном Симеон. Я почувствовала, как у меня подкашиваются ноги и, пошатываясь, обрушилась на каменную ступеньку крыльца и обхватила голову руками. И впервые после смерти Симеона я разрыдалась.
Я проснулась на рассвете непростительно ясного летнего дня, птицы с жестокой радостью резвились в ветвях. Было, наверное, три или четыре часа утра. Все мое тело затекло, я с трудом поднялась, села на велосипед и поехала домой.
Эва сидела на крыльце, в одеянии павлиньей расцветки, накинув на плечи плед и прислонив голову к кирпичной стене дома. Увидев меня, она вскочила и побежала по дороге мне навстречу. Ее седые волосы спутанными прядями окаймляли лицо, в глазах читалось безумие и бессонная ночь. Я слезла с велосипеда, и она кинулась мне в объятия, задыхаясь от плача. Ее глаза были похожи на два озера, полных горя.
– Я думала, что потеряла и тебя тоже! – прорыдала Эва.
В каком-то смысле она была права, хоть и несколько преждевременно оплакивала мой уход. Я уехала из дома в конце лета, раз и навсегда. И ни разу не приезжала туда.
7
Я крепко спала, когда зазвонил телефон. Я взглянула на часы рядом с кроватью. Восемь утра. Я никогда не была «жаворонком» и неохотно взяла трубку.
– Еще спишь?
Услышав голос Кенни, я вздрогнула и окончательно проснулась. Он казался слишком близким и родным. Я больше не знала этого человека, но от его голоса меня бросило в дрожь. Однако нужно сделать так, чтобы он согласился на мое предложение. Поэтому я постаралась притвориться, что рада его слышать.
– Только что проснулась. Как дела? – спросила я.
– Нормально.
Я села на постели, прижав колени к груди.
– Могу ли я выкупить у тебя свои рисунки? – быстро проговорила я. – Я хотела бы получить их обратно.
Кенни фыркнул.
– Знаешь, – сказал он, – когда я уехал тем летом, после того как твой отец… ну и все такое, я ведь возвращался, чтобы встретиться с тобой.
Мое сердце чуть не остановилось. Значит, рисунки – это только начало. Я промолчала, собираясь услышать, что он еще скажет.
– Самое смешное, что ты взяла и уехала. И никто, казалось, не знал, где ты.
– Я поселилась в Лондоне, – спокойно ответила я. Мне вдруг стало необычайно грустно. – Дома особо нечего было делать.
– Да, это-то я знаю, – медленно проговорил Кенни. – Слушай, помнишь Габриэля? Ну, так он сказал мне, где ты, и я поехал тебя искать.
Слова Кенни поразили и смутили меня. Габриэль всегда находился в курсе всех событий, его бар был центром нашего поселка, но я не думала, что кто-либо знает, куда я поехала, даже он.
– Он сказал, ходят слухи, что ты поселилась по какому-то новому адресу, – продолжал Кенни, не замечая моего молчания. – В квартире на Пэддингтон. Кажется, на улице Мейда Вэйл. И вот я поехал туда на мотоцикле, но когда нашел дом, дверь открыл какой-то африканец с «косяком» в руке, – я его поэтому и запомнил. Короче, он сказал, что девушка с каким-то шикарным именем, вроде Эммелины, живет наверху и учится в колледже. Поэтому я решил, что ошибся адресом, купил у него марихуаны и уехал.
– Да, что же еще тебе оставалось делать, – сухо сказала я.
– Так вот, вообрази мое удивление, – произнес Кенни, – когда несколько дней спустя я увидел в газете твое лицо – Эстер Гласс становится знаменитой художницей. Представь, как я смеялся.
– Что тебе от меня нужно, Кенни? – спокойно и холодно спросила я. Мне уже был ненавистен наш разговор, и я хотела поскорее отделаться от Кенни. – Я не люблю вспоминать о прошлом.
Он засмеялся.
– Я не хочу ничего особенного. Я просто решил, что тебе будет интересна моя история – знаешь, я думаю, газета потом могла бы все это опубликовать, правда?
– Они не будут печатать твою историю, Кенни, – жестко ответила я. – Джон Херберт говорил со мной вчера. Он передумал.
Кенни колебался. Он явно не понимал, что я веду свою игру.
– Это действительно так, – продолжала я, – но мне очень хочется выкупить свои рисунки, и я добавлю к предложенной Джоном сумме что-то вроде компенсации. Ну, за напрасное путешествие в Лондон много лет назад, а также за упущенную возможность с «Кларионом». Что ты об этом думаешь?
– Это было бы очень кстати, Эстер, – медленно ответил Кенни. – Да, это было бы действительно кстати. – Он откашлялся. – Гм, какую сумму ты имеешь в виду?
– Двадцать пять тысяч фунтов, – ледяным тоном сказала я. – Наличными. – Я надеялась, что это больше, чем он ожидал. Мне хотелось, чтобы Кенни гордился моим предложением. К счастью, я только что получила чек за «Обнаженную в росписи».
Какое-то время Кенни размышлял, и я снова услышала в трубке треск. Откуда он звонит?
– Я знал, что ты войдешь в мое положение, Эстер. Ты всегда была очень доброй. Я рад, что ничего не изменилось. – Он не мог скрыть своего восторга.
– Как мне получить рисунки? – Мне не терпелось поскорее покончить со всем этим. Хотелось, чтобы моя трубка навсегда перестала говорить его голосом.
Кенни попросил прийти по указанному адресу в Клэфеме в следующий четверг, в три часа дня, с наличными. Я охотно согласилась и, перед тем как положить трубку, раздраженно заметила, что надеюсь никогда больше его не увидеть.
– Не волнуйся, – ответил он. – В конце месяца я надолго уеду.
Затем, как и в прошлый раз, телефон щелкнул и замолчал.
Я забралась под одеяло и закрыла глаза, чувствуя себя оскорбленной и оскверненной.
8
На следующий день на первой полосе «Клариона» появилась статья обо мне. Заголовок гласил: «Эстер продает себя», за этим шло подробное описание моего будущего проекта. Автор статьи сравнивал мою возможную стоимость со стоимостью других вещей – от шлифованных алмазов до буханки хлеба, а также добавлял список самых дорогих шедевров, когда-либо проданных. Он также скаламбурил на тему денежного вознаграждения и скидок «семь по цене одной», но общий тон был выдержанным, статья одобряла мой проект, и в ней ни слова не было о продаже моих ранних рисунков и бывших бойфрендах.
Ничего другого мне и не требовалось. Когда я позвонила Джону Херберту, чтобы поблагодарить, его голос был полон самодовольства. Он попросил информировать его о продвижении работы и пообещал, что «Кларион» проделает со мной весь путь вплоть до аукциона. Я не знала, следовало ли воспринимать это как комплимент или как угрозу. Я остановилась на последнем, но сдержалась: по крайней мере, я почти избавилась от Кенни Харпера, к тому же необходимо продолжать работу.
Поскольку концепция серии «Обладание» была сформирована, мы решили раскрыть карты. К десяти часам утра Кэти сообщила мне, что к ней уже поступило двадцать звонков от СМИ с просьбой предоставить им информацию. Я договорилась об обеде с Линкольном. Прилетала Петра, мы с ней условились посвятить вечер обсуждению проекта. Мне нравилось, что мой день расписан по минутам: оставалось меньше времени на размышления о вчерашнем телефонном звонке. Каждый раз после разговора с Кенни я чувствовала себя изнасилованной. Необходимо было лишить его такого влияния на мою жизнь.
Когда я готовилась к встрече с Линкольном, Петра позвонила. Она говорила с парижского вокзала, где ожидала поезд, и, не в силах молчать, намеревалась тотчас же сообщить мне потрясающую новость. Петра была влюблена – опять, но на этот раз все серьезно. Он – немецкий композитор, молодое дарование, большую часть времени проводит в Париже, и она уверена: он – тот самый, единственный. Я слушала вполуха: меня все это забавляло. Романы Петры всегда были бурными и короткими, но каждый раз она верила, что очередное увлечение – навсегда. Пока она рассказывала, я рассматривала себя в зеркале. Высокий рост, фигура грушевидной формы, бедра почти такие же широкие, как плечи, молочно-белая кожа, угольно-черные волосы на лобке. Но взгляд был затуманенным, а нижняя, чуть выпяченная губа, – шершавой. Я облизала ее и провела рукой по волосам. Они были пересушены. Я выглядела ужасно: события последних дней не прошли бесследно. Сумасшедшая неделя, во время которой я разрабатывала проект, оставила следы в студии: всюду валялись открытки и вырезанные женские лица, газеты и книги, грязная одежда, чашки из-под кофе и коробки с остатками еды, которую я заказывала на дом. Посредине возвышался манекен в черном парике.
Пока Петра сообщала новые детали своего романа, я надела черное белье, накрасила губы кроваво-красной помадой, подобрала с пола джинсы, майку и ключи. Я немного прибрала в квартире, а Петра все продолжала щебетать. Ее голос действовал так успокаивающе, что у меня сразу улучшилось настроение. За последнее время со мной произошло столько всего, что мне требовалось переключить внимание на что-то еще. И если кто-то и мог мне в этом помочь, так это Петра. Я была рада, что она приезжает. Наконец я положила трубку, закуталась в толстый искусственный мех, нажала на кнопку, и двери лифта открылись. Пора было ехать на обед. Выйдя из дома, я услышала привычный шум – резкие звуки улицы. Две страшные собаки жались друг к другу под навесом автобусной остановки, пытаясь спрятаться от дождя. Я села в такси, посылая им свою лучшую улыбку Моны Лизы.
Линкольн, зарабатывающий на хлеб в «Вечернем знамени» и одетый в костюм из магазина на Джермин-стрит, сидел в дальнем углу ресторана, ожидая меня. Пока я шла к нему, в зале наступила внезапная тишина. Посетители смотрели мне в спину. Тишина отвлекла Линкольна от размышлений, он поднял глаза и поднялся мне навстречу.
Все у Линкольна Стерна было бежевого цвета, – кроме его живых зеленых глаз. Он небольшого роста, напоминает фавна и носит вельвет: ну просто Квентин Крисп двадцать первого века.
– Эстер, дорогая, что ты задумала?
– Значит, ты видел «Кларион», – пробормотала я, пока мы в знак приветствия целовали воздух.
– Я был смертельно обижен, что при разрезании пирога первый кусок достался не мне, – ответил он, отодвигая для меня стул. За оживленностью речи ему не удалось скрыть свою досаду.
Подошел темноволосый официант с меню. Линкольн взял меню, игриво улыбаясь. Мы обедали в «Сент Джонс Клеркенвелл» – ресторане не броском, но с хорошей репутацией.
– Может, надо было поговорить со мной, прежде чем печатать свою последнюю статью? – улыбаясь, парировала я и села. – Такой удар с твоей стороны был для меня совершенно неожиданным. Не знаю, чем я это заслужила.
– Я лишь подчеркнул, насколько ты стала популярна, – сказал Линкольн, наливая мне воду, – а теперь, после этой идеи выставить себя на аукцион… Эстер, что, по-твоему, люди могут подумать? Все только об этом и говорят.
– Надеюсь, они не жаждут моей крови?
– Нет, на этот раз нет. Я думаю, большинство твоих почитателей искренне хотят, чтобы у тебя все получилось. Но это может оказаться твоим последним успехом. Что останется после того, как ты продашь себя? Ты права: в следующий раз они потребуют публичной казни.
– Перестань, Линкольн. Твой последний материал лишь усиливает всеобщее невежество в области современного искусства. Я ожидала от тебя большего.
– Ты мне льстишь. Но что ты имеешь в виду?
Самым невыносимым образом Линкольну нравилось, когда его ругали.
– Твой удел – разоблачать всякие тайные связи, а не называть современное искусство «вызывающим интерес общественности миром славы и всеобщего спаривания», как ты это сделал! – выпалила я.
– Всеобщего прелюбодеяния, Эстер, – с явным удовольствием исправил Линкольн и прикрыл губы салфеткой, чтобы спрятать гнусную ухмылку.
Раньше он был одним из моих доверенных лиц. Линкольн посещал Кортуолд вместе с Билли Смитом, когда я училась в колледже Сент Мартин. Он всегда с упорством терьера защищал нас и наши работы. Но с тех пор многое изменилось. Мы выросли. Теперь Линкольн умело пользовался той властью, которую давала ему профессия критика, и целью его последней статьи являлись высокие тиражи, а не стремление угодить мне. Как ни печально, но с этого момента мне придется держать под контролем еще и его.
– Как насчет говяжьего филе? – предложил Линкольн. – Для говяжьего мозга я что-то не в настроении.
Я кивнула:
– Я так хочу есть, что готова проглотить даже утюг.
Линкольн снова посмотрел на официанта:
– И проверьте, чтобы филе было с кровью. Много крови.
Бросив на меня быстрый взгляд, официант записал заказ.
– Я не отрицаю, что в твоих работах есть глубина, – задушевно продолжал Линкольн. – Я лишь отметил, что ты стала значить больше, чем все твои произведения вместе взятые. Таков феномен современного искусства: художник в центре всеобщего внимания, а его работы имеют второстепенное значение.
– Но это неправда. Возможно, я и стараюсь развлечь своих зрителей, однако истинную ценность имеет лишь мое искусство.
Линкольн деланно фыркнул:
– Только не для толпы. Для них искусство – это ты, моя дорогая.
Я вдруг заметила, что в зале воцарилась тишина. Я огляделась, и вслед за моим взглядом посетители опускали глаза в свои тарелки. Если мы не будем осмотрительнее, то устроим публичный скандал, который попадет в завтрашние газеты.
Я понизила голос:
– Я никогда не возражала против рекламы. Известность – составляющая успеха моего нового проекта.
– Может, мне написать статью, чтобы предостеречь тебя, Эстер?
– Продолжай.
Его глаза заблестели как масло.
– Ты летаешь слишком близко от Солнца. Мне неприятна мысль, что тебя может постигнуть участь Икара.
Я задумалась, действительно ли это его беспокоит или, как большинство людей, Линкольн с удовольствием посмотрел бы на мой провал.
Принесли еду, и мы с наслаждением впились в мясо. Пора сменить тему и рассказать Линкольну, что мне от него нужно.
– Полагаю, Кэти уже связалась с тобой? – спросила я.
– Да. Она звонила мне вчера. Жаль, что ты ничего не сказала мне раньше.
– Ты у меня в черном списке, – ответила я и глотнула воды. – Но то, что ты написал, задело меня за живое. Это главная причина, почему я вообще взялась за этот проект.
– Каким образом?
– Ну, ты утверждал, что я стала торговой маркой. Эти слова навели меня на мысль: сколько я на самом деле стою?








