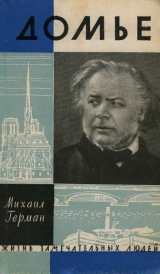
Текст книги "Домье"
Автор книги: Михаил Герман
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц)
Глава VI
«БЮРО КОРМИЛИЦ»
Голодные дни
Умеют они
Со счастьем сплетать пополам!
Беранже
На улице Сен-Дени стоял ничем не примечательный старый дом с осыпавшейся местами штукатуркой. Над окнами первого этажа – любопытный прохожий мог прочитать полустершуюся надпись: «Бюро кормилиц». В этой надписи не было ничего необычного – такие учреждения, служившие для найма провинциальных кормилиц, в Париже насчитывались десятками.
Но если бы какая-нибудь наивная провинциалка вздумала заглянуть в «Бюро», то она, очевидно, навсегда отказалась бы предлагать свои услуги в сумасшедшем городе Париже.
Вместо конторских столов, скромных писцов, вместо молодых матерей, ищущих кормилиц, в огромной комнате стояли мольберты, за которыми решительные и лохматые молодые люди размахивали кистями. Висел густой дым трубок и дешевых сигар. Маленький и очень смуглый человек сидел, вытянув вперед деревянную ногу, и напевал песню на испанском языке. На кособоком столе расположились бутылки с вином, куски хлеба и колбаса.
Домье, Жанрон и несколько других молодых художников решили снять общую мастерскую. Повлияло ли на их выбор чувство юмора или невысокая арендная плата, но они сняли для этой цели пустующее помещение «Бюро». Этим и объяснялась таинственная метаморфоза, превратившая почтенное заведение в шумное ателье.
Прежнее назначение конторы неизменно поддерживало хорошее настроение ее нынешних обитателей. Название «Бюро кормилиц» осталось за новой мастерской.
Вместе с Жанроном, Домье, молодыми пейзажистами Каба и Юэ здесь работал юный испанец с длинным и пышным именем – Нарсис Вержиль Диаз де ла Пенья. Когда-то он учился с Жанроном. Диаз был хром, вместо одной ноги у него была, как он сам говорил, «деревяшка». Ногу Диаз потерял в раннем детстве из-за укуса ядовитой мухи. К своему увечью он относился спокойно, ухитрялся со своей «деревяшкой» не только много ходить, но даже танцевать и плавать. Он увлекался романтиками, был влюблен в Делакруа. Диаз писал довольно банальные сюжеты – нимф, богинь, экзотические восточные сцены, но необыкновенно широко, уверенно и богато по цвету. Его холсты будто светились изнутри. Он подолгу просиживал перед своим мольбертом, распевая испанские песни, и время от времени вступал в беседу острой и грубоватой фразой. Его языка побаивались.
Жанрон успевал и работать, и разговаривать, и заниматься массой других самых разнообразных дел.
Он заканчивал новое полотно «Парижская сцена». Чем-то оно напоминало «Июльского героя» Домье. Когда-то и Жанрон сделал литографию «Он умирает от истощения, потому что слишком долго жил надеждами». Там был изображен умирающий от голода рабочий рядом с рогом изобилия, из которого сыплются бумаги и законопроекты. Почти на ту же тему Жанрон теперь писал картину. Он изобразил рабочего, голодного, нищего, окруженного детьми, который просит милостыню на набережной Сены. Мимо него только что прошла нарядно одетая пара, парижский пейзаж невозмутимо красив и безмятежен. Картина была искрения, как Жанрон, и, как Жанрон, простодушна. Он словно не верил в свои силы и, чтобы подчеркнуть бедность героя, изобразил рядом прогуливающихся бездельников и щегольски одетого всадника.
Домье был уверен, что, оставь Жанрон на картине только рабочего, одного на пустынной набережной, картина только выиграла бы. Но Жанрона он не мог переубедить.
Занимаясь живописью, Жанрон успевал еще сотрудничать в журналах, писал туда свои статьи и читал их вслух товарищам.
Здесь часто бывал скульптор Огюст Прео, друг Домье и Жанрона. Он, однако, приходил сюда не для работы. С утра до вечера он навещал своих многочисленных приятелей, зимой – отогреваясь в их мастерских, а летом – соблазняя товарищей на загородные прогулки.
Каждый раз, появляясь на пороге ателье, Прео спешил сообщить какую-нибудь ошеломляющую новость. Он знал Гюго, Делакруа, Ламартина, был в курсе всех событий литературной и художественной жизни. Для «Бюро кормилиц» он служил живой газетой. Неуклюжий, косоглазый, коротконогий, Прео был на редкость некрасив, но зато умел говорить живо и занимательно. Об искусстве и жизни он мог рассуждать часами, любил высокопарные сентенции. Нередко Прео озадачивал своих друзей туманными высказываниями, над смыслом которых сам едва ли успевал задумываться. «Живопись – дочь любви и света», – изрек он как-то раз на удивление всем присутствующим.
Особенно он любил беседовать с Домье, очевидно, больше всего потому, что тот покорно выслушивал все его речи. Лишенный дара молчания, Прео очень ценил его в других. А Оноре действительно с удовольствием слушал Прео; в его трескучей болтовне было много дельного и интересного. Главное же, он был хорошим художником. Неизвестно когда, Прео все же успевал работать, горячо любил свое нелегкое искусство, требующее огромного, часто неблагодарного труда.
Сам занимаясь лепкой, Домье начинал понимать, что скульптура, как никакое другое искусство, не терпит мелочности и пустоты. В рисунке можно допустить неопределенность штриха, расплывчатость пятна. А в скульптуре не может быть невыразительных и «глухих» мест, там все должно быть строго и определенно. Прео любил повторять замечательные слова Дидро: «Скульптура предполагает восторги более длительные и глубокие, вдохновение более сильное, хотя и сдержанное внешне, неприметный и тайный пламень которого кипит в душе. Это муза страстная, но молчаливая и скрытная». Прео хвалил скульптурные работы Домье, хотя и находил, что они сделаны без всяких правил. Над Оноре он часто подсмеивался и говорил, что «молчание – добродетель слабых».
Однажды на пороге «Бюро кормилиц» появилась дородная розовощекая дама средних лет и осведомилась, здесь ли живут «молодые люди, которые рисуют картины».
Получив утвердительный ответ, посетительница приступила к делу. Она решила пойти на любые расходы и заказать себе большую красивую вывеску. За деньгами она не постоит и за хорошую работу не поскупится заплатить франков двадцать пять– тридцать.
– Простите, мадам, – очень вежливо спросил Жанрон, с трудом сохраняя серьезность, – о какой именно вывеске вы изволите говорить?
– Известно, о какой. Она должна быть яркая, приятная на вид, чтобы привлекать клиенток,
– Чем же занимается мадам?
– Я акушерка!
Диаз фыркнул, спрятав голову за мольберт. Домье отвернулся к окну. Но Жанрон взял себя в руки и начал деловой разговор. Денег ни у кого не было, и даже этот курьезный заказ был большим подспорьем. Жанрон проявил настойчивость не меньшую, чем заказчица. Сошлись на пятидесяти франках.
Когда акушерка ушла, в мастерской поднялся гомерический хохот. Писать вывеску для акушерки в «Бюро кормилиц» – такое и нарочно нельзя было придумать! Диаз отпустил по этому поводу несколько совершенно непристойных острот
За вывеску взялись Домье с Жанроном. Работа подвигалась медленно – друзья слишком много смеялись.
Каждый день Оноре старался урвать хоть полчаса на серьезную живопись. Недавно он написал автопортрет, благо модель была терпелива и не стойла ни сантима. Домье долго с ним бился. В зеркале лицо упрямо приобретало унылое, натянутое выражение. Оноре привык наблюдать жизнь, но не писать с натуры. Таким, каким он получился на портрете, Домье бывал лишь в редкие минуты раздражения или усталости. На самом деле в лице его было много мальчишеского, несмотря на окаймлявшую щеки бородку, которую он отпустил в Сент-Пелажи. Его большой рот легко распускался в совершенно детскую улыбку, глаза смотрели со спокойным добродушием. Товарищи почти никогда не видели, чтобы он сердился.
Портрет Оноре не понравился, и он забросил его за папку со старыми рисунками.
В живописи вообще для Домье было много непонятного. Когда он работал над литографией, сомнения его не мучили, все было ясно: надо было как можно сильнее поразить врага. Карикатуры были как стрелы, которые, ужалив, бесследно исчезают.
В живописи было не так. Картина живет долго, она вызывает радостное, острое волнение, она должна помочь человеку любить жизнь, часто трудную и неласковую к нему. Оноре не хотел, чтобы его искусство только обвиняло, только сражалось. Ведь в жизни при всей ее сложности и мелочных заботах было много светлого. Это, наверное, и стоило писать. Чем больше видел Домье уродливого и несправедливого, тем больше тянуло его изображать то устойчивое, ясное, что составляет лучшую сторону жизни.
Сосредоточенный творческий труд, когда часы текут, незаметно растворяясь в работе, был для Оноре самым радостным и дорогим временем. Быть может, поэтому он и стал писать то, что было для него близким и понятным: художника за работой.
Оноре написал своего приятеля, гравера-офортиста Луи Леруа. Домье познакомился с ним в Сент-Пелажи, куда Леруа угодил за слишком откровенно высказываемую ненависть к монархии. Они часто говорили о днях заключения, ставших для обоих скорее приятным, чем тягостным, воспоминанием. Леруа много работал – целые дни просиживал он за столом, согнувшись над доской. Даже разговаривая, он не поднимал от стола свою темноволосую растрепанную голову. Леруа был высок, худ, носил маленькую мохнатую бородку. У него была большая семья и очень мало денег.
Домье так и написал Леруа, как чаще всего видел: сидящего в своем немыслимом рабочем балахоне, согнувшись в три погибели перед окном мастерской. В глубине комнаты домочадцы греются у маленькой печки. Оноре писал сцену, которую видел множество раз и мог представить себе с закрытыми глазами.
Еще не начав заниматься живописью, Оноре приобрел некоторый опыт в скульптуре, не говоря о литографии. Поэтому он четко представлял себе, чего он ищет в живописи: возможности передать неразрывную связь предметов в пространстве, прозрачность воздуха и света. Ведь именно живопись способна воссоздать радостное ощущение единства и цельности мира.
Домье думал об этом, когда работал над своей маленькой картиной. Он с увлечением писал яркий свет, льющийся в мастерскую, темную фигуру художника, склоненного над доской. Ему хотелось передать пронизанный светом воздух, в котором все фигуры, предметы растворяются, теряя яркость цвета и резкость очертаний.
Он не смог добиться всего, чего хотел. Кое в чем Оноре слишком усердно, хоть и бессознательно, следовал Рембрандту: эффект темного силуэта на фоне светлого окна был, конечно, подсказан великим голландцем. Цвет кое-где был резок, кое-где глуховат. Да и вообще Оноре редко бывал доволен собой. Но сейчас Домье многому научился, и главное, то, что он хотел, получилось: в картине было спокойное напряжение творчества, радость от того, что человек живет, работает, дышит, слышит голоса близких.
Но живопись по-прежнему оставалась для Оноре роскошью.
Приходилось возвращаться к литографской работе или к той же вывеске для акушерки.
К счастью, вывеску они, наконец, кончили.
Заказчица осталась чрезвычайно довольна и вручила художникам обусловленный гонорар: два золотых луидора и два серебряных пятифранковика.
– Поздравляю вас, друзья и братья! – сказал Прео. – Отныне весь Париж будет любоваться вашим искусством. Под сенью вашей живописи будут появляться на свет юные парижане. Вы на верном пути к славе. Великий немец Ганс Гольбейн-младший тоже начал с вывески, правда сделанной не для акушерки, а для школьного учителя. Кстати сказать, на ней было написано, что тем, кто не научится читать, деньги возвращаются обратно.
– Виват! – воскликнул Диаз. – Как жаль, что мы не знали этого раньше! Подумать только, какую бесподобную надпись можно было бы сочинить для вывески нашей акушерки!
ГЛАВА VII
УЛИЦА ТРАНСНОНЕН
Этому страшно поверить, но это правда.
Гюго
9 апреля 1834 года в Лионе началось новое восстание рабочих.
Его подавляли с неслыханной жестокостью. Взрывали дома, если из них стреляли повстанцы. Под грудами кирпича гибли десятки ни в чем не повинных женщин и детей. Всех, у кого «руки и губы казались почерневшими от пороха», расстреливали на месте без суда и следствия.
Начавшись в Лионе, восстание вспыхнуло затем в Гренобле, Сент-Этьене, Марселе и многих других городах.
В Париже тоже готовились к восстанию. Но как только стало известно о начавшихся волнениях в Лионе, столичная полиция немедленно арестовала почти всех республиканских деятелей и руководителей восстания.
Правительство, однако, было заинтересовано в том, чтобы восстание началось и в Париже. Вызвав беспорядки, можно было одним ударом покончить с мятежниками. Власти подготовились к расправе с «бунтовщиками»: в город со всех концов департамента было стянуто более сорока тысяч солдат.
Первые баррикады с провокационной целью возводились полицией. Солдат по особому приказу напаивали почти допьяна. Войска вели себя вызывающе. 13 апреля обезглавленное, обреченное на неудачу парижское восстание все же началось.
Русский посол в Париже Поццо ди Борго сообщал в Санкт-Петербург, что французское правительство, «почувствовав уверенность в победе и полагая извлечь преимущества из подавления готовящегося мятежа, предоставило ему возможность вспыхнуть, для того чтобы потом задушить».
Инсургенты, лишенные руководителей, разобщенные между собою, стойко и мужественно сопротивлялись. Но силы были слишком неравны. Баррикады разбивали пушечными ядрами. Войска буквально затопили улицы. Восстание потерпело поражение.
14 апреля стрельба еще не прекращалась. Город напоминал вооруженный лагерь. Канониры дежурили у пушек с зажженными фитилями. На углах стояли патрули, новые и новые батальоны пехоты проходили по улице Сен-Дени, мимо «Бюро кормилиц».
Ночью послышалась пальба со стороны улицы Транснонен, где была одна из самых больших, построенных повстанцами баррикад.
На рассвете стрельба стихла.
Пороховой дым рассеялся, остался лишь чуть уловимый запах гари. Утро наступило теплое, почти летнее. Но обитатели квартала Сен-Дени, взбудораженные зловещими слухами и ночной стрельбой, не радовались ему.
На улице Транснонен собиралась толпа, больше всего народа было перед домом № 12. Жандармы старались оттеснить людей назад.
Стояла тишина. Никто не говорил громко, только слышались чей-то плач и голос жандармского бригадира, уговаривавшего людей разойтись,
Толпа прибывала. Подходили торговцы, рабочие, мелкие рантье, случайные прохожие.
Дом с выбитыми стеклами, с сорванной дверью казался нежилым. Мостовую покрывали осколки стекла, черепки цветочных горшков, куски отвалившейся штукатурки.
У подъезда стояли тяжелые фургоны.
В толпе пронесся гул:
– Несут… несут…
Из подъезда вышли санитары с носилками. Тела на них были покрыты простынями, лиц не было видно. Но многие из стоящих здесь знали погибших по именам. Старуха, консьержка соседнего дома, говорила, всхлипывая и дрожа всем телом:
– Святая дева Мария! Ведь я всех их знала… Старый мсье Брефор такой был тихий человек, мухи не обидит. Еще вчера он жаловался на стрельбу: «Который раз, – говорит, – на моем веку стреляют, не дадут спокойно умереть…» Подумать только! И мсье Добиньи, и мсье Гитар… А мадам Боннвиль!.. Сколько лет они здесь жили… Кто мог знать, что такое случится…
Из подъезда вынесли двенадцать трупов.
Фургоны тронулись, развернулись и медленно покатились по направлению к городскому моргу.
Толпа не расходилась.
Притихшие, подавленные люди переговаривались вполголоса.
Домье, с воспаленными от бессонной ночи глазами, потрясенный тем, что он видел и слышал, провожал взглядом удаляющиеся повозки.
Старая консьержка рассказывала:
– Я вчера рано закрыла двери, все жильцы уже были дома – кто в такое время задержится на улице? Я уже хотела уйти к себе, смотрела, хорошо ли закрыты ставни. Вдруг – бах! бах! – выстрелы совсем рядом, из дома двенадцать. Я только видела, как упал офицер, что шел с отрядом солдат, и убежала к себе. Потом слышу стучат туда, стали ломать дверь… О господи, никогда не смогу забыть, как там в доме кричали! Посыпались стекла… Выстрелы, шум! Не дай бог второй раз пережить такое…
Мало-помалу Домье понял, что произошло ночью.
Пулей, пущенной из дома № 12, был убит офицер тридцать пятого линейного полка. Жильцы попрятались по своим квартирам. Когда солдаты стали стучаться в дом, многие обрадовались – боялись повстанцев. Двое жильцов пошли вниз, чтобы открыть двери. Жена одного из них, мадам Добиньи, обогнала мужа и сняла засов. Это спасло ей жизнь. Ворвавшиеся в дом солдаты оттолкнули ее и навели ружья на спускавшихся по лестнице Добиньи и Гитара. Раздался залп. Оба упали, не успев даже вскрикнуть.
На третьем этаже солдаты начали взламывать дверь в квартиру старика Брефора. Ничего не подозревавший, он сам открыл дверь. Увидев направленные на него ружья, он стал умолять офицера:
– Господин офицер, у нас нет оружия, не убивайте нас!
Три штыка вонзились ему в грудь. Падая, он страшно закричал. Соседка, Аннет Бесон, бросилась старику на помощь. Солдат ударил ее штыком в лицо и выстрелом в упор размозжил голову.
Был дан приказ не щадить никого. Убивали всех подряд: женщин, детей. Полупьяные, озверевшие солдаты стаскивали людей с постели, кололи штыками, били прикладами, рукоятками пистолетов. Кое-кто из жильцов пытался выброситься из окна. Другие, видя смерть близких, сами бросались на штыки. Тех, кто пробовал сопротивляться, убивали с особенной жестокостью.
Некоторые солдаты сами испугались сделанного. Уходя, они украдкой говорили оставшимся в живых: «Нам приказали, мы обязаны повиноваться, мы еще несчастнее, чем вы…»
Толпа постепенно редела. Подмели улицу. В отдалении слышались последние выстрелы апрельского восстания.
Домье еще долго смотрел на затихший, безжизненный дом, потом повернулся и зашагал прочь. Взгляд бессознательно замечал отдельные картины: солдата на углу, сосредоточенно чистившего ружье, остатки разрушенной баррикады, тележку зеленщика. Но мысли упорно возвращались к минувшей ночи. Оноре казалось: он видит смертельную борьбу в темных душных комнатах, окровавленные простыни, слышит хриплое дыхание, стоны, проклятья, мольбы о пощаде, глухие удары. Страшно было поверить, что это произошло здесь, рядом, в двух шагах от «Бюро кормилиц», в самом сердце веселого города Парижа. И, наверное, то же самое происходит сейчас в Лионе, Гренобле, Безансоне, во всех охваченных восстанием городах.
Никогда еще Домье не чувствовал себя таким подавленным и усталым, как будто сразу постаревшим на десять лет.
В редакции «Карикатюр» Филипон сказал Домье:
– Адвокат Ледрю-Роллен будет писать брошюру о резне на улице Транснонен. Если только не вмешается цензура, Франция получит документ об этом гнусном преступлении.
– Но неужели же правительство и сейчас останется в стороне? – наивно воскликнул кто-то из присутствующих журналистов.
– О нет! – ответил Филипон со своей обычной язвительной улыбкой. – Нет, в стороне оно не останется. Уже сегодня в палате вотируется благодарность армии за доблесть, проявленную при подавлении «мятежа».
Разгромив восстание, правительство июльской монархии прочно утвердилось во Франции. Триста с лишним участников апрельских боев должны были предстать перед судом палаты пэров. Снова были переполнены тюрьмы. Реакция торжествовала победу.
Домье забыл о живописи, отдавая все время газетной работе. Его рисунки, сделанные в апреле и мае, нельзя было назвать карикатурами: там не было решительно ничего смешного.
Ранним утром 15 апреля, когда Оноре стоял перед домом на улице Транснонен, что-то изменилось в его душе. Из его карикатур исчезла улыбка. Ирония заменилась в них горьким и жестким сарказмом.
22 апреля Париж хоронил генерала Лафайета.
Дряхлый генерал, преданный и обманутый Луи Филиппом, давно уже сошел с политической арены. Но он оставался живой реликвией прошлой французской славы, и огромная толпа шла за катафалком, как бы прощаясь с уходящей эпохой.
Домье сделал литографию «Похороны Лафайета». Он нарисовал окруженный толпой катафалк, медленно движущийся к кладбищу Пер-Лашез. На переднем плане Оноре изобразил Луи Филиппа в костюме факельщика. Он одет в черное. Траурный креп спускается с цилиндра, руки сложены как для молитвы. Король низко склонил голову, словно удерживая рыдания. Лицо полускрыто полями низко надвинутой шляпы.
И лишь довольная усмешка, растягивающая губы Луи Филиппа, выдает истинные чувства короля: глубокое удовлетворение тем, что, наконец, ушел с его пути Лафайет – человек, которому он был стольким обязан и которого он не переставал опасаться. Фигура Луи Филиппа выделялась густым темным силуэтом на фоне прозрачно нарисованного пейзажа. Домье долго бился над силуэтом, он не хотел, чтобы мысли короля раскрывались только улыбкой. В конце концов и вся фигура монарха, с согнутыми в коленях толстыми ногами, стала казаться памятником лицемерию, возвышающимся над зрелищем народного горя.
«Попался Лафайет, получай, старина!» – было написано под литографией.
«Факельщик, ликуя, аплодирует, – писал об этом рисунке Филипон, – в то время как в отдалении движется процессия, сопровождаемая огромной толпой. Эта процессия, судя по названию литографии, хоронит величайшего гражданина, которого Франция будет оплакивать не один месяц. Факельщик, мне кажется, это образ, олицетворяющий рвущуюся наружу радость по случаю избавления от заклятого врага».
Эта работа Домье была большим шагом вперед. Мало-помалу линии и пятна начинали ему подчиняться и создавали тот ритм и настроение, которых требовал смысл рисунка.
Наступило лето. Но события апрельской ночи все еще не изгладились из памяти Домье. Он постоянно возвращался мыслями к мрачному дому на улице Транснонен. Там давно вставили стекла, поселились новые жильцы, дети играли на плитах тротуара, консьержка у дверей вязала бесконечный чулок.
Но Домье по-прежнему видел этот дом таким, как в то утро, когда из него выносили тела убитых.
В конце концов он взялся за карандаш.
Как изобразить эти страшные минуты? Нарисовать потоки крови, раны, трупы нетрудно. Легче всего испугать зрителя, создать сильный, бьющий по нервам эффект. Но этого можно достигнуть и нарисовав человека, попавшего под экипаж. Надо, чтобы литография вызывала не столько страх перед смертью, сколько гнев против убийц.
Домье был убежден, что без сдержанности и простоты не может быть настоящего искусства. Он решил нарисовать комнату на рассвете, когда давно уже стихла стрельба и в доме воцарилось зловещее молчание склепа.
…Тусклые лучи дневного света падают в маленькую полутемную комнату. Они бесстрастно освещают картину чудовищного разгрома. На пол свисают простыни с развороченной постели. Воздев к небу скрюченный подлокотник, свалилось набок старое кресло.
В холодном свете наступающего дня видна фигура упавшего навзничь человека. На ночной рубахе пятна засохшей крови. Полуоткрытый рот обнажает полоску зубов. Человек мертв. На лице его сохранилось выражение муки и гнева. Он упал прямо на тельце своего ребенка, смешав свою кровь с его кровью.
Как должно быть страшны были последние минуты жизни этого человека, когда в темноте, даже не видя своих врагов, он голыми руками дрался с солдатами, чьи штыки уже были в крови его родных!
Рядом на полу видна голова мертвого старика. Лицо его застыло и заострилось, редкие седые волосы рассыпались по полу. В глубине комнаты – едва различимый в полумраке труп женщины.
Время остановилось. Все тихо и неподвижно. Темные зловещие пятна сохнут на полу.
Но Домье не хотел изображать мучеников. Упавший на пол у своей постели человек был бойцом. Пусть ои погиб не на баррикадах и не с оружием в руках, но он боролся из последних сил, до последнего вздоха.
И потому, даже рисуя его мертвым, в одной рубахе и ночном колпаке, Домье не сделал его жалким. Напротив, этот нелепый ночной наряд подчеркнул мускулистое тело, размах плеч. Именно бойца Оноре поместил в центре рисунка и именно на него направил лучи света. Пусть этот образ, где слились воедино холодная неподвижность смерти и застывшее движение борьбы, станет главным в рисунке… Домье хотел, чтобы литография рождала не жалость, а гнев.
Два с половиной года прошло с того дня, как «Гаргантюа», выставленный в окне магазина Обера, Привлек толпу негодующих зрителей. И вот, как прежде, новая литография Домье «Улица Транснонен 15 апреля 1834 года» останавливает людей.
В галерее Веро-Дода душно. Нагретый воздух тяжел. Но народу все больше. У входа в пассаж образуется очередь. Над толпой нависла тишина, в солнечный июльский день ворвалось мрачное напоминание о недавней трагедии. Кто-то невольно снял шляпу. Какая-то женщина всхлипнула. Люди отходили от витрины, уступая место другим, и снова возвращались.
Потом молчание прервалось возгласами:
– Позор палачам!
– Убийцы!
– На фонарь негодяев!
– Да здравствует республика!
Спрашивали друг у друга имя художника. Называли Оноре Домье – его уже многие знали.
Повторялась история с «Гаргантюа». Пачки еще не распроданных литографий были конфискованы и сожжены. Но на этот раз Домье избежал судебного преследования. Готовился суд над участниками апрельского восстания, и правительство боялось излишних напоминаний о событиях на улице Транснонен.
«На эту литографию страшно смотреть, она поражает так же, как само событие, которое воспроизводит, – писал Филипон в «Карикатюр». – Этот убитый старик, мертвая женщина, этот покрытый ранами человек, упавший на труп бедного малютки с разбитой головой… Это не карикатура, не шарж, это кровавая страница современной истории, страница, созданная гневной рукой и продиктованная благородным негодованием. Домье в этом рисунке достиг небывалой высоты. Он сделал картину, которая, будучи лишь черно-белым рисунком на листе бумаги, не стала от этого ни менее значительной, ни менее долговечной. Бойня на улице Трансноиен останется несмываемым пятном на ее виновниках. Рисунок, о котором идет речь, – это своевременно вычеканенная медаль в память о победе, одержанной над дюжиной стариков, женщин и детей…»







