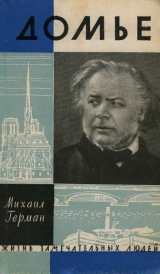
Текст книги "Домье"
Автор книги: Михаил Герман
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 17 страниц)
Сейчас Домье уже не спрашивал себя, что писать. Ему не приходилось искать сюжета, где раскрывалась бы суть эпохи. Действительность, реальные события властно входили в его искусство. Множество лиц, эпизодов восстания теснились в воображении Домье. Он работал как в лихорадке, и только наступающие сумерки могли заставить его отложить кисть.
Другой холст, чуть меньше предыдущего, был вытянут по вертикали. Здесь Домье окончательно отказался от всякого повествования.
Место действия едва обозначено. Лишь в самой глубине картины виднеются сквозь дым крыши домов и клочок тусклого неба.
Затопившая улицу толпа погружена в полумрак. Безликая масса, подобно невидимому в ночи, но грозному и могучему валу, неудержимо катится вперед.
А на первом плане освещенная солнцем фигура белокурого юноши в светлой одежде рассекает по диагонали темное полотно. В его стремительном порыве воплощается сила огромной толпы, как накопленное в тяжелых тучах электричество в ослепительной молнии. Повинуясь его движению, сливаясь с ним воедино, следуют за юношей его товарищи. Лица выхвачены из тьмы мерцающими отблесками света: молодой человек в цилиндре, старуха, мальчик – лица разных людей и поколений. Не видно цели, к которой они стремятся, не видно их врагов. Это сама стихия борьбы и жажды свободы, душа и страсть восстания.
Но не было здесь бессмысленной и слепой силы. Светлое лицо юноши, пылкое одушевление людей, горячее пятно красного знамени – все это придавало событию ясность осознанного и справедливого порыва.
Домье слил воедино романтику своих молодых лег и суровую реальность нынешней действительности. Он не ввел в картину сказочную Свободу, как Делакруа; не создал он и точного протокола событий. Но, даже лишенный подробностей и деталей, почти символический образ восстания целиком принадлежал XIX веку. Драматические контрасты света и тьмы, сила народного гнева – все вплоть до лиц и одежды было неотделимо от эпохи. Вот он, строгий лик времени, который так долго и тщательно искал Оноре Домье.
«Улица Транснонен» была свидетельством событий 1834 года. Картина «Восстание» стала свидетельством событий века.
Домье еще продолжал работать над этими холстами, когда новые трагические события потрясли Париж.
Правительство начало расправу с национальными мастерскими. Почва для этого давно была подготовлена. Крестьянам и мелкой буржуазии с февральских дней внушалось, что именно содержание мастерских приводит к повышению налогов, что рабочие благоденствуют на чужой счет. Крестьянство было настроено против рабочих и их политики.
22 июня появилось постановление о призыве в армию всех молодых рабочих, состоявших в национальных мастерских. Рабочие старше двадцати пяти лет отправлялись в провинцию. Правительство хотело либо избавиться от своего главного врага – пролетариата, либо вызвать его на решающее сражение и разгромить: в Париже было сосредоточено около двухсот тысяч солдат. Рабочие понимали, что правительство угрожает политическим переворотом. Они соглашались покинуть Париж лишь после того, как будет принята конституция, «которая, – как было сказано в письме Центрального бюро бригадиров национальных мастерских, – обеспечит неприкосновенность священной для нас республики; после того как это будет сделано, мы подчинимся законам… Да здравствует демократическая и социальная республика!»
Правительство заявило, что если рабочие не подчинятся, оно применит силу. Возмущение пролетариата достигло предела.
23 июня вспыхнуло восстание.
Больше сорока тысяч вооруженных рабочих вышли на улицы Парижа.
Снова вздыбились баррикадами мостовые. На красных знаменах восставших были надписи: «Хлеба или свинца! Свинца или работы!», «Жить работая или умереть сражаясь!»
Одно время победа восставших казалась решенной. В их руках находилась половина Парижа.
Правительство пошло па последнее средство: оно вверило власть генералу Кавеньяку, завоевателю Алжира, известному жестокими расправами над мирным населением.
Стояла жара. Раскаленные стены домов, плиты тротуаров не остывали за ночь. Удушливый запах гари, пороха, крови наполнял улицы. Обыватели попрятались по домам. Слышался тяжелый грохот пушечных колес по булыжникам. По приказу Кавеньяка к месту сражений стягивались новые артиллерийские батареи. В Париж прибывали подкрепления из Руана, Гавра, Орлеана, Поитуаза.
25 июня началось наступление правительственных войск. По баррикадам велся непрерывный артиллерийский огонь. Укрепления повстанцев обстреливались по десять-двенадцать часов подряд. У инсургентов же не было ни одной пушки.
26-го был взят последний оплот восстания – предместье Сент-Антуан. Кавеньяк обратился к тем, кто не хотел сдаваться, уговаривая их сложить оружие: «Придите к нам, придите, как раскаявшиеся и покорные закону братья, и объятия республики открыты для вас!»
Воззвания Кавеньяка еще приклеивали на стены домов, а в казармах уже расстреливали пленных рабочих. В предместье Сен-Жак выбрасывали из окон верхних этажей детей и женщин. Двадцать пять тысяч арестованных были заперты в многочисленных тюрьмах, в подвалах Тюильри. Многие были лишены еды и питья. На воротах Люксембургского сада висел замок – его аллеи были так залиты кровью, что для их очистки понадобилось две недели. Пленных топили в реке, рубили саблями, кололи штыками.
Все было кончено. Город переполняли войска: улицы загромождали пушки, палатки, коновязи; дымились костры. То и дело проходили большие, по нескольку сот человек, группы арестованных. Их окружал двойной ряд солдат, сзади двигались кавалеристы – огромные кирасиры с конскими хвостами на касках. Вновь появились нарядные коляски: считалось модным «ездить смотреть» места боев, разбитые дома. Курс государственных бумаг повышался. 28 июня Кавеньяк был назначен главой исполнительной власти французской республики. Национальные мастерские окончательно ликвидировались. Вскоре правительство возобновило денежный залог для газет: демократическая печать снова лишалась возможности для существования.
«Шаривари» сильно переменилась. После февральской (революции ее лучшие редакторы занялись политической деятельностью и оставили газетную работу. «Шаривари» постепенно теряла свое лицо и сейчас окончательно превратилась в развлекательный листок, весьма лояльный по отношению к правительству. Домье мог делать для «Шаривари» лишь самые безобидные литографии. Но он не переставал издеваться над лавочниками, облаченными в мундиры Национальной гвардии, над напуганными революцией обывателями. На одной из его литографий буржуа, робко глядя на играющих в войну мальчишек, говорил супруге: «Куда идет эта толпа вооруженных людей? Вернемся, жена, мне страшно».
Снова Домье оказался за пределами политической борьбы. Разумеется, он не принадлежал к числу тех, очень немногих людей, которые ясно представляли себе пути и судьбы революции. Но Домье отлично видел, что народ обманут, как и восемнадцать лет назад. А бесчеловечное избиение рабочих со всею очевидностью показало, чего следует ждать от буржуазной республики. Времена розовых надежд давно миновали для Домье. Казалось бы, он был готов ко всему, но зрелище Парижа, снова залитого кровью тысяч людей, леденило его душу. Надписи на стенах: «Французская республика. Свобода, Равенство, Братство» – словно глумились над памятью убитых. Что думали, глядя на эти прекрасные слова, пленные рабочие, которых вели на расстрел или отправляли в ссылку?
Но сейчас Домье даже в период самых строгих цензурных ограничений мог выразить свои чувства в живописи. Теперь он видел и воспринимал мир глазами живописца. Раньше он казнил зло – это был логичный и естественный путь для рисовальщика и карикатуриста. Ныне он утверждал правду и героику – что могло быть более достойной задачей для живописца? Недаром писал он «Восстание», недаром на его мольберте стоял портрет безыменного инсургента – воспоминание о лице, мелькнувшем где-нибудь на баррикадах. Домье написал этот портрет сильными закругленными мазками: горящие глаза на спокойном лице, жесткие губы, нахмуренный лоб. В его искусстве продолжал жить любимый герой: рабочий, боец, человек ясной и мужественной души.
После июньских дней Домье обратился к новой теме, горькой и необычной для него.
К этому мотиву он возвращался несколько раз. То, что он изображал, было связано с сегодняшними событиями не сюжетом, а только чувством и настроением.
Домье писал изгнанников, беглецов. Унылая равнина, заросшая бурой травой. Низкое солнце с трудом пробивается сквозь сизо-желтые клубящиеся облака. Тусклый его свет падает на узкую извилистую дорогу. По ней идут люди. Идут, согнувшись, борясь со свистящим порывистым ветром, отвернувшись от солнца, в сумрачную даль, где нет ничего, кроме туманной мглы. Лиц их не видно, они словно боятся оглянуться, боятся замедлить свой неуклонный шаг. Идут женщины, мужчины, бредут, спотыкаясь, измученные, усталые лошади. Все в движении. Ни в одной фигуре, ни в одном мазке нет покоя: развеваются от ветра плащи, длинные тени, как живые существа, стелются по земле. Краски скупы и тревожны: серые, оливковые, коричневато-желтые тона неожиданно разрывались вспышками красных мазков. Обреченность и одиночество наполняли крохотную картину.
Изгнание, крушение надежд, пустота впереди – все это стало сейчас уделом тысяч и тысяч французов. Народный порыв и народное отчаяние, подвиг и горе – все события последних дней оживали в работах Домье.
Хотя Домье нередко спорил своим искусством с романтиками, здесь он все же отдал дань романтизму: взволнованные контрасты цвета, порывистость движения, энергичные, сильные мазки. Иначе и быть не могло: он жил своим временем. Но смятенные чувства картины Домье были продиктованы не жаждой необычного, как у романтиков, а реальными событиями жизни.
Тема «Эмигрантов» надолго захватила Домье. Он написал несколько вариантов. Потом стал лепить барельеф: шагают люди тяжело и неохотно, с трудом удерживая на плечах грузные тюки. Хотелось доискаться самой сути движения, найти максимально простые, единственно правильные линии и формы. Жажда совершенства с юности мучила Домье и становилась особенно горькой, когда хотелось выразить большие события и чувства. Эта жажда и заставляла его постоянно возвращаться к одним и тем же образам и сюжетам.
Больше всего сомнений и колебаний испытывал Домье, заканчивая работу. Где надо остановиться, чтобы картина выразила все, что хочет художник, и не стала при этом сухим перечнем деталей?
Жизнь полна движения, а фигуры на холсте неподвижны, и чем больше зализана, отделана картина, тем более застылыми они становятся. Энергичный порывистый мазок, лишь намекая на жест, возбуждает воображение зрителя и заставляет его домыслить то, чего нет на холсте. Но где эта граница? Как найти это единственное мгновение, когда уже ничего нельзя прибавить к сделанному?..
К тому же приходилось непрерывно рисовать для заработка – ведь, кроме вывески для акушерки, Домье в своей жизни не продал ни одной картины. Эскиз «Республики» он давно отставил, да и республика не вдохновляла больше Домье. Аванс был давно прожит. Снова приходилось отказываться от драгоценных дневных часов ради литографий. Пожалуй, никогда еще не рисовал Домье с таким равнодушием, как сейчас: все мысли он отдавал живописи. Лишь приобретенный с годами опыт выручал его.
В июле в мастерской появился гость. И это новое знакомство несколько отвлекло от невеселых размышлений.
Гость этот был еще совсем молодым человеком с красиво изогнутыми темными бровями. Щеки его пылали от волнения. Он отрекомендовался Теодором де Банвилем – сотрудником журнала «Корсар» и страстным поклонником Домье. Он умолял Домье сделать рисунок для заголовка его журнала: аллегорию прессы, сокрушающей пороки.
Домье долго отнекивался, ему смертельно не хотелось делать рисунок для гравюры. Но отказать этому юноше у него не хватило жестокости.
– Послушайте, – сказал он, – без фраз – вы мне очень нравитесь, и, чтобы сделать вам приятное, я готов на все, кроме этого рисунка; кто бы его ни сделал, все равно он будет глупым… И к дьяволу все аллегории! Такого хлеба не едят в моей семье.
Домье было достаточно мучений с «Республикой».
Банвиль продолжал настаивать. Его, видимо, приводила в ужас мысль, что он может не получить рисунка. Домье долго его слушал, потом положил карандаш.
– Я работаю с утра до вечера, потому что так надо, – заговорил он, и в голосе его прозвучала многолетняя усталость. – И когда дело не касается моей повседневной работы, на которую я обречен, моя лень внушает мне самые изумительные выдумки. Если вы упрямо хотите иметь этот рисунок, а я поддамся слабости вам его обещать, вы не представляете себе, к каким изощренным пыткам, к каким тонкостям, к каким подлым обманам я буду прибегать, чтобы не сдержать свое слово.
– А я буду изобретать свои хитрости против ваших, и мы будем подобны героям «Илиады», – ответил нерастерявшийся Банвиль.
Домье удивился:
– Значит, вы способны быть надоедливее редактора?
– Разумеется.
И действительно, настойчивый журналист стал чуть ли не ежедневно приходить в мастерскую. Банвиль не прекращал шутливого состязания с Домье в терпении, но, по правде сказать, он просто пользовался случаем разговаривать с художником и наблюдать за его работой.
Очень скоро Домье узнал, что Банвиль начинающий поэт, что редактор «Корсара» милейший человек, но слегка консерватор, что все молодые сотрудники журнала великие почитатели Домье и многое другое.
Наконец, побежденный настойчивостью своего гостя, Домье сделал для него рисунок, изображавший корабль, который расстреливал из пушки Роберов Макэров, адвокатов и других «носителей зла». Теодор де Банвиль пришел в неописуемый восторг.
Он обнял Домье, поцеловал его куда-то в бороду и, схватив рисунок, умчался.
Но скоро он вновь появился на пороге ателье. Вид у него был совершенно убитый: редактор не принял рисунка, хоть и не отказывался оплатить его, Он настаивал на аллегории. Рисунок Домье, на взгляд редактора «Корсара», был слишком примитивен.
Домье, давно знакомый со всеми неожиданностями редакторских капризов, не удивился. Он улыбнулся и стал утешать своего удрученного заказчика:
– Как, вы еще удивляетесь подобным вещам? Но, милый мой поэт, ведь для того, чтобы при всех условиях нравиться, разве не надо быть шарманкой, сахарной трубочкой или восковой фигурой?..
При таких забавных обстоятельствах познакомился Домье с Теодором де Банвилем, одним из первых своих биографов.
В сентябре Домье получил письмо, запечатанное сургучными печатями с государственным гербом. На шелковистой бумаге официального бланка неожиданно знакомый почерк:
«Мой милый Домье,
Посылаю письмо, которое дал мне Блан, чтобы переслать тебе, так как у него не было ни свободных посыльных, ни твоего адреса.
Твой Жанрон».
В конверте был другой, еще более нарядный бланк:
«Господину Домье, живописцу. Министерство внутренних дел.
Французская Республика, Управление искусств.
Свобода, Равенство, Братство. 1-е бюро Париж,
19 сентября 1848
Гражданин,
Имею честь сообщить, что Министерство внутренних дел поручает Вам исполнить картину, которая будет оплачена Министерством суммой в тысячу франков. Сюжет и эскиз картины должны быть предварительно утверждены администрацией.
Привет и братство.
Директор управления искусств
Шарль Блан».
Домье поморщился, его раздражал подчеркнуто демократический стиль, принятый сейчас для официальных писем. К чему эти пышные слова о братстве и игра в гражданственность, когда от республики осталось одно название?
Впрочем, дирекция искусства занималась полезными делами. Блан по мере возможности добивался ассигнований для художников. Но особенно отличался Жанрон. Использовав ту небольшую свободу, которую принесла с собой революция, Жанрон устраивал художникам государственные заказы и старался облегчить участь своих собратьев. Он содействовал открытию салона без жюри и заново перестроил всю экспозицию Лувра. Раньше картины в Луврских залах висели как попало. Их просто подбирали друг к Другу по размеру. Разобраться в школах и эпохах был в состоянии только знаток. Жанрон на неделю закрыл музей и с помощью музейных служащих, без всяких дополнительных затрат, развесил картины по-новому, сгруппировав их по школам. Искусство раскрылось зрителям в своей логической последовательности. Жанрон настоял и на том, чтобы выставки салона больше не устраивались в Лувре, где для развески современных картин приходилось устанавливать щиты перед полотнами старых мастеров.
Итак, новый государственный заказ. Он не был первым: еще до июньских событий Домье писал портрет одного из депутатов. Сейчас он был рад отвлечься от литографий и несколько поправить свои дела. Ему надоело рисовать строго регламентированные цензурой карикатуры.
Правда, тема, над которой ему пришлось сейчас работать, была от него безмерно далека. Домье заказали «Кающуюся Марию Магдалину». Но для Домье эта картина стала просто школой, он изучал живопись обнаженного тела, не слишком увлекаясь самим сюжетом. В последнее время Домье переживал новое увлечение Рубенсом, и, работая над своей «Магдалиной», Домье не только вспоминал великого фламандца, но и воспринимал сюжет его глазами.
Но все же без литографии нельзя было прожить. Осенью Домье пришлось взяться за большую серию шаржей «Представленные представители» и сделать около ста карикатурных портретов членов Учредительного собрания.
На первый взгляд задача была такой же, как в годы создания «Знаменитостей Золотой середины». Но только на первый взгляд. Едва начав набрасывать фигуру председателя собрания Марраста, Домье убедился, что работать ему очень трудно. Раньше, в тридцатых годах, серии портретов-шаржей политических деятелей были новым, острым и потому сильным оружием. Но то, что казалось удачным в свое время, сейчас могло стать повторением устаревших и избитых приемов. Домье давно убедился, что насмешка над одним человеком не решает дела, – недаром он перешел от портретов «Знаменитостей Золотой середины» к «Законодательному чреву». И, самое главное, он знал, что при нынешнем положении вещей напечатают только очень умеренную сатиру. Видел Домье и то, что отнюдь не Учредительное собрание решает судьбу Франции. Политическая борьба была сложна и запутана, близились президентские выборы, страна была накануне новых трагических перемен. Все это вместе взятое мешало Домье работать с увлечением.
Чтобы придать остроту рисунку, Домье стал изображать своих персонажей с огромными головами и крошечными туловищами. Это хоть и было забавно, но не спасало серию. Кое-что в ней вышло удачно – напыщенный Тьер в наполеоновском сюртуке, несколько других депутатов. Но это не меняло дела. Усталый и раздосадованный Домье продолжал рисовать эти портреты уже механически.
В те дни только одну карикатуру он делал с удовольствием: облезлый орел, отряхивая мокрые перья, выволакивал на французский берег корабль в виде наполеоновской треуголки. В треуголке восседал длиннолицый человек с эспаньолкой и большим висячим носом. Это был племянник Наполеона I – Луи Наполеон Бонапарт, недавно возвратившийся во Францию после долголетнего изгнания, ныне главный претендент на пост президента республики.
Принц Луи Бонапарт прибыл во Францию из Англии как раз в тот день, когда Луи Филипп пересекал Ла-Манш в обратном направлении.
Сам по себе Бонапарт никак не‘являлся значительной фигурой. Это был человек умеренных дарований, достаточно честолюбивый, достаточно хитрый и беспринципный. Многие политические деятели, боровшиеся за власть, обладали куда большими способностями, чем он.
Но никто из них не носил фамилию «Бонапарт».
Если Наполеон I создал славу своему имени, то магическое имя «Бонапарт» создало славу его племяннику.
Луи Бонапарт стал той фигурой, на которую можно было сделать большие ставки в политической игре. Крупная буржуазия, заинтересованная в сильной власти, знала, что основная масса французского населения – крестьяне – поддержит их ставленника: ведь Луи Бонапарт был племянником «великого императора», при котором аристократы-землевладельцы не смели покушаться на крестьянские наделы. Нетрудно было убедить крестьян, что Бонапарт сумеет «обуздать бунтовщиков рабочих», из-за которых, как узеряли правительственные газеты, происходят все смуты в государстве. Бонапартистское движение вновь оживилось: многим политическим деятелям племянник казался достойным наследником дяди.
Луи Наполеон быстро подвигался к власти. Его избрали членом Учредительного собрания. Затем он выставил свою кандидатуру на пост президента.
«Наполеоновский корабль» Домье появился за неделю до президентских выборов, 2 декабря 1848 года. Бонапартизм давно вызывал язвительные насмешки Домье. Как ни была сейчас запутана и противоречива политическая обстановка, нетрудно было предвидеть, что появление Луи Бонапарта на президентском кресле не приведет к расцвету свободы и демократии.
Но мало кто понимал это. Буржуазии Наполеон нужен был как человек, способный оберегать ее интересы. Крестьяне видели в нем защитника от налогов и разорения, принесенных республикой; и даже рабочие голосовали за Луи Наполеона, потому что другим вероятным кандидатом был Кавеньяк – палач июньского восстания. Луи Наполеон получил абсолютное большинство голосов.
Для Домье революция окончилась давно, еще до июньских дней. В глубине души у него зрело убеждение, что настоящая революция – дело далекого будущего, что одного мужества мало, чтобы победить. Он не знал да и не мог знать тех законов, которые управляют ходом истории. Просто он видел, что революция с самого начала шла на убыль. То, что Луи Наполеон стал президентом, явилось логическим завершением событий.
Республика понемногу сходила на нет. Получив в начале 1849 года новое письмо от Шарля Блана, Домье усмехнулся. Если прежние послания начинались с обращения «гражданин» и заканчивались пышным «привет и братство», то нынешнее письмо начиналось «месье» и завершалось «примите уверения в моем совершенном почтении». Ну что ж, это можно было понять: сначала кончается спектакль, а потом убирают декорации.







