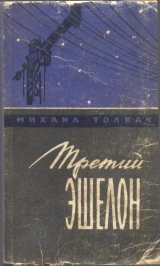
Текст книги "Третий эшелон"
Автор книги: Михаил Толкач
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 9 страниц)
Пацко обежал ее, осмотрел: немного добавить земли и можно укладывать шпалы. Веселее задвигались люди, легче зашуршали шаги: всем давно надоело возиться в темноте на одном месте, поминутно рискуя головой.
Где-то за руинами, ближе к лесу, неожиданно громко прогудел паровоз. Это был первый с утра голос локомотива. Пацко показалось, что он посылает им привет с Большой земли. Да и все приободрились: не отрезаны, выход есть! Никто не знал, что этот поезд с утра стоял на соседней станции, ждал приема.
…Брошен последний камень, выровнена площадка.
Молотки ударили по костылям, зазвенело железо, свободнее задышали люди. Листравому почудилось, что крутом стало светлее, просторнее и уютнее. Вот уже соединены рельсы порванной колеи, уложены последние недостающие шпалы, подсыпаны завершающие лопаты балласта…
Пацко проворно закручивал гайки на стыках, ловко, даже игриво, постукивал по рельсам длинным ключом. В душе его все ликовало: нет, не зря живут люди!
Листравой взмахивал молотком через плечо, словно рубил дрова. Он вкладывал в удары всю свою силу. Взмах – и костыль в шпале по самую шляпку, а позади – ровная строка головок на шпалах.
И вновь на только что восстановленный путь упал снаряд, ковырнул искореженную насыпь, вырвал две шпалы. Люди даже присели от неожиданности и отчаяния. Потом кинулись к пострадавшим.
– К черту! – В розовой от пожарищ полутьме кто-то бросил лопату и лег на землю.
– Дурак! – Пацко зло сплюнул.
– Айда, Александр! – Хохлов первым взял носилки. С другой стороны взялся Листравой.
Расстроенные люди гуськом потянулись за ними. Опять стучали камни, звенело железо.
В багровом свете огня появился Фролов. Он был в подавленном состоянии, но деловито прикинул: много ли осталось? Заметил, что не хватает многих знакомых рабочих: убиты или ранены?
Люди измотались, шагали пошатываясь. А он должен сообщить им тяжелую новость. Тогда, когда так нужна хотя бы маленькая радость. Даже почтальон не смог проехать на Единицу. А стоит ли говорить? Сами узнают завтра из газет, по радио. Каждый рабочий надеется на скорый перелом войны на победу… Нет, нужно! Правда, как бы тяжела она ни была, легче, чем неизвестность.
– Парфен Сазонтыч, – окликнул он Хохлова.
Люди обрадованно повернули головы к начальнику политотдела. Фролов увидел в напряженных лицах немую просьбу облегчить усталость. Хрипловато сказал:
– Фашисты взяли Моздок, Вышли к Сталинграду…
Люди глухо молчали, опустив натруженные руки. Было слышно их тяжелое дыхание да треск догорающего дерева.
– Пошли, – со вздохом вытолкнул слово из пересохшего рта Листравой.
В ночи звенело железо, слышалось неровное дыхание, приглушенные голоса. Фролову стало спокойнее, он ушел в госпиталь проведать раненых железнодорожников.
Далеко за полночь вернулся начальник политотдела, отправив людей отдыхать. Их заменили солдаты, присланные комендантом. Обстрел прекратился, и они быстро закончили восстановление разрушенного полотна.
Не сразу улеглись спать: тревожно было на душе. Сообщение Фролова обеспокоило. Солдаты говорили, будто днем немецкие танки проскакивали в ближний от станции лесок. В подвалах стало тихо, непривычно беззвучно. Разные мысли овладели людьми. Сколько еще так продлится?
Они собрались у костра, разведенного внутри разрушенного дома. Невольно хотелось быть ближе друг к другу. Мозолистые руки ныли, трудной усталостью налилось тело, но беспокойство не давало уснуть: а вдруг немцы прорвались?
Уже съели все, что оставалось на ужин, перечитали газеты, а у костра по-прежнему было людно. О южном наступлении врага не говорили, избегали этого, но думы были одни: неужели и Волга не удержит гадов? Не может быть, чтобы Сталинград не устоял!
А вслух велись разговоры о посторонних вещах.
– Надоело быть рядовым. Все тебе приказывают, – неожиданно громко сказал Илья, развалясь на плоской каменной плите. – После войны выучусь на начальника.
Его категорическое заявление вызвало скупые усмешки, отвлекло от невеселых гнетущих дум, сняло напряженность.
– А что, разве не гожусь? – Илья проворно вскочил и прошелся вокруг костра, подражая солидному огрузневшему человеку. Своей походкой он напомнил Краснова. Тот был тоже у костра среди отдыхавших и принял выходку Ильи за насмешку. Задыхаясь от обиды, прокричал:
– Когда Родина в опасности, смеяться преступно! Не так ли, товарищ Пилипенко? У Сталинграда бьются насмерть… Когда миллионы плачут, хихикать отвратительно! Не так ли, товарищи?
Краснов повел хрящеватым носом, оглядывая собравшихся воспаленными глазами. Руки его дрожали. Он готов был драться со всяким, кто стал бы ему перечить.
– А ты, Демьян, молодец! Хорошие слова сказал… – Листравой приподнялся, потянул, его за полу френча. – Садись рядом, разберемся.
– Смешки, смешки, – все так же задыхаясь, выговорил Краснов. – Половину России просмеяли, к Волге допустили. Мало?
Он, хромая на левую ногу, выбежал из светлого круга и пропал в густой темноте.
У костра неловко примолкли: Краснов снова напомнил о том, что волновало всех. Листравой считал, что Илья напрасно обидел человека. В это суровое время он как-то забыл о прежних распрях с Красновым и собирался сделать выговор Пилипенко. Но тот опередил его:
– А не выпить ли нам? Чем ссориться-то?.. А, старики?
Предложение было заманчивым, но никто не принял его всерьез: откуда тут водка, когда хлеба не вдосталь? Листравой тоже удивленно уставился на Пилипенко. Они все знали, что на передовой линии фронта выдается водка: сами возили вагоны с бутылками и бочками, но тут и купить было негде. Илья, подумав с минуту, быстро исчез за стенкой.
Из-за леса долетел шум движения. Он нарастал, эхо в развалинах усиливало звучание. Поезд с грохотом прошел станцию, шум постепенно угас где-то в плотной темноте.
– К фронту, – с тихой радостью проговорил Листравой. Ему было тревожно сидеть у костра: а если в самом деле фрицы уже заняли пристанционный лес? Но поезд прошел, значит, слухи напрасные.
Илья возник из тьмы, как привидение. Голова забинтована – следы ожога, зубы оскалены в лихой усмешке, в руках – четвертинка, полная светлой жидкости. Листравому показалось, что зеленоватые глаза Пилипенко плавились позолотой.
– Только-то, – разочарованно протянул Пацко и стал загибать пальцы на руках, считая сидящих у костра. Уже никто не спрашивал, где он достал ее, а прикидывал, как разделить.
– Это дезинфекция наша. Врачи смилостивились… Церемпил спит, отказал свою часть в нашу пользу. Возраженья нет? – Илья вылил спирт в котелок.
– Стой, стой! – всполошился Хохлов. Рябое лицо его покрылось потом. – Развести разрешите?
– Перекрестись, что не испортишь, – весело осклабился Пацко.
А Хохлов уже колдовал над котелком. Он малыми толиками доливал воду в котелок. После каждой порции Листравой охал:
– Не переборщи.
Потом все смеялись от всего сердца, как дети, протягивая котелки, а Илья осторожно наливал им разведенного спирта.
– Пейте за смелых людей! Я только это признаю… Наперекор всем чертям! – Он бедово опрокинул в рот спирт, крякнул: – Умеет разбавлять, старик…
– Закусывайте материей, братцы. Вот! – посоветовал Листравой и вытер губы рукавом. – А дома бы… Огурчиком с чесночком, – добавил он, смачно сплюнув.
– А я вот на рыбалке ночевал бы, – в тон машинисту проговорил Фролов, выходя из темноты. – Сидите, сидите, друзья. Не спится?
– Мировые дела решаем, Павел Фомич. – Пилипенко подмигнул Листравому. – Какое наказание Гитлеру применить думаем…
– Тоже занятие, – Фролов нашел глазами Пацко. – Еремей Мефодьевич, просьба к вам.
Пацко поднялся, оправил гимнастерку.
– Сможете еще одно дежурство проработать? Стрелочник выбыл.
– Только выпимши немного, а так почему ж нельзя…
Фролов удивился откровенности Пацко, но на пост его послал. Пошутил:
– Пьян – когда двое ведут, а третий ноги переставляет…
– Павел Фомич, – не утерпел Листравой. – Что тут у нас насчет фрица слышно? Не прорвался?
– Успокойтесь, товарищи, немцы не прошли. Оборона крепкая. Солдаты стоят насмерть.
– Ну, вот и ладно, – Листравой стал удобнее прилаживаться у костра.
Фролов и Пацко ушли.
– Когда он отдыхает, хотел бы я знать? – снова заговорил Александр Федорович о Фролове. – Рано утром – на ногах, поздно ночью – на ногах.
– Комиссару положено, – широко зевнул Пилипенко.
Слова Фролова несколько успокоили людей, и они разошлись на ночлег.
За лесом изредка слышались пушечные выстрелы. Со станции доносились тяжелое сопенье паровоза, лязг сцеплений. Рядом, в кирпичных завалах, попискивали мыши. Недалекий лес утомленно шелестел, казалось, что дышит необъятная темнота.
Листравой уснул у костра, не найдя сил перебраться к себе в подвал, на топчан.
Над умирающим костром кружилась бабочка, рискованно ластясь к короткому пламени. Илья пугал ее, размахивая пилоткой. Но она все-таки обожгла крылья, упала на красные угли, сгорела шипя и потрескивая,
Смерть стрелочника опечалила Пацко. Он пытался осмыслить происшедшее. Конечно, только смелый человек закроет амбразуру дота своим телом. Стрелочник же просто исполнил свой долг, честно, по-человечески. Для этого нужно не меньше мужества и геройства!..
Стояла кромешная ночь. В развалинах кричали совы и филины. Идти было неловко. Пацко ворчал себе под нос, спотыкаясь в колдобинах.
Поездов пока не было, и он, примостившись на чурбане, чистил фонарь.
Позднее подошел Хохлов проверить телефоны. Так он делал каждую ночь под утро: день уходил на ремонт и восстановление линейного хозяйства. В обожженной руке его отвертка держалась плохо, и он долго возился с одним аппаратом.
Был тот глухой предрассветный час, когда над Единицей устанавливалась временная, непрочная тишина.
Пацко вычистил одну боковину фонаря и вышел за дверь: разогнать сон. Со стороны фронта орудия стреляли редко. По темному небу шли рваные облака: Пацко замечал, как пропадали звезды и чуть поздцее снова вспыхивали. Вот одна звезда покатилась, оставив позади искристый след. Говорят, так и души человеческие… Но он знал: душа стрелочника уже никогда не вспыхнет, не засветится на горизонте. Пацко вернулся на пост.
Связист все еще копался в телефоне.
Стрелочник полез за паклей, которую он хранил под потолком, и наткнулся на маленькое зеркальце, забытое Наташей. Чтобы отвлечься от мыслей о погибшем стрелочнике и немного забыться, он заговорил об Ивановой. В дурманящей ночной немоте Пацко лениво двигал руками, выскребая копоть на стеклах фонаря. Не спеша рассуждал:
– Вот, скажем, Наташа. Дивчина презеленая. Ну, куда ей воевать? Так себе, один близир…
Хохлов, не отрываясь от дела, перебил:
– Она храбрая. Женщины всегда выносливее нашего брата. Это, друг, старая философия.
– Старая или новая, а я, например, свою дочку не пущу. После тутошних страхов она и родить-то путем не сумеет.
– Так она тебя и послушает.
– Ты, Парфен, не смейся. Правду говорю.
– А еще в партию собрался. Твоя теория старая. Весь, мол, рай женский на кухне. Плоди детишек, и только. Так и Толстой учил.
– Толстой, говоришь? Дай бог…
– Про то и в книгах писал.
Пацко не слушал. Поставив фонарь на пол, он полюбовался своей работой и тем же ровным голосом заговорил о своем:
– Природу возьми. Она, Парфен, скажу тебе, бережет женский пол. Сохатые, к слову. Самцы дерутся, а она, самка, значит, в сторонке пасется себе, листки хрумкает. А глухари или, скажем, тетерева. Опять-таки бьются, как петухи. Так на каждом шагу женский пол к войне неспособный. Даже дикари женщин не брали в бой. А вот теперешний человек, он все норовит напротив природы, поперек ее. Вот и женщин в войну впутал. А зачем, и сам не ответит.
Хохлов ругнулся, отдергивая больную руку.
– Что ты?
– Током шибануло. Звонят. – Он привернул на клеммах провода, подал трубку Пацко, сидевшему у порога.
Тот послушал, поднялся и, шумно позевывая, сказал:
– Насчет женщин в войне ты подумай на досуге. Пользительно. А теперь посмотри семафор. Ерундит что-то. Открывать придется: поезд вышел.
Кругом царила ночь, но где-то за полосой леса рождался рассвет. Небосклон посерел, будто бы в темную воду добавили молока. Пацко расправил мощные плечи, стряхивая дрему. Приятели остановились у семафора. Хохлов попробовал, как он действует. Стрелочник заметил:
– Как в тоннель уходит дорога.
Высокая насыпь простиралась до темного леса.
Сквозь редевшую мглу в отдалении виднелся светлым полукружьем вход в лес.
– Малейшая неисправность – и поезд полетит под откос. – Хохлов зябко поежился, собирая инструмент и присвечивая себе фонарем.
– Так и жизнь человеческая, по-моему, – раздумчиво отозвался из темноты Пацко. – Лезет, лезет человек по такой вот крутой насыпи. Потом – хлоп! – и покатился под откос…
– Ты что, Еремей, заупокойную тянешь? Брось!
– Нет, нет, Парфен, не перебивай. Понимаешь, другой раз проснусь весь в поту. А сзади вроде кто-то стоит…
– Ущипни себя и спи дальше. – Хохлов опять принялся налаживать семафор.
Пацко по-охотничьи тихо обошел стрелки, не обнаружив ничего подозрительного, вернулся обратно. Хохлова он не застал: тот отправился спать.
Высоко в темноте рокотал самолет, то приближаясь, то удаляясь. Невидимые гуси прошли над станцией, картаво переговариваясь и шумя крыльями. «Рано что-то поднялись в отлет. Войной тоже потревожены, бедняги», – думал стрелочник.
Где-то далеко в лесу прогудел паровоз.
Было по-летнему тепло и тихо.
Наташа вернулась с работы и повалилась на койку: у нее разболелась голова. Весь день в грохоте, в беготне и заботах. Еда не ахти какая. Наташа похудела, вытянулась, черты лица стали резче и взрослее. Можно было подумать, что не месяцы, а годы прошли с тех пор, как они приехали сюда.
В молчании пролежала она не меньше часа. В глубоких сумерках умылась, на уцелевшем крылечке заплела тяжелые косы. Головная боль утихла, но отдаленный гром фронта, отсветы пожарищ, все еще не потушенных на станции, бесформенные тени руин – все угнетало ее. Она думала, как легки и наивны были ее представления о войне. Девушка теперь понимала, что их труд по плечу лишь тем, кто не боится смерти и развалин, кто изо дня в день будет идти, ползти вперед и только вперед, живя верой в победу…
Раздался оглушительный в немой темноте грохот: недалеко взорвался крупный шальной снаряд. Наташе показалось, что вся земля качнулась. Она прикрыла голову руками, затаила дыхание, сжалась в комочек и скатилась по ступенькам в подвал.
В подвале кто-то из девушек взвизгнул:
– Ма-а-ам!
Наташа не знала, что делать: бежать или по-прежнему лежать на полу, прятаться или мчаться куда-нибудь. Она прислушалась к выстрелам и как можно спокойнее сказала:
– Ложитесь-ка все на свои места. И не дурите.
Девушка с трудом поднялась, прильнула в темноте к Наташе. Заплакала, сама не зная отчего.
Снаряды больше не залетали в населенные развалины. Наташа вновь вышла на крылечко. Плотная жесткая темнота охватила ее. Думалось о только что пережитом страхе. Не всегда отделаешься одним испугом… А годы идут. Им нет дела до войны. Ушла еще одна весна, кончается лето. Там и зима не за горами. А что хорошего увидела она? Чему порадовалась?
Наташе стало одиноко и тоскливо. Вдруг захотелось закрыть глаза и бежать в темноту, в неизвестность, туда, где нет этого одуряющего грохота, удушливого смрада взрывчатки и человеческой крови. А где есть такая земля?
И она устрашилась своих эгоистичных желаний.
Невольно вспомнила Илью: все-таки он очень славный парень, сильный, смелый, взаправдашний…
Пилипенко часто прогуливался возле подвала, где жила девушка, но встретиться с ней ему как-то не удавалось.
«Наверное, дежурит», – думал он, возвращаясь к себе. И вдруг Илья увидел ее. Она сидела на крылечке и о чем-то думала.
В дрожащем свете фонаря лицо девушки казалось бледным, утомленным и равнодушным. Только глаза, заметив Илью, обрадовались ему и улыбнулись.
Пилипенко поздоровался:
– Добрый вечер, Наташа!
– Добрый вечер!
Чтобы не разрыдаться, девушка трудно улыбнулась, вздохнула, откинула назад косы.
Обращаясь к ней на «вы», Илья вежливо поинтересовался:
– Вас не зацепило? Сюда, кажется, здорово шарахнуло.
Она внезапно подумала, что ее могло убить. Не было бы этой встречи, этого волнующего ожидания. А вдруг завтра что-нибудь случится? Она невольно потянулась к нему. Он погасил фонарь, положил автомат и присел с ней рядом.
Ночь стояла необъятная, насыщенная тяжелым дыханием войны. Со станции звучно доносился шум и лязг движения. Изредка гремели взрывы. Безмятежные звезды холодно смотрели с высоты на побитую обезумевшую землю.
Илья обнял девушку за плечи, тихо и настойчиво спросил:
– Ждала?
– Ждала. Я с ума схожу, Илюша. Сама не знаю отчего…
От необычного волнения Илья потерял слова. Он закрыл ей рот поцелуем. Она схватила его голову обеими руками, прижала к своей груди, целовала в губы горячо и неумело, но когда почувствовала на груди его грубую ладонь, отпрянула.
– Зачем ты? Не смей прикасаться…
Листравой проходил мимо крылечка к себе в подвал и случайно услышал приглушенные плачем слова. Он узнал голос Наташи и о втором человеке догадался легко.
Когда под утро Пилипенко, крадучись, прошел в подвал, машинист молча вывел его за дверь, хрипловато сказал:
– Война, Илюша, не все спишет…
Илья старался освободить свою руку, делая вид, что не знает, о чем идет речь. Тогда Александр Федорович прикрикнул строже:
– Знаешь! Не бреши. Запомни, будь ласков, мои советы. Война спишет заводы, спишет хлеб, спишет, черт возьми, и жизнь многих. А пятно на совести живых? Никогда не смоют его годы. Засядет вина в мозгу и будет покалывать, как бродячий осколок. Извлечь нельзя. Он не угрожает жизни, но и покоя не дает. Покалывает! Так и до гроба. Понял?
Илья признательно взял жесткую руку машиниста, и тот смягчился, заговорил спокойнее:
– Насчет Наташи я. Если у тебя совесть есть, не трогай девку. Будь человеком. Вот!
– Мы до победы дождемся, дядя Саша, – совсем по-детски признался Илья. – Мы потом поженимся.
– Ну-ну, смотри! Не дай бог, если узнаю что…
И так же, как тогда, в первый день на Единице,
он поднес Илье под нос большой кулак:
– Чуешь, чем пахнет?
Потом они сели рядом, локоть к локтю.
На востоке синело небо. Вставало солнце. На ближнем дереве пискнула ранняя птица. И вновь замолкла надолго.
– Вот, бывало, так сидим мы с Машей, – задушевно говорил Александр Федорович, обнимая Илью за плечи. – Зорька загорится. Первый луч в глаза глянет. А мы сидим и молчим. Потом посмотрим друг на друга… Эх, и сейчас сердце холодеет… Зорьки, зорьки мои весенние…
Листравой надолго замолчал, глядя, как занимается утро.
8
И в последующие дни натиск врага на Единицу не ослабевал. Фашисты пытались смести все живое с лица земли, подавить, устрашить, измотать. Люди спали два-три часа и принимались за дело: засыпали воронки, ремонтировали путь, убегали в подземелья, когда снаряды сыпались особенно густо. С риском для жизни пропускали поезда к фронту. Редкие-редкие часы стальные нитки рельсов можно было видеть разорванными, не готовыми к работе.
На восстановлении трудились все командиры и рядовые. Чувство опасности и ненависти к врагу сближало людей. Устоять – стало делом чести каждого. Краснов и Листравой таскали в носилках землю. Не желая уступать друг другу, работали сноровисто и хватко. Каждый из них ждал момента, когда «противник» запросит передышки. Уходили на основную свою работу, а возвращаясь, опять становились рядом. Неожиданно для них самих прежняя вражда притуплялась. Демьян Митрофанович за эти дни привык видеть впереди себя Листравого. Чести ходить впереди носилок старый машинист не уступал, и Краснов без спора отдал ему это право. За широкой спиной Листравого чувствовал себя спокойней и уверенней.
Краснова мучила нога. Он храбрился, но ходить становилось тяжелее и тяжелее. Прихрамывая, Краснов часто задерживался.
– Что у вас?
– Мозоль, провалиться ей в тартарары. – Краснов спохватился и сварливо добавил – Но вас это не касается.
– Касается. Кому нужен инвалид?
Демьян Митрофанович сел на камень, разулся.
– Гляну только. – Александр Федорович стал на колени, бесцеремонно поднял ногу Краснова и начал, покачивая головой, осторожно поворачивать. Мозоль кровоточила.
– Дела-а! Запустили здорово. Мыть чаще надо, друг, ноги-то… – добродушно ворчал Листравой, и его голубые глаза светились состраданием. Пышные усы серебрились в солнечных лучах. – И портянки правильно наматывать. Пойдемте-ка к воронке.
Краснов послушно оперся на плечо Листравого и допрыгал до ямки с водой. Боль в ноге была на-
столько нестерпима, что эта помощь опытного человека казалась ему верхом блаженства. Благодарность подавила прежние обиды.
Они сели. Александр Федорович сам обмыл язву, вынул из кармана чистую байковую тряпку, служившую носовым платком. Потом поискал в развалинах широкий лист подорожника.
Краснов почувствовал приятный холод листа. Машинист заботливо перевязывал ногу. Его толстые, огрубелые пальцы бережно касались воспаленного места. И непобедимое умиление охватило Демьяна Митрофановича. Он вдруг, как ему показалось, обрел родного брата в человеке, которого недавно ненавидел. «Чего мы не поделили? Какого черта вздорили?»– думал он со слезами на глазах. Как всякий нервный человек, Краснов расчувствовался до клекота в гортани:
– Ты уж извини, друг, за старое…
Машинист обрадовался и тоже растрогался, без прежнего презрения ответил:
– Фронт большой, а мы с тобой что значим? Мошки. Так стоит ли враждовать? Вот я ненавижу фрицев. Это да! Враги они, вот! Понимаешь, Демьян, письмо недавно получил. Юрию моему ногу отхватило…
– У всех горе, Александр. До Эльбруса немца допустили. Куда больше горе?
Помолчали.
– А тебе что пишут?
– Сын в Даурии, шофером. Жена в столовой пристроилась… – Краснов почему-то замялся, подозрительно поглядывая на Листравого.
– С жиру бесится, – грубо сказал машинист.
Краснов вспыхнул, но, увидя спокойные грустные глаза товарища, сдержался. Ему показалось, что Листравой снова хотел оскорбить его. И чувства, минутой раньше владевшие им, пропали. Из темной глубины поднялось, как мутная тина в болоте, что-то злое и ненавистное. И он сердито сказал:
– Пора! Расселись…
Демьян Митрофанович стыдился минутной слабости. Стыд перерастал в кипучее недовольство, недовольство– в ненависть. Беспокойное подозрение светилось в его глазах: он опасался, что Листравой расскажет о его беспомощности.
Постепенно они прекратили разговоры и кончили работу в глухом недобром молчании. Небо заволокло темными, тяжелыми тучами. Накрапывал дождик.
Листравой простился дружески, умышленно не замечая холодности Демьяна Митрофановича. Тот ответил сухо.
Пацко решил перед дежурством зайти на свой огород. На грядке он застал мальчугана лет семи в рваной рубашке и солдатских больших сапогах, на голове лихо держалась пилотка. «Вот он, козел-то. Лук общипал», – без злобы подумал стрелочник.
– Ты чей?
– Мамкин. А что?
– В чужом огороде нехорошо хозяйничать.
– Это наш, а не чужой. – Мальчик насупился, воинственно сжимая кулачки. – Сам ты чужой.
Пацко узнал того мальчика, мать которого задержал Батуев, и пошел на мировую.
– Сахару хочешь?
– А то нет…
Еремей Мефодьевич подхватил мальчугана на руки, дал ему кусок сахару и спросил, где они живут.
– В землянке. У леса. А мамка на работе.
– А ты по хозяйству?
– Угу…
Еремей Мефодьевич почувствовал себя как дома. И если бы не развалины, если бы не эти дикие широколистые лопухи, лезущие из-под голой печки…
Он поставил мальца на землю, поцеловал.
– Фу, колючий… – Малыш усердно тер щеку грязной рукой.
Пацко ощут. ил, как навернулись слезы, спазма сжала горло. Чтобы скрыть от мальчика свое смущение, он заспешил на работу.
Петя недоуменно крикнул ему вслед:
– Оставайся. Не бойся, мамка не заругается…
Но стрелочник не оглянулся.
И Наташа в тот день поднялась рано. Тихонько, чтобы не потревожить спящих девушек, выбралась из подвала. Она знала, что снова попадет на целый день в грохот станции, вновь будет замирать при взрывах. Хотелось побыть одной на свежем воздухе. Дома она часто встречала восход солнца на берегу Байкала.
За развалинами бывшей школы начинался хвойный лес. В нем по-летнему было хорошо и уютно. И она направилась к опушке.
Раннее солнце полосами просвечивало сосняк. Казалось, что это от земли исходит прозрачное сияние и круто улетает ввысь. Различалась каждая хвоинка на ветках. Под ногами чуть слышно шуршал прошлогодний опавший лист и сухая потемневшая хвоя. Пахло сырой смолой и пряным духом гниющих растений.
На опушке попалась землянка с крохотными оконцами в траве. Тут же на расколотой шпале сидел белокурый малыш и строгал столовым ножом кривую палку. Рядом лежал узелок. Из уголка проглядывали перышки зеленого лука. Малыш напомнил Наташе ее братишку, и она сказала:
– Здравствуй, Сережа!
– Я не Сережа.
– А кто же ты?
– А ты на войну? Немцев бить?
– На войну. Звать-то тебя как?
– Петькой. А тебя?
Они познакомились. Мальчуган пояснил ей, что он делает автомат, а ствол он припрятал еще при немцах. После, как папку полицаи увели. Сделает автомат и пойдет его выручать… А пока он караулит дом, потому как мамка на работе. Он показал ей игрушечный лук и стрелу.
– Это если кто чужой.
– А я?
– Ты своя…
Наташа слушала малыша и чуть не плакала. Сколько горя и страданий приносит война!
Ей припомнилась девушка с чужим ребенком, встреченная в пути, убитые моряки с бронепоезда, братские могилы, оставленные под тополями… А эти люди, разве они думали жить в такой землянке? Отец мальчика в плену, может быть, именно сейчас его пытают, бьют шомполами…
Нет, Илья, не время пока для личных радостей. Разве можно чувствовать себя счастливой, когда вокруг столько горя, слез и страданий?
В небе плыл вражеский самолет. Петя задрал голову, сказал знающе:
– Рама.
–. Бежим подальше в лес, Петя. – Наташа прихлопнула дверь землянки, задвинула засов.
– Мамке поесть надо. Вот. – Он кивнул на узелок, потом посмотрел вверх: – Рама, это не страшно.
Наташа не послушалась, понесла его на руках. Он брыкался, кричал. Наташа подобрала узелок. Бегом укрылась за деревьями. Ей хотелось скорее унести его подальше от опасности. Если надо, заслонить своим телом.
Когда начались взрывы бомб, Петя вырвался и побежал.
– К мамке!
Наташа звала его, но он не слушал, мелькая босыми пятками.
Она нашла мальчика возле путей. Он лежал в пожухлой от пламени траве, раскинув худые ручонки. Возле валялся игрушечный лук: стрелы отлетели в сторону, будто Петя метнул их все сразу по врагу.
Льняные волосы мальчика были мокры от крови. Наташа подняла его, понесла к вокзалу, где располагался госпиталь. Тело Пети отяжелело, стало вялым. Чем помочь?.. Она побежала. Руки его висели плетьми. Она положила мальчика на свежую траву, потормошила, пыталась раскрыть веки… Наташа даже не представляла себе, что она скажет матери, если та найдется.
Навстречу Наташе попалась женщина, растрепанная, в платке и больших солдатских сапогах. Глаза безумно-тусклые. Она вырвала у Наташи безжизненное тельце сына и страшно пусто глянула на Наташу.
Пошла в развалинах, укачивая, баюкая малыша, как качают ребенка, чтобы он скорее уснул.
В глазах матери она увидела для себя немой укор: разве она виновата в его смерти?
Наташа бросилась за женщиной, хотела догнать ее, утешить… Но та побежала от нее, дико озираясь вокруг; только платок трепыхался от ветра, теряясь в руинах…
От бомб что-то загорелось: в светлое небо поднимались клубы густого коричневого дыма. На станцию лился кроваво-бордовый свет, озаряя все вокруг багрянцем. С неба сеялся алый пепел.
На работе Наташа рассказала стрелочнику о смерти мальчика. Пацко едва сдержал себя, чтобы не расплакаться. Глубокая ненависть к убийцам охватила его с новой силой, как огонь охватывает сухое смолистое дерево.
Дела на станции были такими, что долго переживать не хватало времени. По-прежнему рвались снаряды.
Наташа в душе ругала высшее начальство: плохо защищают дорогу. Ведь эта линия – единственная. По ней идет снабжение огромного участка фронта. Железнодорожники делают все, чтобы не прекратилось движение.
Девушка тревожными глазами проводила паровоз Листравого к передовой линии. Позади состава были прицеплены опасные вагоны: Наташа знала – в них повезли бомбы.
Илья высунулся до пояса из будки, помахал ей рукой, но она сделала вид, будто не заметила. А сердце улетело вслед.
Краснов был рад, что сплавил со станции такой жуткий груз. Потирал руки. В это напряженное время он ухитрялся довольно быстро выпроваживать за семафор заманчивые для немцев вагоны. Но это не всегда являлось правильным решением: на Единице имелось мощное зенитное прикрытие, в его тупиках можно было спрятать не один состав. Но зачем Краснову брать на себя лишнюю ответственность? Зачем рисковать?
Демьян Митрофанович знал, что в обеденные часы перегоны страдают от обстрелов больше всего, и все же послал Листравого…
Комендант слегка упрекнул его в поспешности. Мошков пожалел, что бригада почти не отдыхала, тем более что груз не требовал срочной отправки. Но Краснов убежденно отвел упрек:
– «Гостинцы» мы не имеем права держать. Приказ «Березки». Да вы сами запрещали держать по два состава на путях…
Военный комендант не нашелся, что сказать. Краснов возликовал: «Срезал Мошкова…»
В таком приятном настроении он и зашел на стрелочный пост.
– Листравой приведет груженую санлетучку. Не задержите!
Наташа всполошилась: она давно заметила подозрительную точность обстрела. Как только открывается семафор, так на пути начинают падать снаряды. Однажды Фролов заходил к ним в подвал, и она поделилась с ним своими сомнениями. Девушка предполагала, что где-то тут, на станции, засел фашистский корректировщик, который и сообщает точные ориентиры.
Фролов тогда возразил, что, дескать, только на днях по заданию командира вторично прочесали развалины и ничего подозрительного не обнаружили. Но в следующее же дежурство Наташи у семафора со стороны фронтовой ветки немцы обстреляли санитарную летучку, разбили вагоны, убили трех человек. И подозрения Наташи усилились.
Когда Краснов сообщил, что Листравой уехал за санлетучкой, Наташа опять вспомнила тот случай. Он не должен повториться! И она мучительно раздумывала, как благополучно принять эшелон. Если лазутчик определяет по семафору, то надо открывать сигнал перед самым носом паровоза: наблюдатель не успеет передать сведения на батареи. Так она и поступила, принимая очередной состав. Но фашисты не прозевали. Значит, у них связь налажена хорошо. Она твердо была убеждена в существовании такой связи и во всем винила Фролова.
Да, но если семафор держать все время открытым? Немцы усвоили нашу сигнализацию, ее-то и надо изменить. Поднятое крыло – стой! Опущенное крыло семафора – путь свободен. Но кто же на такое пойдет? Инструкции утверждены в наркомате, а она, простая стрелочница, вдруг изменяет сигнализацию. За такое по головке не погладят! И девушка улыбнулась своей мысли: наркомат – и она, Наташа! А почему бы и не так, если ее предложение спасет жизнь многих людей?







