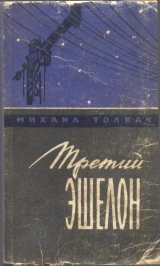
Текст книги "Третий эшелон"
Автор книги: Михаил Толкач
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц)
3
Снег валил третий час кряду. Ветер, подхватывая снежную пыль, швырял ее, мчал на своих легких крыльях, переметая дороги и звериное разнотропье в лесах.
Листравой наблюдал за метелью. Ему представлялось, что это дым паровоза превращается в холодную пыль, и она белым маревом расстилается вдоль железной дороги, скрывая горизонт.
Эшелон мчался на запад. Мутные вихри набрасывались на вагоны, сотрясали подвижные двери, снег "попадал в трубы теплушек. Холод заставлял людей жаться к печкам.
– Вот тебе и зима! – воскликнул Пацко, подходя к розовой от тепла трубе чугунной печки. – Завертело, засвистело хуже, чем в Сибири. Достанется машинисту. И нам лопаты не миновать.
– Как бы немцы не вырвались, – озабоченно сказал Хохлов, будто это зависело от жильцов вагона. – Из Демянского котла-то…
– Немцы?
Пацко даже отодвинулся от печки, пожелал:
– К этой метели да морозца градусов под сорок. Фриц-то, он к холоду чувствителен…
– А ты знаешь? – спросил Хохлов, прищурившись и поглаживая конопатую скулу. – Врешь ведь.
– Южные люди такие, кого хошь спроси, – отозвался товарищ и без всякого перехода серьезно сказал: – Ей-ей, закопаемся на перегоне, занесет нас до крыши.
– Не упустили бы немцез, – опять заговорил о своем Хохлов, пытаясь в тусклом свете от печки читать газету. – Целую армию прихлопнуть бы. Настоящий «хайль» получился бы и «Гитлер капут».
– Бы да бы, – Пацко вновь подошел к горячей трубе. – Нас занесет, немцев выпустят.
Яснее других понимал неизбежность остановки Листравой. Хоть и огорчил его начальник политотдела, машинист впотьмах разрывал проволоку на связках лопат, выставлял их к двери. Покончив с этим, он переобулся в валенки, достал меховые рукавицы, сел у печки, готовый к действию.
Поезд, однако, двигался. Шел рывками, то убыстряя, то сокращая ход. Листравой словно наяву видел, как паровоз разбивает грудью сугробы. Каждый толчок Листравой переживал так, будто сам вел состав. Когда эшелон остановился, Александр Федорович тяжело вздохнул, открыл дверь теплушки.
Было сумеречно. Вихрился снег, натруженно гудели провода, дугой гнулись голые деревца на привокзальной площади. Чуть приметно желтели окна поселка, уныло вызванивал станционный колокол, раскачиваемый ветром. Листравой спрыгнул и утонул почти по пояс в снегу. Вдали у паровоза, на стрелках, чернели фигуры людей, взмахивающих лопатами.
К машинисту подбежал Краснов. На рукаве у него краснела повязка дежурного по эшелону. Прикрывая лицо рукавом, прокричал:
– Готовь лопаты, товарищ кладовщик! Будем коллективно бороться со стихией!
– Без тебя знаю, стихия.
– Поговори мне! – уже на ходу пригрозил дежурный, убегая дальше, в конец состава.
– Выходи строиться! Выходи строиться!
Из вагонов выскакивали нахохлившиеся люди, жались друг к другу. Новая команда свела их в ряды, и у вагонов-кладовых образовались длинные очереди.
Вскоре у Листравого не осталось лопат. Одну он приберег для себя: ловкую, ухватистую, с гнутым черенком. Закрыв кладовую, направился к работавшим.
Небо словно осатанело, снег дико плясал, залеплял глаза, забивался в уши. «Не лучше, чем на нашей Мысовой», – подумал Листравой о пурге, сравнивая ее с метелями на прибайкальской станции, где он часто бывал перед отъездом на фронт. Вместе с Юрием принимали они та>м бронепоезд. Снег тогда замел избы до труб. Юрий еле вывел громоздкий бронепоезд из тупика… И полутьма такая же. В мечущемся, клубящемся снежном тумане люди казались грязно-серыми тенями, и Листравой различал только ближних соседей. Они, так же как и он, раскапывали снег: вдоль пути вырастала насыпь, открывались две нитки рельсов.
Пробежал, утопая в сугробах, какой-то человек в полушубке. До Листравого долетали слова:
– Подналягте, братцы. Танковый эшелон задерживаем.
Листравой видел – люди поняли беспокойство того человека: чаще мелькали лопаты, реже слышались разговоры.
Вдалеке из белесого марева вырисовывался паровоз. Свет прожектора, тускло пробиваясь сквозь молочную пелену, наплывал желтой луной на людей. Заревел гудок. Послышался стук колес. Люди стали отскакивать в сторону от пути, увязая по пояс в снегу, бессильно садясь прямо в наметы. Перед глазами Листравого проплыли вагоны, облепленные снегом, платформы, груженные орудиями, танками. «А все-таки успели!» – подумал он, принимаясь яростно расшвыривать снег.
Видели этот поезд и Батуев с Пилипенко, всматриваясь сквозь заиндевелое окно. Их не взяли на работу: Фролов не разрешил.
– По-моему, для рабочих ребят такая мера будет самым чувствительным наказанием, – заявил он. – А без двух человек дело не станет.
Пилипенко был человеком увлекающимся. Книги читал без разбора. Вот и теперь, в дороге, он раздобыл у кого-то потрепанный французский роман и уже щеголял рыцарскими словами оттуда, часто не понимая их значения. Когда все люди из эшелона ушли на пути, Илья раскрыл книгу на самом интересном месте… и не стал читать.
– Добро вот так, у горячей печки, – сказал он Цыремпилу. – Как у камина какого-нибудь, в замке на высоченной скале…
Цыремпил молчал. Илье тоже стало не по себе. Он подвинулся ближе к товарищу, притих. Думал о том, что война – это прежде всего тяжкий труд миллионов, что за каждым выстрелом солдата стоит не один рабочий и что на войне не меньше пахнет терпким потом людей, чем порохом. Знал он об этом из книг, но тут была жизнь, и Илья растерялся. В душе росло смутное недовольство собой, беззаботность уступала место обиде. Он считал позором сидеть в этом тепле, когда рядом в трудной борьбе изнемогают люди.
Пилипенко с досадой бросил книгу в угол, распахнул окно. Снежные хлопья мгновенно облепили его.
– Открой дверь! – крикнул он часовому. Тот неуклюже повернулся в тулупе.
– По малой нужде приспичило. Скорее!
Оказавшись на свободе, Илья плотнее натянул шапку, по-ястребиному глянул на часового, стоявшего как снежная баба.
– Ну, я пошел. Не скучай! – и валкой походкой зашагал навстречу пурге.
Часовой оторопел, спохватившись, крикнул:
– Стой! – и сделал несколько шагов вслед Пилипенко. Но тот растаял в мутной мгле.
Батуев, выбрав момент, по-кошачьему мягко скользнул в снег, нырнул под вагон. Часовой, не заметив его, сердито задвинул дверь, набросил накладку. Думая, что второй арестованный по-прежнему сидит в вагоне, он отправился на площадку тормоза к телефонисту сообщить в штаб о происшествии.
Краснов не замедлил явиться. Он отругал часового, пригрозил ему военным трибуналом. Кончил тем, что водворил в изолятор самого часового и помчался доносить о побеге Пилипенко. «Вот воспитание Листравого. Полюбуйтесь! Сам разболтан, такие и подчиненные, – думал он. – В такой пурге Пилипенко не поймать, уйдет. Если снять всех людей, то далеко не убежит…»
К удивлению Краснова, начальник эшелона довольно спокойно отнесся к его сообщению. «Поищите среди работающих», – посоветовал он.
На запад снова прошел состав с танками. Три красных огонька позади эшелона мерцали недолго: метель тотчас спрятала их в белом круговороте. Краснов следил за ними, предполагая, что на этом поезде уже укатил Пилипенко. С трудом пробирался дежурный по сугробам, приглядывался к работавшим. Не верил, что парень окажется здесь. «Не такой простак этот Пилипенко, знает, что будет за побег. Наверное, заскочил на поезд – и поминай как звали!» Но приказ начальника Краснов выполнял. Кто-то метнул ему в лицо, будто невзначай, лопату снега, испуганно выкрикнув девичьим голосом:
– Ах, извините!
Краснов проклинал вьюгу, побег Пилипенко, свое дежурство. Он с ужасом думал о том, как его будут отчитывать за чрезвычайное происшествие. Могут и в трибунал передать, время строгое. Возле работавших он приметил Фролова в длинной шинели. Начальник политотдела вместе с другими ловко взмахивал лопатой. «Будто бы без него не обошлись, – с неприязнью подумал Краснов. – Командир не должен равнять себя с подчиненными: авторитет теряется…»
Он хотел пройти мимо, но Павел Фомич позвал:
– Дежурный, ко мне! Распорядитесь от моего имени насчет ужина. Усиленный ужин и по сто граммов водки. Понятно?
– Понятно! Есть организовать усиленный ужин и по сто граммов спиртных напитков! Разрешите идти? Есть!
Краснов решил пока не докладывать начальнику политотдела о случившемся: тут посторонних много, да и, может, найдется беглец. А то Фролов начнет отчитывать при подчиненных…
Он не заметил, что Батуев рядом. Усердно откидывая снег, тот отворачивался от дежурного по эшелону. Когда Краснов удалился, Цыремпил переглянулся с Хохловым и засмеялся.
Ничего не подозревавший Фролов закинул на плечо деревянную лопату, подошел к группе девушек и что-то сказал. Раздался дружный смех и задорный возглас Наташи:
– И у нас силенка есть! Потягаемся.
Начальник политотдела перебирался от группы к группе, а из головы не выходил разговор с Листра-вым. Сын у него, значит, погиб на фронте, второй воюет. А что еше известно Фролову о машинисте? Какими думами занят этот человек, какой силой держится?
Начальник политотдела завернул к Листравому, побыл с ним рядом. От плечистого рослого человека исходила волна уверенной и спокойной силы. Работал он размеренно и ловко.
Рядом с машинистом ожесточенно бороздил лопатой сугробы Илья Пилипенко. Появился он здесь после ухода начальника политотдела. Это Листравой нашел ему лопату. Вдвоем они быстро расчистили участок Листравого, потеснили стрелочника Пацко, продвинулись дальше.
– Морозцу бы, тогда фрицу крышка! – крикнул Пацко. Он все время придумывал, как скорее уничтожить захватчиков, и каждый раз предлагал все новые и новые способы.
Но люди, увлеченные делом, не слушали его, и стрелочник обиженно смолк.
Илье нравилось работать со всеми вместе. А метельная полутьма и острое чувство опасности, вызванное побегом, еще больше дополняли его радостное возбуждение. Правда, он с опаской приглядывался к соседям: не догадались ли?
Машинисту же и в голову не приходила мысль, что Илья мог убежать. Он думал только о том, как бы не отстать от парня. Поэтому шел вровень с Пилипенко, хоть легкие и рвались на части, а сердце лопалось от прилива крови.
Очищенная ими полоса протянулась темно-серой дорожкой метров на сто. Они выпрямились, передохнули. Вдруг Пилипенко метнулся в сугроб, упал, зарывшись с головой.
– Сдурел парень! – укоризненно проворчал Листравой, отдирая с усов сосульки.
Всматриваясь в лица, подошел Краснов. Люди разобрали лопаты, ожидая, что дежурный по эшелону объявит конец работы. Лопата Пилипенко сиротливо торчала в сугробе. Машинист вдруг догадался, почему спрятался Илья. Усмехнувшись, решил прийти на помощь. Краснов сам подал машинисту эту мысль.
– А это чей шанцевый инструмент? – хрипло спросил он, ткнув рукой в торчащую лопату.
– Ваш. Пожалуйте. – Листравой спокойно подал ему лопату.
Краснов невольно принял ее, опомнившись, бросил в снег.
Рабочие расхохотались.
– Я вас арестую! – запальчиво выкрикнул Краснов, подступая к машинисту. – Сми-и-ирно!
Рабочие опустили руки по швам. Вытянулся и Ли-стравой, все еще усмехаясь. Краснов понял, что попал в глупое положение, чертыхнулся и, не отменив команды, почти бегом заторопился дальше.
Илья выбрался из снега, отряхнулся, запрыгал, согревая окоченевшие руки и ноги. Он ожидал, что Листравой отчитает его. Но Александр Федорович как ни в чем не бывало отбрасывал снег. Машинист и раньше не одобрял ареста ребят, а теперь даже гордился, что у него такие отчаянные помощники.
Снова прошел состав, осыпав людей искрами и приветливо гудя. По другому пути проскреб широкую дорогу снегоочиститель. Опять эшелон. Вновь огни паровоза.
Поезда шли на запад один за другим. Люди пропускали их, отступая в сугробы. Листравой радовался: пусть обледенела одежда, промокли ноги в валенках, пусть горит лицо, исхлестанное на ветру ледяной крупой. Пусть! Ведь жизнь магистрали не замерла. Вот еще поезд. Листравой проводил его, как что-то близкое, сокровенное, родное.% Силы железнодорожников постепенно ослабевали. Листравой уже не слышал смеха девушек. Ему было видно, как Наташа с трудом поднимает отяжелевшую лопату. Илья больше не припевает, молча бросает комки снега, облизывает высохшие губы. Да и сам Листравой чувствует, как спина наливается свинцовой тяжестью.
«Свой, свой эшелон откапывать!» – вдруг пролетела команда. И все устремились к теплушкам. Они стали родными: обжитые, прокуренные, расшатанные в долгой дороге.
Вагоны занесло по самые двери: дневальные не успевали очищать проход вдоль состава. Снова начался нелегкий и однообразный труд.
И вдруг погода изменилась. Снег пошел реже, ветер ленивее крутил вихри.
Из труб теплушек закурились дымки, от вагонов потянуло крутыми свежими щами, ржаным хлебом и испарениями мокрой ватной одежды.
Фролов в сопровождении врача обходил вагоны: не заболел ли кто за время работы? Ему хотелось спать, есть, мокрая шинель оттягивала плечи, ныли суставы. Вдыхая аромат щей, он сглатывал слюну, слушал незлобивые пререкания и добродушную воркотню у котелков, приглушенные, крепко ядреные слова. В одном вагоне Еремей Пацко предложил ему стопку: дескать, сам непьющий.
Павел Фомич поблагодарил и отказался. Пацко лукаво подмигнул своему другу Хохлову, потом шутливо перекрестился:
– Тогда, значит, за ваше здоровье! – И опрокинул водку в рот.
В вагоне сдержанно засмеялись, поглядывая на начальника политотдела: как примет шутку? Фролов открыто улыбнулся, пожелал приятного аппетита. Все громко рассмеялись. Кто-то из темного угла крикнул:
– Ты, Еремей, скажи, как фрица кончить?
Все оживленно обернулись к Фролову, снова ожидая, как он отнесется к выдумке Пацко. А стрелочник, смачно пережевывая хлеб и весело поблескивая глазами, пояснил:
– Значит, напоить их всех до бессознательности. Всех до одного: от Гитлера до паршивого ездового. И пошел потом их вязать по рукам и ногам, по рукам и ногам, по рукам и ногам…
– А дальше, дальше что? – не унимался тот же любопытный.
Пацко смущенно глянул на женщину-врача, отодвинулся в тень и продолжил:
– Потом снять брюки и по мягкому месту свежей крапивой. Закатить ударов по двести…
– Гитлеру – тысячи две, – улыбаясь, дополнил Фролов.
В вагоне хохотали.
Павел Фомич, наблюдая за людьми, видел, как они, собранные войной из разных мест, приноравливаются друг к другу, находят себе друзей, сходятся. Вслушиваясь в отрывочные слова, отвечая на вопросы, Фролов утверждался в мысли, что эти люди при любых трудностях сделают все, что от них потребуется; и забывался голод, отлетал сон, вроде меньше ломило в спине. Даже Краснов показался ему более симпатичным, когда они встретились у дальнего вагона. Но начальнику политотдела стало до тошноты обидно при известии о побеге Пилипенко. Он яростно сплюнул в снег, сердито спросил:
– Какие меры приняли? Батуева допросили? Нет. Эх, вы…
Освещая путь фонарями, они направились к изолятору. Еле слушая сбивчивые слова Краснова, начальник политотдела думал: «Куда побежал Пилипенко? Вот еще один недосмотр. А казался таким порядочным парнем, с огоньком будто бы…» И все же в плохое не хотелось верить.
Краснов первым увидел, что накладка отброшена, но дверь прикрыта плотно. «Забыл поставить часового, – сказал он себе. – Второй тоже убежал». Тоскливо заколотилось сердце, онемели ноги. Но Фролов вовсе и не посмотрел на дверь, рывком вскочил в теплушку. На него пахнуло теплым воздухом, сохнувшими портянками. В печке потрескивал уголь, проваливаясь в поддувало оранжевыми блестками.
Темноту разрезали узкие лучи фонарей. Они пробежали по стенам, скрестились на просторных нарах, выхватили из мрака три взлохмаченные головы. Косматая пола тулупа свисала, открывая тельняшку на сильном плече Пилипенко. Смуглая рука Батуева обнимала шею бывшего часового. Молодое лицо того, курносое и вспотевшее, озарялось детской усмешкой…
Луч фонаря Фролова подрожал и смущенно погас. Краснов отвел пучок света к печке. Там, на полу, лежали три пары валенок. Легкий пар струился над ними, уходя в темноту.
– Разлеглись, прикидываются! – громко и строго проговорил Краснов, снова наводя свет на Пилипенко. – А тут переживай…
– Тише вы! – приглушенно приказал Фролов и тепло, по-отцовски заулыбался. Краснов, услышав облегченный вздох начальника политотдела, на носках попятился к двери.
– Часового надо ставить, товарищ дежурный! – резковато сказал Фролов на путях, а у самого на лице по-прежнему блуждала добрая улыбка.
Эшелон погрузился в глубокий сон. Под осторожными шагами часовых размеренно хрустел снег. Вызвездило. Луна казалась пятаком, сломанным пополам. Фролов задержался у своего вагона, вернул Краснова:
– Утром выдадите Пилипенко и Батуеву усиленный завтрак и по сто граммов водки. Понятно?
Это было непонятно, но Краснов не посмел возразить.
В лощинах и выемках дрожали призрачные голубоватые тени. При приближении к ним Краснова они растворялись в лунном сиянии, и ему представлялось, что вокруг него творится что-то такое, что не давалось, ускользало от его понимания.
Было тихо, как бывает перед грозой. В голове эшелона завздыхал паровоз: «пвхох-ох-пвхох-ох-пвхох!»
Тишину разбудил сиплый гудок. Часовые заспешили к тормозным площадкам. Побежал и Краснов, поспевая в свой вагон. Но из головы не выходило последнее приказание начальника политотдела. Почему Фролов потакает нарушителям порядка и воинской дисциплины? А сделай так он, Краснов, никто бы не помиловал. А поступил бы он так? И с гордостью ответил себе: «Нет. Дисциплина – мать порядка!..» Но почему же Фролов не поддержал его, почему не применил строгих мер наказания тогда к Листравому? Зачем поощрять этих хул1ц^анов из последнего вагона? Разве пойти к начальнику отделения, пусть он разберется?.. Нет, потом тот расскажет все Фролову. Два начальника договорятся, а виноватым окажется он. А-а, пусть!..
«Теперь можно и перекусить», – с огромным облегчением сказал себе Фролов, поднимаясь в вагон. В его купе стоял котелок с ужином. Он набросился на еду, потом достал из-под полки бутылку, налил полный стакан водки, выпил залпом, доел остатки щей. Приятная истома разлилась по телу. За маленьким столиком сел писать открытку домой.
Поезд тронулся. Ночь наполнилась грохотом идущего эшелона. Но все эти звуки – лязг металла, гудки, визгливый скрип колес – не разбудили людей в теплушках.
Письма Фролов не дописал: усталость свалила его. Во сне он видел свою маленькую дочурку в ярком платьице…
4
Наташа была давно дружна с Ильей. Там, у Байкала, они вместе бродили по тайге, забирались в горы, думали о будущем.
Когда Наташа уехала учиться в Иркутск, Илья, правда, не часто, но писал ей, а она шутливо и дружески отвечала ему.
Война неожиданно сблизила их. Наташа, не окончив техникума, вернулась домой.
В эшелоне они стали еще дружнее. Совсем недавно Илья намекнул ей о своих чувствах. Сказал он об этом туманно и неловко, но она сразу же девичьим чутьем поняла его. Ей стало чуть страшно, тревожно и приятно. Она удивилась его внезапной застенчивости и уже не знала, как себя вести с ним. Новые, будоражащие чувства охватили ее. Наташа испугалась их, хотела забыться, рассудить здраво. Разве за этой дружбой она рвалась сюда, обивая пороги военкомата?.. Нет, нет и нет! Любовь – это, конечно, большое счастье. Но разве можно быть счастливой, когда вокруг тебя страдают и мучатся тысячи людей!
Наташа поделилась своими мыслями с подругой. Та не согласилась с ней.
– Ну и что же, война… Люди всегда родятся, умирают, любят, ненавидят, страдают. Не пойми меня дурно, Наташка, но приглянись мне сейчас парень, я бы не стала раздумывать. По-моему, иди смело навстречу своей судьбе.
– Не Илья ли судьба моя?
– А может, и он. Почем знать?
Нет, не ее это судьба. Надо сначала вернуться с победой, а потом уже любить, без оглядки, с чистой совестью.
Так она и скажет Илье, если он снова заведет разговор. А самой почему-то очень захотелось пойти к нему, услышать его голос. Она взяла котелок с супом и направилась в вагон-изолятор.
Гауптвахту охраняла одна из знакомых Наташи. Пока эшелон стоял на какой-то станции, она прохаживалась вдоль состава и встретила Наташу с распростертыми объятиями:
– Как хорошо, Наташка! Весной пахнет!
Наташа тоже любила весну. Она невольно вспомнила утопающий в зелени Байкал, гомон перелетных птиц, аромат смолы. А тут – серые ветки деревьев, какое-то негреющее солнце, жидкий снег, хлюпающий под ногами. Ей был непонятен восторг подруги.
– Ты к Илюшке, что ли? Давай быстренько, пока дежурного не видать. Батуева за хлебом послали.
Подруги постучали в вагон-изолятор, отомкнули дверь. Илья подал руку, помог Наташе забраться в вагон.
– Потише разговаривайте, – предупредила де-вушка-часовой, задвигая дверь.
– Слушаюсь, товарищ командир!
Илья шутливо отдал честь. Когда остались один на один, он посерьезнел, признался:
– Эх, никудышный я человек, Наташка. Вдруг тебе придется ходить к мужу в тюрьму на свидание?
– А я за такого и не пойду, – отшутилась она, потом решительно заключила: – Если полюблю, то и в тюрьму пойду. А иначе что ж за любовь?
Илье вдруг захотелось схватить ее, прижать к себе, расцеловать. Он смутился своего желания, покраснел, отодвинулся.
– Что с тобой, Илья?
Тот быстро нашелся:
– Фролова вспомнил: чудной человек. Сам же посадил сюда, сам же велел накормить досыта и по рюмке водки послал. Каков?
– Партийный он человек, вот и понимает людей.
– А что мы за люди?
Пилипенко явно напрашивался на похвалу, но девушка промолчала. Тогда он с отчаянной решимостью придвинулся к ней, взял за руку:
– Наташка…
Глаза его вспыхнули, загорелись. Но не было в них обычной бедовости и озорства. Было что-то серьезное, упрямое, нежное, такое, от чего закружилась у нее голова.
– Не то, не то, Илья. – Она слишком поспешно отодвинулась, засунула руки в карманы шинели. – Такое страшное время. Смерть кругом, а ты…
Она говорила то, что подсказывал ей разум, но сердце предательски сжималось, колотилось, тянулось к ласке. Наташа пересилила себя.
– Вот и подумай, Илья, – сказала она строго. – В силах мы побороть себя или нет?.. Может, у нас и несерьезно?
– А зачем побороть?
– Затем…
У Наташи вдруг навернулись слезы, голос задрожал. Она поняла, что уже проговорилась: зачем было произносить «побороть себя»? Ей стало очень стыдно.
Илья не понял смятения девушки, настаивал на своем:
– Пойми меня, жить без тебя не могу, Наташенька…
Он осторожно привлек ее к себе, поцеловал в губы. Она не противилась, уронила руки, прижалась. Почувствовала, как приятная теплота наполняет тело. Наташа рывком, с отчаянной строгостью, резко отодвинулась на самый край нар. В глазах блестели слезы. Он снова притянул ее к себе, тяжело дышал.
– Довольно! – Она стремительно встала.
– Значит, так?
– Открой мне дверь.
– Значит, так?
Наташа потрясла дверь. Снаружи лязгнуло железо.
Илья выплеснул на снег суп, надел ей на руку пустой котелок.
Дверь с грохотом закрылась.
Наташа, сутулясь, побежала к своему вагону.
Толстая коса выбивалась из-под шапки, змеилась по серой шинели.
Продолговатая синяя туча накрыла солнце. Посветлели ее края. Сбоку наплывали другие облачка, поменьше. Снизу наступали темные, отяжелевшие. Солнце было проглянуло между ними, подмигнув Наташе, но его тотчас же заволокло буро-серыми клубами, надвинувшимися снизу. Девушке стало тоскливо, сердце непривычно сжалось до боли.
Илья метался по вагону. Чего он, собственно, добивался от девушки? Она слабая, едет куда – сама толком не знает, пришла к нему с открытой душой, а он… Илья свалился на нары, заскрипел зубами от злости на себя.
Наташа поднялась в свой вагон, села к окну. Чем больше вдумывалась в только что происшедший разговор, тем больше возмущал ее Илья. Как мужик, грубый… И что в нем хорошего? Не разговаривать и не ходить к нему. Подумаешь, свет в окошке! А в глазах вставало его горящее лицо, в ушах шелестел жаркий, прерывистый шепот, и, как там, у него в вагоне, опять кружилась голова…
Эшелон задержали до «особого распоряжения». Фролов организовал поход в кино. Наташа пошла охотно. Ей хотелось увидеть фильм о мирной жизни, но картина оказалась военной. Вечером, после просмотра, девушки оживленно делились впечатлениями.
Наташа сидела задумчивая. Разве может она быть такой, как та девушка в фильме? Сильной, смелой, бесстрашной. Наверное, нет. Но, если нужно, она, Наташа Иванова, непременно постарается.
Установилась теплая весенняя погода. Солнце стало греть щедро, даже расточительно. Булькали деловитые ручейки, проталины дышали седоватым паром. Там, где была тень, белели нерастаявшие сугробы, сочась мутными слезами, будто оплакивая зиму.
Эшелон все еще стоял в тупике: по-прежнему ждали особого распоряжения. Иногда пролетали вражеские самолеты, но к ним привыкли, их не боялись. Весна, с голубым небом и журчанием ручейков, настраивала людей благодушно.
Начальника вызвали в штаб фронта. С ним выехала и группа командиров, которая должна была принять намеченный участок железной дороги. Всеми делами в эшелоне руководил Фролов. По его распоряжению люди расчищали станцию от последствий бомбежки. Путейцы ремонтировали стрелки, налаживали колею. Нашлись занятия и связистам. Как-то вечером Хохлов положил перед Фроловым приказ местных руководителей; в нем объявлялась благодарность связистам за досрочное восстановление разрушенного участка телефонной линии.
Это известие обрадовало начальника политотдела. Фролов понимал, что сплотить коллектив, подготовить его к будущим испытаниям можно только в условиях напряженного совместного труда.
Люди работали дни и ночи, помогая местным железнодорожникам, которые на двух-трех путях умудрялись пропускать за сутки столько поездов, сколько в мирное время не пропустить и за неделю.
На станцию тихо вкатился серый бронепоезд. Остановился, негромко лязгнув сцеплениями. Из люков стали выскакивать матросы. На последней открытой площадке стояли зенитные пушки, задрав в небо длинные стволы. Возле них ходили дежурные с автоматами и в касках. От суровых лиц моряков, от бронепоезда веяло чем-то торжественным, грозным.
Именно это чувствовал Илья, смотря на бронепоезд. Вот где есть возможность отличиться, показать свои способности. На пушках звездочки: в боях побывали. Илью тянуло к морякам.
Те чувствовали, что на них смотрят, но виду не показывали. Привычно перекидывались морскими словечками, шутили, сами смеялись больше и громче всех.
Кряжистый матрос выбил трубку о подбор сапога, заговорил баском:
– Ей-богу, не вру! На Северном флоте и не то получалось. Зайдешь, бывало, в гальюн по малому делу…
– Тс-с-с! – Молоденький морячок приложил палец к пухлым губам. – Девочки слушают.
– Не девочки, а бойцы, – нарочито громко отозвался чернявый хмурый матрос, приложив два пальца к каске.
Хохотали моряки, смеялись железнодорожники. Наташа досадливо отвернулась, но не смогла сдержать улыбки.
Тучи плыли коршунами, белесые по краям и темные до черноты в середине. Лучи солнца изредка пробегали по стальным плитам бронепоезда, по зеленым каскам матросов и зенитчиков, оживляли усталые лица. Поднимался ветер. Но никто не обращал на него внимания: рады были минутам беззаботного отдыха, этой встрече с неунывающими моряками.
Александр Федорович вертелся у бронепоезда, выспрашивал у бригады про своего младшего сына. Но никто не знал о таком, и Листравой огорченно сетовал, объясняя морякам, что он проводил Юрия на фронт вот в таком же поезде из брони.
– А что там с Демянском? Слопали котел с немцами? – спросил матрос Илью, набивая трубку табаком.
– Пробились фрицы на Старую Руссу.
– Растяпы!
Илья не понял, к кому относилось слово «растяпы»: то ли к нашим солдатам, то ли к немцам.
Ударили в рельс возле депо, потом где-то на станции, перезвон откликнулся в поле, за дальними домами. Завыли сирены, тревожно затрубили паровозы. Железнодорожники не предполагали бомбежки: не первый раз ложная тревога. А матросы кинулись к орудиям: они-то знали, почем фунт лиха…
– К бо-ою! То-овсь! – крикнул моряк с трубкой.
Эта властная команда ударом полоснула и по железнодорожникам. Краснов оглянулся и, не найдя старшего командира, неожиданно для себя приказал:
– В укрытия! Быстро!
Люди шарахнулись от путей, рассыпались, спря-
• тались,
Илья схватил за руку Наташу, толкнул в глубокую воронку. А сам наблюдал за небом, все еще не веря, что появятся немецкие самолеты.
Из-за облаков показались пять серо-грязных бомбардировщиков. Быстро вырастали их угрожающие крылья. Как и раньше, Илья не испытывал страха, но какое-то обостренное чувство ожидания захватило его.
Наташа инстинктивно схватила руку Ильи.
Пушки стреляли наперебой, захлебывались пулеметные скороговорки.
Наташе казалось, что на небе не осталось ни одного непораженного места, но самолеты плыли неуязвимо и хищно. Ей стало страшно, пересохли губы.
Илья прижал девушку к себе. Было видно, как два передних бомбовоза отвалились от группы, круто пошли вниз.
В то же время бронепоезд покатился вперед, навстречу косо падавшим хищникам. Его зенитные орудия были настороженно прицелены в небо.
Илье из укрытия почудилось, что они – поезд и самолеты – должны вот-вот столкнуться. Он не стерпел:
– Остановитесь!
Перед паровозом дрогнула земля, вверх взмыл клуб дыма.
Илью тоже отбросило тугой волной. Он упал, беспомощный, оглушенный.
Рядом опять грохнуло: посыпалась земля, потянуло гарью и пылью. Наташа увидела, что откуда-то с неба на край воронки упало вагонное колесо и поползло к ним вниз. Она лихорадочно потащила Илью к другому краю. Колесо надвигалось ему на ноги, но он, потеряв сознание, не чувствовал этого. Девушка едва успела оттащить Илью дальше.
Парень очнулся, вскочил, но вновь свалился. На щеке у него выступила кровь.
Кругом все рвалось, громыхало, мигали ослепительные молнии. Илье было совестно перед Наташей за свою беспомощность. Он попытался встать. А девушке почудилось, что Илья смертельно ранен. Она прижалась к его груди, заплакала.
– Угощает, гад!
Он отстранил ее, сел. Сбросил измазанную в глине телогрейку. Потом с силой подтянулся на руках, стараясь выглянуть из воронки: «Что там с бронепоездом? Где моряки?» Он видел: Наташа что-то говорила ему – ее губы шевелились, но он не слышал. В ушах было глухо и тяжело.
– Дрянь всмятку получается! – злобно крикнул Илья, выбираясь из ямы. «Лучше у дела погибнуть, чем в яме, как крот!» – решил он.
Напротив стояла, перекосившись, открытая бро-неплощадка, у которой Пилипенко до налета разговаривал с матросами. Илью поразило, что матросы были в одних тельняшках и все еще стреляли по самолетам, поводя длинными стволами орудий. Он думал, что в таком пекле уже не осталось никого в живых. Моряков обволакивало дымом и желтоватой пылью. «Вот они-то не испугались», – с завистью подумал он. Но его внимание привлекли новые вражеские самолеты, вывалившиеся из серых облаков. Моряки повернули зенитки, навели: полыхнуло пламя, колобок дыма расплылся, отнесенный ветром. Снаряд попал в цель. Передняя машина закурилась, протянула черный хвост до земли.







