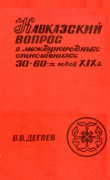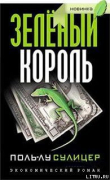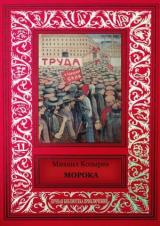
Текст книги "Морока (сборник)"
Автор книги: Михаил Козырев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 22 страниц)
Ленинград
Сатирическая повесть
Предисловие
Недавно в психиатрической лечебнице близ станции Удельная умер странный пациент. Доставлен он был в тринадцатом году из выборгской тюремной больницы: как будто он попал в свалку во время первомайской демонстрации и был помят лошадью. В больнице обнаружилось, что по мере улучшения физического состояния умственное все ухудшалось и ухудшалось. Несколько лет он лежал на кровати, вставая только в случаях крайней необходимости, и на все вопросы отвечал:
– Я умер. Не будите меня.
Затем наступило значительное улучшение. Он ходил по палатам, разговаривал, как вполне нормальный человек, читал газеты и книги. В такие моменты его ненормальность обнаруживалась лишь в том, что на вопрос:
– Который теперь год?
Он отвечал:
– Тысяча девятьсот пятьдесят первый.
Эта навязчивая идея ни на минуту не оставляла его. Иногда он, в безумии, начинал разговаривать с неодушевленными предметами, называя их странными именами, долбил ни с чем не сообразные параграфы какого-то учебника, в то время как в его руках ничего не было, произносил обвинительные и защитительные речи. Иногда ему казалось, что кто-то преследует его, что его судят, что его приговаривают к смерти.
В последнее время он пользовался некоторой свободой, ему разрешалось выходить на улицу, и он в этих случаях всегда посещал одни и те же места и к назначенному времени аккуратно являлся в лечебницу. Любимыми местами его посещений были Лесной парк, Сампсониевский проспект, Троицкая площадь. Он считал своей обязанностью участвовать во всех манифестациях, присутствовать на лекциях, на спектаклях в рабочем клубе. Если с ним заговаривал кто-либо из посторонних, он давал ясные, логически правильные ответы, но не мог не перекреститься, когда проходил мимо портретов вождей революции; портреты эти он называл иконами. Он следил чрезвычайно внимательно за всеми событиями современной жизни, но судил о них чрезвычайно парадоксально.
Недели за две до смерти он потребовал себе чернил и бумаги и не отрываясь писал день и ночь, ни на минуту не выходя из палаты и ни с кем не разговаривая. Записки его показались больничной администрации подозрительными и несомненно были бы уничтожены, если бы случайно не попали в руки автора этих строк.
Кроме некоторых моментов, записки эти не грешат против логики и здравого смысла, и я думаю, что они будут небезынтересны современному читателю.
Михаил Козырев
Москва, 3 октября 1925 г.
Первая глава
Вступление. Моя биография
Через две недели меня не будет в живых. Стены моей тюрьмы крепки, законы государства строги, исполнители действуют с точностью и безжалостностью машины. У меня нет надежды ни на бегство, ни на помилование. Мне дана только двухнедельная отсрочка для того, чтобы я описал историю моего преступления. Эту историю думают они напечатать тиражом в несколько миллионов экземпляров в качестве неопровержимого свидетельства бесплодности всех попыток свержения существующего порядка.
Я уже дал подписку, что отрекаюсь от всех своих заблуждений, и думаю, что наличность ее избавит мой труд от прикосновения цензорского карандаша: в дальнейшем мною будет руководить только стремление к возможной точности в описании событий, какими закончилась моя слишком длинная и богатая впечатлениями жизнь.
Я – рабочий завода «Новый Айваз», находившегося на Выборгской стороне неподалеку от Лесного. Эти названия, может быть, ничего не скажут моему читателю, но к новым названиям я не успел привыкнуть, а сейчас не нахожу ни времени, ни возможности навести соответствующие справки; пусть сам читатель на свободе сделает это.
На завод я поступил тринадцатилетним мальчишкой. Первое время мои обязанности были весьма и весьма несложны: я должен был подметать мастерскую и бегать за водкой для мастера. Но к двадцати семи годам, когда произошла катастрофа, речь о которой впереди, я мог уже занимать должность старшего подмастерья. Моего читателя может удивить подобная карьера, но в то время переход из одного состояния в другое был значительно легче, чем теперь, и притом судьба благоприятствовала мне. Четырнадцати лет встретился я с товарищем Коршуновым, тогда студентом технологического института, и его старания, вместе с моей настойчивостью и некоторыми способностями дали мне возможность выбиться, как говорили тогда, в люди.
Но в «люди» я так и не выбился. Одно время, правда, я пытался кое-что сделать для этого: так, я хотел держать экзамен на аттестат зрелости, с тем, чтобы поступить в политехнический институт, но попытка не удалась мне. Санкт-петербургский градоначальник категорически отказал мне в выдаче свидетельства о политической благонадежности – это понятие, надеюсь, знакомо каждому. И градоначальник был по-своему прав.
Дело в том, что мой учитель, а впоследствии близкий друг и товарищ – Коршунов (я не называю его настоящего имени, потому что имя это является ныне одним из наиболее чтимых имен) – был видным деятелем социал-демократической партии, стремившейся к ниспровержению существовавшего тогда строя. Он вовлек меня в партийную работу, и еще мальчиком во время революции 1905 года я был арестован за участие в неразрешенной демонстрации и при аресте даже оказал сопротивление полиции; факт этот и процесс подробно описаны в истории революционного движения, и догадливый читатель сам сможет навести справки. Дело сошло для меня вполне благополучно, но политическая благонадежность потеряна была навсегда.
Неудача на легальном поприще заставила меня окончательно и целиком отдаться партийной работе. В течение четырех предшествовавших катастрофе лет я был членом партийного комитета, деятельным агитатором, активным участником партийной газеты, организатором профессиональных союзов и больничных касс. За эту деятельность я подвергался неоднократным репрессиям, сидел в участке, в знаменитых по тому времени «Крестах», был высылаем последовательно: на родину, в Архангельск и, наконец, в Сибирь.
Из Сибири мне удалось бежать, и, вернувшись в Петербург, я продолжил нелегальную работу на том же самом «Айвазе», куда был опять принят на работу в качестве слесаря. Для объяснения этого невероятного с современной точки зрения факта я должен напомнить, что административная машина в то время не была так хорошо налажена, как теперь: люди убегали из тюрьмы иногда накануне казни, а получить подложный паспорт и поступить с этим паспортом на завод не представляло ни малейшей трудности.
Прибыл я в Петербург как раз накануне первого мая. Тотчас связавшись со своей организацией, я принял деятельное участие в подготовке праздника.
Две недели, проведенные мной в Петербурге со дня возвращения из Сибири до роковой катастрофы, я до сих пор люблю вспоминать и считаю их самыми светлыми днями моей прежней жизни. Вынужденные «отсиживаться» накануне крупного выступления, я и мои товарищи собирались по вечерам в комнатке легального студента, жившего где-то на проспекте Шадрина – то есть в районе почти недосягаемом для полицейского ока. Там я в первый раз влюбился, и, к сожалению, почти безнадежно, в белокурую голубоглазую курсистку: надо сказать, что лишенный с малолетства женского общества, в роли влюбленного я был до смешного робок и наивен. Я только таращил глаза на предмет моей страсти и глупо краснел, когда она обращалась ко мне с каким-либо вопросом. Да и чего было ждать от человека, для которого слово «свидание» напоминало о тюремной решетке, а никак не об условленной заранее встрече с любимым существом? Описать предмет своей страсти я не решаюсь. Звали ее Марусей, а студент (и мой счастливый соперник) называл ее Мэри.
Вечера наши проходили в оживленных беседах, темой которых была, конечно, та новая жизнь, за которую мы боролись.
В каких розовых красках представлялась нам эта новая жизнь! Мы не сомневались, что все экономические противоречия будут уничтожены; мы не сомневались, что в новом обществе не будет голода, холода и нужды – нас занимали в то время совсем другие вопросы: семья, брак, любовь – вот что интересовало нас. В этом счастливейшем общежитии будут ли урегулированы те сложные человеческие взаимоотношения, которые мы называем любовью?
«Свободная любовь» – отвечала теория. Ну, а несчастная любовь? Возможна ли она? А если возможна – где же полное счастье?
Все попытки разрешить эти вопросы, опираясь на материалистическое мировоззрение, оканчивались неудачей: был какой-то дефект в самом мировоззрении, но в этом мы не решались сознаться. Если читатель примет во внимание, что среди спорящих трое были влюблены, причем один из них явно безнадежно, то он поймет, до какой степени длинны, горячи и бестолковы были наши споры.
Только Коршунов не принимал участия в этих беседах. Он предпочитал, спрятавшись в угол, спокойно пить чай, изредка отвечая своим собственным мыслям едва заметной иронической улыбкой.
– А вы что думаете? – спросили мы его однажды.
Он усмехнулся и ответил:
– Я думаю, что все это – пустая болтовня.
Мы стали горячо возражать ему. Он заметил:
– Мы ничего не можем знать о будущем.
– Тогда за что же мы боремся?! – выкрикнул я.
– Мы не можем желать того, чего не знаем, – поддержала меня Мэри.
– Мы боремся за новые экономические взаимоотношения, – ответил Коршунов, – а там посмотрим, что вырастет на почве этих новых отношений. А наше дело – борьба.
Я, а может быть, и другие услышали в этих словах нечто вроде упрека: вы занимаетесь пустой болтовней и забыли о самом главном! Разговор перешел на другие предметы, но в душе каждого из нас остался неприятный осадок.
Вторая глава
Катастрофа
Две недели прошли незаметно. Завтра первое мая. Я рисковал больше, чем все мои товарищи, – за мною был самый длинный хвост «преступлений», мне грозила в случае неудачи или Сибирь или виселица.
Думал ли я об этом? Мало. Меня занимали два вопроса: выступление и… любовь. Ночь перед выступлением я провел в квартире того же студента. Мэри была особенно ласкова со мной, и мне стоило большого труда уйти, не сказав ей ни слова. Я бы, возможно, и сказал, если бы не присутствие Коршунова: его холодный взгляд и сухая ироническая улыбка преследовали меня и отравляли мое едва народившееся чувство. Если бы это продолжалось дольше, я возненавидел бы Коршунова.
Но – довольно. Вот и день выступления. Сборный пункт назначен в Парголовском лесу. С утра поодиночке стали собираться рабочие; клочки бумаги и разноцветные тряпочки, развешанные по деревьям, указывали дорогу. Когда почти весь народ был в сборе, я встал на пень и развернул красное знамя. Кто-то затянул «марсельезу», другие подхватили, мощные звуки революционного гимна взметались все выше и выше, возбуждая, опьяняя и сплачивая в одну бурную лавину разрозненные до того толпы рабочих.
Я начал говорить. Я говорил о будущей революции, о мощи рабочего класса. Я говорил, что час нашей победы недалек.
Я не могу передать этой речи, но по силе революционного чувства это была лучшая из моих речей. Я видел, каким огнем загорались глаза моих слушателей, я чувствовал – они встанут все, как один, и пойдут на гибель, на лишения, на смерть…
И вот – обычное для того времени явление: близкий конский топот, захрустел валежник. Кто-то крикнул:
– Спасайтесь! Казаки!
Заплясали кони, засвистали нагайки. Крики, проклятия, стоны.
Я крепко держу в руках знамя. У меня даже мелькнула тщеславная мысль – «умру со знаменем в руках». Чем смерть со знаменем в руках лучше всякой другой смерти – я не смогу объяснить читателю. Конечно, это было безрассудством, но в нашей среде безрассудство называлось героизмом.
Я помню: лошадиные копыта, бородатая физиономия казака с выпученными, налитыми кровью глазами – и. ничего больше.
Очнулся я в тюремной больнице. Открыв глаза, я первым долгом бросил взгляд на висевшую над моей койкой дощечку, и каков был мой ужас, когда я увидел на ней свою настоящую фамилию! Бежавший с каторги! Мне предстояло теперь или длинное путешествие в Сибирь или очень короткое, но еще более неприятное путешествие в иной мир при помощи самой обыкновенной веревки и двух обыкновенных столбов с обыкновенной перекладиной.
Но я был молод и не умел предаваться отчаянию. Если у меня нет плана спасения, значит, мне нужно время для обдумывания этого плана – бежать из больницы все-таки легче, чем бежать из тюрьмы. Я притворился более слабым, чем был на самом деле, и постарался оттянуть время.
Случай помог мне.
Рядом со мной на соседней койке лежал длинный худощавый человек со смуглым до черноты лицом, большими черными пронизывающими глазами и черной колючей бородой. Что это за человек, за что он посажен в тюрьму, какова его профессия, его национальность? Но все мои старания были тщетны. Незнакомец заметил мое внимание к его особе и обратился ко мне с незначащим вопросом. Голос и акцент окончательно сбили меня с толку, и я прямо без обиняков спросил его: кто он, чем занимался и как попал в это неприятное место.
Незнакомец и не думал скрывать своего имени и профессии.
– Я – знаменитый индийский факир, – сказал он.
Имени его я повторить не могу, но помню, что афиши с этим именем не раз попадались на улицах. Оказалось, что он произвел не совсем удачный опыт с распарыванием живота одного «желающего из публики» и одновременно поранил самого себя.
Я был рад случаю потолковать с таким интересным человеком. Пользуясь отсутствием сиделок, кстати сказать, мало обращавших внимания на больных, мы беседовали целыми днями. Факир рассказал мне о своем прошлом, знакомил с индийской мудростью и даже показал несколько опытов, подтверждающих правильность его учения. Он говорил, что современный европеец не умеет пользоваться силами, живущими внутри нас, и не хочет научиться этому, а вот индусы настолько изучили свою бренную оболочку, что могут не обращать внимания на прихоти своего тела. Он – знаменитый факир – может три месяца не прикасаться к пище и может на любое время остановить действие своего сердца.
Я не поверил этому.
– Можно показать на примере, – возразил индус.
И вот через две-три минуты я заметил, что мой сосед умер. Он даже вытянулся, как покойник, и похолодел. Я готов был крикнуть сиделку – как вдруг покойник зашевелился, открыл глаза и произнес как ни в чем не бывало:
– Я мог бы пролежать так любое количество времени. Год, два…
После этого опыта я не спал целую ночь. Еще бы! Видеть такое зрелище не с галерки цирка, думая, что все это в конце концов шарлатанство, а рядом с собой, да еще в тюремной больнице. Но скоро, по свойственной мне практичности, я стал думать о том, как бы использовать необыкновенные знания факира в своих собственных интересах.
И, наконец, я придумал.
– А не можете ли вы, – сказал я факиру, – сделать и меня мертвым?.. Ну хотя бы на полчаса.
– На любое время, – ответил факир, – Не хотите ли попробовать?
Я выразил согласие.
– Посмотрите на солнце.
Я заметил местонахождение солнца по тени, падающей от решетки.
Не знаю, что он сделал со мной, но когда, как мне показалось – через секунду, я открыл глаза, солнце стояло значительно ниже.
– Прошло полтора часа, – сказал мне факир, – у вас очень податливая организация, вам стоило бы родиться в Индии.
Тогда я познакомил его с моим планом. План этот был прост до гениальности: факир умерщвляет меня дня на два – по моим расчетам большего не требовалось. Доктор свидетельствует мою смерть, меня выносят в мертвецкую, а оттуда – на кладбище. Я хорошо знаю тюремные обычаи: телега, запряженная клячонкой, на телеге гроб, на гробу сторож, мирно раскуривающий цигарку: мертвец – самый спокойный из арестантов. Проснувшись, я сильным ударом открываю крышку гроба, выскакиваю и убегаю на глазах перепуганного возницы.
– Но ведь могут произвести вскрытие? – вспомнил я.
– Не беспокойтесь, – ответил факир, – как только к вам прикоснется нож, вы проснетесь.
Следовательно, я ничем не рисковал. Самые мрачные предположения были ничто в сравнении с той участью, которую готовили мне судья и палач.
Десятого мая мой план был приведен в исполнение.
Я помню: сознание мое затуманилось, промелькнули смутные видения – как бы в дремоте – и все…
Третья глава
Ленинград
Проснулся я от свежего весеннего ветерка. Первое инстинктивное движение – поднять руку и протереть глаза. Но рука моя уперлась во что-то твердое. Я вспомнил все, снова толкнул крышку и потерял сознание.
Когда я открыл глаза, я увидел солнце, опускающееся к западу, распаханное поле и деревушку вдали. С трудом поднявшись, я осмотрелся и заметил в стороне дымящие фабричные трубы.
Неужели меня не довезли до кладбища и бросили посреди поля? Где мой возница?
Но тут я заметил, что мой полуистлевший гроб со всех сторон засыпан землей. Значит, меня зарыли. Почему же так неглубоко? Сколько времени провел я в могиле?
Но долго раздумывать было некогда. Я чувствовал слабость, мне надо было как можно скорее найти пищу и ночлег. Город невдалеке – это, конечно, Петербург, я думал только, что вижу его с незнакомой мне окраины, – и направился к городу.
Миновав безлюдное поле, – я выбрался на широкое шоссе. Навстречу мне изредка попадались люди, одетые в лохмотья, подобные моим. Они исподлобья поглядывали на меня.
«Это нищие выбираются из города», – подумал я и, подойдя к одному из них спросил:
– Как мне пробраться в Лесной?
Нищий удивленно посмотрел на меня. «А что, если это не Петербург?» – промелькнула быстрая мысль, и я спросил его:
– Какой это город?
Тот недоверчиво осмотрел меня с головы до ног и ответил:
– Ленинград.
Этот ответ изумил меня. Я напряг всю свою память, но не мог вспомнить такого города ни в России, ни за границей. Но, так как нищий понимает по-русски, – это Россия, сообразил я, и все-таки название города смущало меня. Я бы подробнее расспросил нищего, если бы он не убежал от меня с быстротой, свидетельствовавшей о его малом доверии к моей особе. Постояв несколько минут в раздумье, я направился к городу, – будь что будет.
У меня появилась надежда пробраться на вокзал и с первым же поездом доехать до Петербурга. Не может быть, чтобы такой большой город не был связан с Петербургом железной дорогой.
Я вышел на обширный болотный пустырь с двумя десятками покосившихся деревянных домиков, окруженных палисадниками и чахлыми болотными березками. Домики эти были расположены с удивительной правильностью, как будто бы кто-то задумал построить здесь дачный поселок, а потом бросил постройку: в этом окончательно убедила меня огромная вывеска с полустершимися от времени буквами: «Город-сад имени Н. А. Семашко». Теперь мне стало ясно, что лежавший передо мной большой город был построен тем же самым строителем, который планировал, хотя и неудачно, город-сад. Может быть, я где-либо в окрестностях Петербурга?
Скоро достиг я и юродских окраин. Серые захудалые домишки разочаровали меня: нет, этот город построен очень давно. Несмотря на сравнительно ранний час, на улицах никого не было. Редкие встречные с такой подозрительностью поглядывали на меня, что я не решался заговорить с ними и шел как бы ощупью, с завязанными глазами.
Дома стали появляться все чаще и чаще, шоссе кончилось – началась длинная широкая улица, застроенная большими каменными домами. Тут меня ждало небольшое испытание: на перекрестке я заметил фигуру в фуражке с малиновым кантом и револьвером на боку. Чутье старого революционера подсказало мне, что это полицейский. Заметил он меня или нет? По счастью, он смотрел в противоположную сторону, а я немедленно шмыгнул в один из близлежащих переулков.
Встреча с полицией не могла радовать меня по многим причинам: во-первых, я не знал, кто я и откуда явился, во-вторых, я – бывший арестант, в-третьих, у меня нет паспорта. Пошарив по карманам, я нашел нечто вроде паспорта: входной билет завода «Новый Айваз» с моей фотографической карточкой. Но, быть может, этого мало? На всякий случай я выбирал самые темные переулки.
Но скоро таких переулков стало немного. Я вышел на застроенный многоэтажными домами проспект и не замедлил узнать, что он называется: Проспект семнадцатого июля. Это название опять-таки ничего не сказало мне.
Над одним из домов я заметил большой, как мне показалось, золотой флаг с золотым гербом; сам герб я не мог рассмотреть, но это не был двуглавый орел. Я терялся в догадках, но спросить первого встречного о том, где нахожусь, боялся: хорошо одетые солидные господа, наполнявшие эту улицу, могли принять меня за нищего и позвать полицейского. И притом они так подозрительно смотрели – не только на меня, но и друг на друга.
Улица эта была, по-видимому, одной из самых главных. Мимо меня прошел трамвай, красный, испещренный надписями и рисунками, которые на ходу невозможно было разглядеть. Я пытался читать вывески – но и это занятие не помогло: странные, часто бессмысленные слова глядели на меня. Мне было тем более не по себе, что в глазах рябило, окружающее то всплывало, то исчезало – может быть, я не могу как следует прочесть эти вывески? Со мною и прежде не раз бывало так, и я знал, что это кончится ужаснейшей головной болью.
Изредка я закрывал глаза и, открыв их часто на одну секунду, чувствовал себя в Петербурге. Вот этот высокий дом, облицованный красным изразцом, – кажется, я когда-то видел его. Вот церковь – опять что-то знакомое. Вот переулок – кажется, я когда-то был здесь – но когда? Может быть, во сне? А вот название переулка, вывеска, золотой флаг на церкви вместо креста – нет, здесь я никогда не был. Знакомый магазин – кажется, только вчера я заходил сюда, – а над ним странное бессмысленное название «лепо» – то ли это владелец магазина, какой-нибудь француз, то ли название товара. Иногда вместо названия – номер, иногда – только инициалы.
Но чем дальше я шел, тем чаще и чаще мне казалось, что я в Петербурге. Почему же так изменился город? За сколько лет он мог так измениться? Может быть, все мои знакомые и друзья давно умерли, и я – только странная и смешная тень прошлого? От осознания этого у меня больно сжималось сердце, а слабость и невероятная головная боль еще более усиливали безнадежность моего положения.
И вот – я стою на тротуаре. Мне надо перейти второй, еще более широкий проспект; усиленное движение регулируется полицейским – я угадал, что человек в малиновой фуражке – полицейский. Вот он поднимает палочку, и я вместе с другими перехожу дорогу. Посреди улицы – второй поток экипажей. Я останавливаюсь, я имею возможность оглядеться. Смотрю: четыре бронзовых коня неподалеку и в самом конце проспекта блестящая золотом игла.
Сомнений не было:
– Да, это Невский проспект.
Меня не смутила надпись: «Проспект 25 октября». Теперь я знал, что я в Петербурге.
Свободно вздохнув и по-прежнему стараясь избегать полицейских, направился я к Выборгской стороне.
Мое спасение, казалось мне, было недалеко.