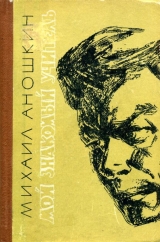
Текст книги "Мой знакомый учитель"
Автор книги: Михаил Аношкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 9 страниц)
Мой знакомый учитель
МОЙ ЗНАКОМЫЙ УЧИТЕЛЬ
(ПОВЕСТЬ)
1. Девятый
У Владимира Андреевича не клеились дела в девятом классе. Ученики встречали его настороженно, и в этой настороженности чувствовалось осуждение. Ему было обидно, что ученики, у которых он был еще и классным руководителем, так к нему относятся. Появилась скованность; урок объяснял сухо, понимал, что говорит в пустоту – его плохо слушали, хотя тишины никто не нарушал.
В классном журнале появились первые двойки. Владимир Андреевич попытался вызвать учеников на откровенность, выведать причину их неприязни: все-таки это был народ взрослый, у каждого за плечами не один год трудового стажа. Но разговора начистоту не получилось, словно бы между учителем и учениками кто-то встал и мешал сблизиться.
Глазков нервничал, не мог разобраться, почему ученики, которых директор школы Лидия Николаевна аттестовала ему как понятливых, добросовестных и дисциплинированных, бойкотировали его уроки.
Географичка Анна Львовна, кокетливая черноволосая женщина, лет тридцати, круто изломав правую бровь, однажды сказала:
– Милый Владимир Андреевич! Вы напрасно все принимаете близко к сердцу, право, не стоит. Кирилл Максимыч был кумиром ребят, и не удивляйтесь, что к вам прицениваются.
– При чем тут Кирилл Максимыч?
– Ах, какой вы, право. Старик он своеобычный, не сработался с нашим узурпатором и ушел из школы.
Под «узурпатором» Анна Львовна имела в виду директора.
– Это я слышал.
– Вот и чудесно.
Два года в девятом преподавал литературу и был классным руководителем Кирилл Максимович Воинов, многоопытный заслуженный учитель. В свое время и сам Владимир Андреевич учился у Воинова, отлично помнил, каким волшебником по части детских душ он был. Тогда мальчишки класса, в котором учился Глазков, напропалую писали стихи – так сумел разбередить их Кирилл Максимович. Правда, здесь ученики взрослые, но и к ним удалось подобрать верный ключик, и девятый крепко привязался к старику. Но ушел из школы, унес с собой симпатии учащихся, а на долю Глазкова ничего не оставил. Кое-кто открыто показывал свое пренебрежение. Борис Липец, например, рыжий, воловатый каменщик, державшийся в классе несколько особняком, однажды на перемене сказал громко, чтоб слышал учитель:
– Прямо спать хочется. У старика, бывало, не уснешь.
Единственным человеком, не поддержавшим этот бойкот, была Люся Пестун, невысокая чернобровая девушка с тугой косой за спиной. Она всегда готовила уроки, охотно отвечала, и Владимир Андреевич в душе был благодарен ей за поддержку. Он спрашивал ее чаще других, и она не удивлялась, понимая, по какой причине это делается. И когда Борис Липец попытался истолковать все по-своему, недвусмысленно намекая, что у Люси ревнивый муж, она гневно отчитала его. Если бы в ту минуту Борис отважился повторить свои подозрения, она, не задумываясь, отхлестала бы его по щекам. Но у Бориса хватило соображения промолчать, потом даже извинился.
Лидия Николаевна, директор школы, хотела было вмешаться во взаимоотношения девятого с Глазковым, объясниться с учащимися, призвать их к порядку, но Владимир Андреевич решительно возразил:
– Не надо. Справлюсь сам.
– Но это же отражается на успеваемости!
– Наверстают!
Позднее усомнился сам же: наверстают ли? Время идет – не остановишь, а материал девятиклассники усваивают плохо – безнадежно отстанут. Словно стена встала на пути. Как ее разрушить? Владимир Андреевич терялся. В жизни случались положения потяжелее и позапутаннее, и как-то все обходилось. Жена его, Лена, тоже переживала. Хотя и сама была учительницей, а что могла посоветовать? Призвать к терпению – и только. Привыкнут, и все пойдет своим чередом. Лишь об одном попросила:
– Не сорвись, Володя. Тогда ничего нельзя будет поправить. – Она-то знала, сколько силы воли приходилось ему употребить, чтобы не сорваться! Неминуем взрыв, и она страшилась этого взрыва, может быть, не меньше самого Владимира Андреевича.
2. Вз рыв
За богатырской Борисовой спиной не было видно ничего. Пришлось устраиваться ему на самой задней парте: там он прижился и чувствовал себя вольготно.
На этот раз Бориса сильно клонило ко сну. Вчера порядком погуляли с дружками, немало выпили водки и колдобродили до первых петухов. Только разоспался, разбудила мать: пора на работу. Возводили жилой дом. Тут не задремлешь – сосед слева, сосед справа, кладут ровно, нельзя от них отставать. Да и холодный ветерок хорошо бодрил. После работы не хотел идти в школу, тянуло в кровать, но заворчала мать: опять занятия пропустишь, мне и так от Василия за тебя попадает. Пришлось повиноваться.
Борис подпер голову рукой, борясь со сном, но это не помогало. Веки слипались, и он, наконец, сдался.
Владимир Андреевич заметил, что Липец спит, однако не стал его трогать, не хотел отвлекать внимание класса. Но тот вдруг захрапел. В классе засмеялись. Женька Волобуев, очкастый парень, крикнул:
– От дает, бродяга!
– Ты-то чего! – оборвала его Нюся Дорошенко. – Ты-то чего радуешься? Да разбудите вы его, бессовестного!
Люся Пестун подошла к Борису, подергала за рыжий хохолок:
– Вставай, приехали!
Липец замычал. Люся потянула за хохолок сильнее, и Борис проснулся, сонными глазами уставился на Люсю, потом сладко потянулся:
– Ох-хо-хо, хохонюшки!
Люся возвратилась на свое место. Владимир Андреевич спросил Бориса:
– Вы учиться сюда пришли или спать?
Липец моргал глазами и виновато улыбался. Кто-то подзадорил:
– Видать, натанцевался вчера со своими дружками!
– А чего? – отозвался Липец с ухмылкой. – Ноги у меня целые, почему бы и не потанцевать?
Владимир Андреевич внезапно почувствовал удушье. С ним однажды такое было, давным-давно, во время войны, когда жил у тетки Марфы. Раненый, еле живой, сполз он с топчана и пополз по глинистому полу на кухню, чтоб найти нож или какой другой острый предмет и покончить счеты с жизнью. И тогда вот такая же тупая ноющая боль сжала сердце, и он потерял сознание.
Сейчас Владимир Андреевич закрыл ладонью глаза, пережидая, когда боль немного утихнет. Почувствовав улучшение, медленно поднялся, тяжело опираясь о стул руками. Белки глаз посекли кровяные жилки. Скуластое лицо с широким носом было еще бледно, но уже кровь постепенно приливала к щекам. Поднимаясь, Владимир Андреевич задел трость, и она громко ударилась об пол. Лишь теперь он услышал гнетущую тишину. Первым его желанием было уйти, остыть от обиды, нанесенной ему Липецом – на фронте Глазков потерял ногу и принял последние слова Бориса на свой счет. Но остался – обида прорвала его терпение. Ему хотелось зло отчитать этих мальчишек и девчонок, самому старшему из которых едва ли исполнилось двадцать пять, за то, что они незаслуженно мучают его вот уже два месяца, бойкотом своим отравляют ему жизнь.
Но и этого не стал делать. Он стоял перед классом молчаливый, с туго сведенными у переносья бровями и неподвижно смотрел перед собой, ожидая, когда уляжется обида.

Липец растерялся: он никогда не думал, что его слова так сильно подействуют на учителя; собственно, он совсем не хотел обижать его, невзначай получилось, ради озорства было то сказано. Люся Пестун, видя учителя таким, вся от сочувствия сжалась, подалась вперед, как бы порываясь сказать: «Не надо, не надо, Владимир Андреевич! Успокойтесь, а с Липецом мы сами потолкуем».
Владимир Андреевич нагнулся, поднял трость и почему-то положил ее на стол. И это окончательно его успокоило.
– У меня достаточно накопилось причин, чтобы поставить вопрос о вашем поведении на педсовете, – тихо начал Владимир Андреевич, – но я не буду о них говорить. Мы с вами люди взрослые, и думаю, что разберемся без вмешательства директора. Только я не могу понять одного. Неужели среди вас не нашлось такого человека, который бы спросил сам себя, спросил своего товарища: друзья, что мы делаем и ради чего это делаем? Вот, – Владимир Андреевич потряс классным журналом, – за два месяца десять двоек по литературе. Рекорд! Позорный рекорд! И по другим предметам картина такая же. В чем дело? Вы же сознательные люди, вы же пришли сюда набираться знаний, и вас, по-моему, никто сюда не гнал. А ведете себя так, что мне за вас стыдно. Да, стыдно. И вот мой вам товарищеский совет: пока еще не поздно, кончайте эту игру. Вы и так уже упустили много. Не тратьте время на глупости. Кажется, вы, Семенов, что-то хотите сказать? Не согласны?
Юра Семенов, тоже каменщик, как и Липец, по многолетней армейской привычке хотел было вскочить и отрапортовать:
«Так точно, согласен!» – но, видно, вспомнил, что в армии не служит уже третий месяц, краснея, ответил:
– Все правильно, Владимир Андреевич.
– Приятно слышать. Что же касается танцев, то можете, Липец, танцевать сколько вам угодно, в этом преграды я вам не чиню. Но уж коль вы пришли в класс и сели за парту, то будьте добры вести себя как подобает. А не будете, призовем к порядку.
Владимиру Андреевичу хотелось еще добавить: «Целые здоровые ноги – это, конечно, счастье. Но я потерял ногу в бою, в жестоком бою, чтобы ты, Борис Липец, мог сегодня спокойно работать и учиться».
За дверью прозвенел звонок на перемену, Глазков не слышал его. Он опустился на стул, снял трость со стола и с минуту сидел неподвижно, собираясь с силами. Почему-то навалилась усталость. Никто из учащихся не двинулся с места.
Домой Владимир Андреевич вернулся поздно. Лена в ванне стирала белье, а Танюшка спала. Дочурка второй день перемогалась, и сегодня не повели ее в детский сад. Вызывали врача, и Владимир Андреевич первым долгом спросил жену:
– Был?
Лена отложила стиральную доску, выпрямилась. Руки у нее были мокрые, а прядки волос упали на лоб и мешали глазам. Лена убрала их локтем. Устала: это было видно по ее голубым глазам, по тяжелой складке у рта, по замедленным тяжеловатым движениям, и теплая волна жалости захлестнула его. Ему хотелось взять ее натруженные руки, побелевшие от стирки, прижать к своим щекам и сказать что-нибудь ласковое, доброе-доброе, чтоб скрасить ее усталость. Эта нежность, родившаяся кстати, начисто смыла горькое раздражение, и Владимиру Андреевичу случай в классе уже не казался таким оскорбительным. Наоборот, был даже доволен, что наконец высказал ученикам все, что думал, и они его слушали внимательно, кажется, в первый раз.
– Ну, что он сказал? – спросил Владимир Андреевич, приближаясь к Лене. – Серьезное что-нибудь?
– Ангина.
– Пустяки, – облегченно вздохнул он. – Кончай свою фабрику. Завтра достираешь.
– Тут и осталось-то…
– Ничего, никуда не денется.
Он ее уговорил, и они сели ужинать вместе.
– Тебе два письма, от тетки и еще откуда-то. На твоем столе, – вдруг вспомнила Лена.
Квартира у Глазкова двухкомнатная. В маленькой устроили спальню, а большая служила чем-то вроде гостиной. От второй Владимир Андреевич отхватил себе маленький кусочек у самого окна, отгородил ширмой и поставил письменный стол. С тех пор отгороженный уголок получил громкое название: «Папин кабинет». В этом кабинете занималась и Лена, потому что в большой комнате должен был быть всегда порядок. Круглый стол, застланный скатертью с махровыми кистями, являлся своего рода украшением. Посередине высилась изящная фарфоровая статуэтка балерины, и покидала она это видное место лишь во время праздничных обедов.
Лена занялась уборкой в ванне, а Владимир Андреевич, поужинав, ушел к себе в кабинет, зажег настольную лампу-грибок и взял письма. Первое было от тетки. Она писала:
«Милый племянник Володенька!
Совсем ты забыл меня, старуху. Приехал бы как-нибудь навестить. Варя вот тоже давно не была. Соскучилась я о вас, слов моих нету сказать об этом. Варенька обещалась на Октябрьский праздник. Приезжай и ты с Леной».
Писала плохо, каракулями.
Варя – дочь Василины. Она окончила театральное училище и получила назначение в Новосибирск. Там в областном театре работает актрисой. Ох, как противилась тетка Василина, как она не хотела, чтоб дочь стала «комедианткой»! А сейчас ничего, даже как бы довольна. Года два назад Варя снималась в кино. Фильм этот показывали в Кыштыме, и тетка ходила на него каждый день и водила с собой своих соседок.
Второе письмо было от пионеров той деревни, где в войну Глазкова скрывала от немцев тетка Марфа. Вот что писали пионеры:
«Уважаемый Владимир Андреевич!
Вам пишут пионеры семилетней школы. Возле нашей деревни есть братская могила. Директор школы Иван Петрович говорил нам, что во время Великой Отечественной войны здесь был сильный бой. В этом бою погибло много наших солдат и командиров. Но фамилии многих из них нам неизвестны. На пионерском сборе мы решили начать поиски, чтобы все знали, кто погиб в этом бою. На братской могиле стоит обелиск, вот мы и хотим написать на обелиске фамилии героев. Мы обращались во многие места и даже в Москву. В одном письме нам ответили, что в бою за нашу деревню погиб сержант Владимир Глазков. Мы хотели нанести Вашу фамилию на обелиск, но об этом узнала Марфа Ильинична. Она сказала, что Вы вовсе не погибли, а живы. Она показала нам Ваши письма и Вашу красноармейскую книжку. Марфа Ильинична говорит, что она забыла отдать Вам эту книжку, и теперь бережет ее, как память о Вас.
Пионеры нашего отряда просят написать о Ваших товарищах, которые погибли в этом бою».
Владимир Андреевич откинулся на спинку стула и закрыл глаза.
Много лет назад отгремела война, отдымили пожарища. Отстроились заново выжженные села, из руин, как в сказке, встали светлые белокаменные города, острые плуги запахали рвы и окопы. Пришло в жизнь новое поколение – жизнерадостное, красивое, устремленное вперед. Оно заполнило аудитории институтов, встало у станков, село за штурвалы, заняло место в солдатском строю. Уже взмыли в голубую высь мощные ракеты. Все обновилось, сбросило с себя старые, износившиеся одежды.
И все-таки нет-нет да где-нибудь аукнется прошлое, схватит за сердце воспоминаниями. А сильнее и памятнее прошлого, чем война, у Глазкова ничего не было, и не только у него, но и у всех его ровесников, у всех, кто наглотался порохового дыма, изнывал в тоске по дому, стонал от ран и от того, что терял друзей. По всей нашей многострадальной земле тут и там высятся островерхие строгие обелиски как памятники минувшего, как благородная дань живых погибшим в боях и умершим от ран. И есть такой памятник на воронежской земле, под которым лежал бы сейчас и он, Владимир Андреевич, если бы не тетка Марфа. Под тем памятником покоятся его боевые друзья… Друзья-товарищи…
Неслышно подошла Лена, положила ему руку на плечо, спросила:
– Ну, что пишут?
Вместо ответа он подал ей письмо пионеров. Она прочла и сказала:
– Надо написать им.
Он согласился.
– Надо.
– Пойдешь спать?
– Нет, Лена, я еще посижу, позанимаюсь, а ты иди, иди.
Когда она ушла, Владимир Андреевич достал дневник и записал:
«Сегодня объяснялся с девятым. Я ждал этого объяснения и боялся его. Но оно прошло буднично, без крика, хотя я готов был разорвать этого Липеца. Наступил на больное место. А ведь знаю, что парень проговорился случайно, что вовсе не хотел меня обидеть. Дома ожидало меня письмо от пионеров. Оно разбередило мое сердце, всколыхнуло давно минувшее. Минувшее…»
Владимир Андреевич воткнул ручку в держатель, подперев лоб ладонью левой руки, и задумался.
3. Минувшее
Оно вставало в памяти четко, немеркнуще и волновало каждый раз, как только он к нему возвращался.
В сорок втором году сержанта Владимира Глазкова тяжело ранило в бою. С раздробленной ногой и перебитой рукой очутился на вражеской территории и в беспамятстве истекал кровью. Но в плен не попал. Полуживого подобрала сержанта тетка Марфа из той самой деревни, за которую дрался батальон Глазкова. Жила она в маленькой, с подслеповатыми окнами избушке, чудом уцелевшей от огня и бомб. Очнулся Владимир на пятый день и ничего не мог понять и припомнить, от большой потери крови мутился разум. Тетка Марфа делала примочки из каких-то трав, поила горьким настоем, но ему делалось все хуже и хуже. Она не спала ночами, плакала, сердце у нее было доброе, и оплакивала не только этого горемычного солдата, но и сына, пропавшего без вести в первые дни войны. По утрам выходила во двор и долго вслушивалась в канонаду. Она ждала, что наши соберутся с силами, погонят фашистов так, что от них полетят ошметки. Но канонада удалялась и удалялась, а в одно ненастное утро совсем смолкла. Тогда надежды на скорое возвращение своих пропали, и тетка Марфа впала в отчаянье: солдат умирал на ее глазах. Она пошла с горя к соседу деду Игнату и рассказала ему все. Тот долго скручивал козью ножку, а еще дольше бил камнем о кресало, высекая искру на трут, чтоб прикурить, и молчал.
– Ну, что же ты молчишь? – взмолилась тетка Марфа, а дед Игнат ответил ей на это так:
– Тебе легче будет от моих слов?
Ничего не добилась тетка Марфа от деда, но ночью к ней кто-то постучал. Марфа испуганно схватилась за грудь. Голос деда Игната успокоил:
– Свои, свои, открывай.
Она впустила деда, а с ним еще какого-то человека. Быстро завесила окна, вздула лампу и увидела, что спутник деда Игната молод, в солдатской шинели, с пистолетом на боку и с брезентовой сумкой в руках, а на сумке той красный крест.
– Доктора привел, – сказал дед Игнат, и тетка Марфа заплакала, но на этот раз от радости, ибо поверила, почему и сама не знала, что этот молодой доктор обязательно спасет жизнь Глазкову.
Доктор пробыл у тетки Марфы сутки. Звали его Иваном Дягилем. Владимир Андреевич на всю жизнь запомнил это имя, мечтал еще раз с доктором встретиться. После войны ему сообщили, что доктора казнили фашисты. Вот так же пошел Иван Дягиль в деревню спасать больного человека, да не поберегся. Схватили его немцы, пытали. Избили до полусмерти и еле живого бросили в прорубь.
Иван Дягиль прямо в полутемной Марфиной хате отрезал Владимиру ступню правой ноги – она уже загнивала, ее охватил антонов огонь, – очистил руку от осколков кости и мелких черных осколков гранаты. На руку наложил лубок из липы.
Так и прожил Глазков у доброй тетки Марфы до светлого дня, когда вернулась Красная Армия.
Те полтора года были похожи на один сплошной серый день, без просветов и без надежд. Однажды, в минуту особенного черного помутнения рассудка, превозмогая адскую боль, сполз с топчана и пополз по глинистому полу на кухню, рассчитывая найти там что-нибудь острое – нож, вилку, топор, хоть что-нибудь, – и покончить счеты с жизнью. Десять шагов, которые отделяли топчан от кухонного стола, оказались для него непреодолимыми. На полпути сержант потерял сознание, и в таком состоянии застала его тетка Марфа. Она поняла сразу, какая у него была цель, жалобно запричитала и побежала звать деда Игната. Вдвоем снова уложили бесчувственное тело Глазкова на топчан. А когда Владимир очнулся, дед Игнат осуждающе качал головой и с упреком приговаривал:
– Ох, солдат-солдат, ох, несуразная твоя голова.
Он смастерил Владимиру протез-деревяшку, и тот пользовался ею до сорок третьего года.
Уже осенью прогрохотали в деревне танки. Не по годам проворно вбежала в дом тетка Марфа и радостно выдохнула:
– Наши!
Потом она разыскала какого-то майора, привела его к Владимиру. Увидев калеку с лихорадочно горящими глазами, майор вздохнул и спросил у Глазкова, кто он и из какой части. Пообещал позаботиться о нем и ушел.
Через день появился старшина, на груди которого поблескивало несколько медалей, фуражка лихо сбита набекрень, на лоб вывалился кучерявый чуб. Старшина весело козырнул тетке Марфе:
– Здравия желаю! Где тут раненый партизан?
Глазков в ту пору перемогался: болела нога и боль передавалась в руку. Владимир сел на кровать и хрипло отозвался:
– Я здесь. Только я не партизан.
– Ничего, – подмигнул старшина, – теперь ты в надежных руках.
А тетка Марфа засуетилась:
– Молочка не хотите ли? А то бульбочки? Горилки сберегла немного.
– Горилки? Ото добре! – старшина расправил усы, по-хозяйски уселся за стол и спросил Глазкова:
– Як дела, станичник?
– Хвастаться нечем.
– Ничего, не горюй! У нас доктора не доктора, а прямо-таки прохвессора. Мигом подправят, подштопают и на ноги поставят. Это я тебе говорю.
Глазков вздохнул тяжело, приподнял культю:
– Видишь? Поздно, брат!
– Ха! – возразил старшина. – Зроблят другую, лучше маминой будет. Не журись, козак! Бабуся, ну, где ж твоя горилка?
Глазков давно не видел людей жизнерадостных, уверенных в себе, как этот старшина, и невольно сам заразился этим. Потихоньку стал собираться в неизвестную дорогу, и вдруг зажегся в нем интерес к тому, что ждет его завтра. Глазков принялся прикручивать «деревянную ногу», а старшина округлил глаза от удивления, присвистнул:
– Ни, ни! Не треба! Оставь цую бандуру бабусе на память!
Привык к деревяшке Владимир, жалко было бросать, но старшина был неумолим. Он взял Глазкова в охапку, словно ребенка, вынес на улицу и положил в бричку на свежую солому. Тетка Марфа шла следом, глотала горькие слезы. Она так расстроилась, столько много колючих слез подступило к горлу, что не могла ничего сказать. Так и уехал Владимир, не услышав на прощанье от тетки Марфы ни одного слова. Он и сам тогда плакал, а старшина сидел к нему спиной, понукал лошадей и молчал.
…Началась мучительная полоса скитаний по госпиталям.
Сначала Владимира определили в санбат, потом передали в полевой госпиталь, а оттуда направили долечиваться в так называемый эвакогоспиталь. Замкнутого, мрачного Глазкова поместили в санитарный поезд вместе с такими же горемыками, как и он сам, и повезли неведомо куда. Раненые гадали: куда же их везут? Каждый втайне надеялся, что привезут поближе к дому. Не волновался только Глазков: ему было все равно куда ехать. В Сибирь так в Сибирь, на Кавказ так на Кавказ. Жизнь опять теряла всякий смысл. Кому он такой нужен? Калека. Ни к какому ремеслу не приучен – десятилетка, армия, война, ранение, и ни одного близкого человека на всей земле. Отец умер давно, мать – в сорок первом. Ни брата, ни сестры. Круглый сирота, сирота-калека. Живет на Урале тетка, материна сестра. Ехать к ней таким? Нет…
В поезде ехали ребята, которые ранения получили в последних боях. Под надоедливый перестук колес раненые время коротали в разговорах. Вспоминали фронтовых друзей, своих командиров и всякие были и небыли. Себя не хвалили, не бахвалились похождениями, а наоборот, по какому-то молчаливому сговору о себе рассказывали с иронией, даже насмешливо.
– Гром гремит кругом, света белого не видно – вот как, паразит, лупит. Ну, думаю, амба, хоть маму кричи, хоть караул: все равно душа с телом расстается. А тут лейтенант подползает и орет: «Давай, давай! Вперед!» Хотя и душа в пятках, а вперед надо. Гляжу, поднялись славяне, я тоже, и пошли, и пошли! Ох, и шваркнули мы их тогда!
Глазков был невольным слушателем всех этих рассказов, они на него обрушились, как лавина. В них много такого, чего он не испытывал и никогда не испытает: вот эту лихую удаль наступательных боев, непередаваемое настроение душевного подъема, бесшабашность и даже романтику. Владимир чувствовал себя среди них чужим, посторонним, и ему не было дано того, что было дано им.
Санитарный поезд прибыл в Ереван. Раненых разместили по госпиталям. Ничего примечательного в жизни Глазкова здесь не случилось. Близко ни с кем ни сходился, никому не открывался. Ему нравиться стало страдальческое одиночество. Каждый раз, делая такое, что противоречило принятым правилам, трусливо утешал себя: «А! Все равно! Жизнь пропала, а остальное мелочь». У него появились костыли, можно было ходить куда угодно, и Владимир исчезал из госпиталя на целые дни, слонялся по городу, толкался на рынке. Его ругали за это, он же твердил про себя: «А! Все равно!» Однажды, когда сестра задержала его в дверях, Владимир разозлился, замахнулся на нее костылем.
– Уйди!
Раненый, оказавшийся рядом, перехватил костыль и усмехнулся презрительно:
– Вояка!
Сестра заплакала. Глазков вернулся в палату, уткнулся лицом в подушку и кусал губы: нет, не удалась ему жизнь, не удалась…
В госпитале продержали Владимира год и отпустили домой. Решил ехать к тетке в Кыштым, все-таки родня. Приедет, осмотрится, а там решит, что делать.
В родной городишко вернулся весной сорок пятого, к концу войны. Конечно, его никто не ждал. Доковылял до теткиного дома, постучал в калитку. Открыла девушка. Она осмотрела его с ног до головы, спросила:
– Вам кого?
– Тетку Василину.
– Ее нет дома.
Владимир всматривался в лицо девушки и мучился: Варя это или не Варя? Когда уезжал на фронт, совсем девочкой была, а тут барышня перед ним.
– Здравствуй, Варя! Не узнала?
– Нет, – она смотрела по-прежнему отчужденно.
– Это я, Владимир…
Ожидал, что обрадуется, бросится на шею, но она не тронулась с места. Только сощурила глаза, будто от яркого света.
– Не знаю… Может быть… – ответила растерянно. – Погодите, я за мамой сбегаю. Тут недалечко. А вы посидите на лавочке.
Варя захлопнула калитку, побежала вдоль улицы до перекрестка и скрылась из виду. Глазков усмехнулся криво, сел на лавочку и предался невеселым думам. Вот так встречают его дома. Варя, кажется, испугалась. А как тетка встретит? Если примет с холодком, он вернется на вокзал, там переночует и уедет куда-нибудь. Куда глаза глядят. В раздумьях не заметил, как подошла тетка, остановилась возле него. Владимир поднял голову и вздрогнул. Ему почудилось, что не тетка Василина стоит перед ним, а мать: и глаза такие же карие, глубоко посаженные, и складки у рта, и крутой подбородок. Даже сердце радостно екнуло, но нет… Чудес на свете не бывает. Просто тетка Василина очень походила на старшую сестру.
Владимир, опираясь на костыли, поднялся и виновато улыбнулся:
– Здравствуйте, тетя Василина.
Она прижала к груди руки, натруженные, жилистые, точно так же, как когда-то делала мать Владимира, и шептала одними губами:
– Господи… Господи… – и не могла двинуться с места, словно бы ноги вдруг приросли к земле.
– Прибыл вот. Из госпиталя.
– Боже мой, боже мой, – шептала тетка, все еще не двигаясь с места. – Ты? Володенька?
– Я, тетя Василина.
– Жив? Жив! – крикнула она пронзительно и кинулась к Глазкову, схватила его голову обеими руками и начала целовать исступленно лоб, глаза, губы, причитая: – Жив, жив, родненький!
За ее спиною стояла Варя и улыбалась сквозь слезы.
Потом Владимир весь вечер рассказывал о своих скитаниях, тетка то и дело вздыхала, а Варя не сводила с него глаз.
Они засиделись далеко за полночь, под конец тетка достала из-за зеркала пожелтевший конверт и подала Владимиру:
– Прочти.
Глазков вытащил из конверта четвертушку бумаги. Это была похоронная. Командование части сообщало, что сержант Владимир Глазков погиб смертью храбрых, защищая нашу социалистическую Родину. Странно и неприятно читать похоронную на самого себя, и в то же время зажглась в душе маленькая тайная радость оттого, что не сдался, не умер, остался жив, хотя друзья-товарищи считают его мертвым. Эту бумажку Владимир Андреевич бережет до сегодняшнего дня. Лена шутливо называет ее свидетельством о бессмертии, ибо, если верить народной примете, тот живет долго, кого однажды уже похоронили.
. . . . . . . . . . . . . . .
Лена позвала:
– Ты долго будешь еще сидеть?
Владимир Андреевич захлопнул дневник, спрятал его в ящик стола, потянулся. «Да, уже пора спать. Как-то встретит меня завтра девятый?»









