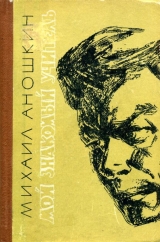
Текст книги "Мой знакомый учитель"
Автор книги: Михаил Аношкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
11. Женька Волобуев
Самым примерным из девятого для Владимира Андреевича казался Волобуев. Женька отлично знал литературу, в классном журнале по этому предмету у него не переводились пятерки. Он и читал много. Однажды завел с Глазковым речь о Ремарке, принялся толковать о потерянном поколении, все перепутал – философ из него был никудышный.
Анна Львовна с каким-то восторгом сказала:
– Что за диво, этот ваш Волобуев! Добрых полчаса рассказывал о Миклухе-Маклае! Даже то, что я не знаю!
Недавно у Глазкова была с ним встреча на рынке. Погода после праздника круто переменилась, подули северные ветры, ударили ранние бесснежные морозы. А мороз без снега – неприятен и непривычен, чувствуешь себя нехорошо. Владимир Андреевич купил в павильоне мяса и направился к трамвайной остановке. Выйдя из ограды рынка, нос к носу столкнулся с Женькой Волобуевым. Женька вел под руку пьяного мужика, уже пожилого, небритого и одетого легко – в замызганную телогрейку, в ботиночки и старую-престарую шапку. Он не заметил было Глазкова, потому что глядел вниз. А когда поднял глаза и увидел учителя, смутился, поздоровался неестественно громко:
– Здравствуйте, Владимир Андреевич!
Глазков кивнул в знак приветствия головой и направился к выходу. Но старик загородил ему дорогу и заплетавшимся языком проговорил:
– Здравствуйте… Женька и я… Идем… Да…
Он поднял правую руку на уровень плеча, это ему удалось с трудом, и пошевелил указательным пальцем, приглашая Глазкова поближе к себе для секретного разговора. Глаза у него гноились, на губах запеклась пена. Владимир Андреевич резко спросил:
– Что вам надо?
– Женька и я… Горит, вот тут… Пятьдесят копеек, а? Не хватает… А тут горит!
Пока Владимир Андреевич сосредоточил внимание на старике, Женька Волобуев исчез. Нет, не исчез. Владимир Андреевич увидел его спину. Ссутулившись и глубоко засунув руки в карманы пальто, он торопливо шагал в город, стараясь поскорее спрятаться за прохожих.
Эта встреча удручающе подействовала на Глазкова.
На занятия в тот день Женька не явился. А назавтра он вел себя стесненно – так, будто переживал за вчерашнюю встречу. Владимир Андреевич после урока отозвал его и спросил:
– С кем вчера был?
– Да так… Один… старикан…
– Зачем же бросил пьяного среди дороги?
– Ну, его! – обозлился Женька, но, спохватившись, умерил пыл и добавил: – Надоел.
Но кто был старик, Женька скрыл.
Настенька, случайно подслушавшая разговор, подошла потом к Владимиру Андреевичу и сказала:
– То отец был его. В телогрейке? Такой сгорбленный? Да? Точно, Женькин отец. Он стесняется говорить.
– Отец? – Владимир Андреевич удивился.
– Пьяница, все пропивает.
– А мать?
– Матери у Женьки нет.
Владимир Андреевич после уроков задержал Волобуева и спросил:
– Ты почему обманул меня?
Глаза у Женьки метнулись в сторону, потом спрятались за густые ресницы. Шея побагровела. Странно: у него краснела только шея. Ничего не ответил Женька. Стоял, как вкопанный, и косил глаза вбок.
Глазков отрывисто сказал:
– Можешь идти.
В учительской Анна Львовна лукаво повела глазами на Глазкова и обратилась к нему:
– Послушайте, циркулируют упорные слухи, будто вы очень любите ходить по квартирам учеников.
– Почему же слухи?
У Анны Львовны над верхней губой чернел нежный пушок, губы в меру подкрашены. Глазков подумал про себя, что географичка безмерно любопытна, однако это любопытство его не раздражало, и улыбнулся своим мыслям.
– Чему улыбаетесь?
Вы не ответили на мой вопрос.
– Он слишком трудный для меня, – шутливо отозвался Владимир Андреевич. – Надо собраться с мыслями, все взвесить…
– А еще говорят, будто вы хлопотали за Пестунов и те получили квартиру?
– Опровержений не будет.
– И вы уверены, что без вас нельзя обойтись?
– Я так не считаю.
– Значит, вам больше всех надо?
– Нет, меньше всех. Устраивает?
На педсовете Лидия Николаевна поругала Глазкова за отсев учеников из девятого – с начала года бросило учиться четверо.
Анна Львовна подмигнула Глазкову и написала записку:
«Доходит, наконец, до вас? У нашего «узурпатора» хорошим никогда не будешь. То-то!»
Записка рассердила его. Хотел написать в ответ дерзость, вроде: «Не ваше дело!» Но не стал портить отношений: в сущности, географичка – человек безобидный. Разорвал записку на мелкие кусочки и сложил, кучкой на столе. Анна Львовна сердито сгребла обрывки в ладонь, ссыпала в бумажку, которую закатала в шарик, и бросила под стол. Взглянула на Глазкова с улыбкой, как бы говоря: «Вот так надо, дорогой товарищ!»
12. Собрание
К Владимиру Андреевичу подошла Нюся Дорошенко, чем-то немного расстроенная, и попросила:
– Собрание у нас будет после уроков, Владимир Андреевич. Просим вас.
– Что за собрание?
– Дело одно. Придете?
Нюся не хотела раскрыть ему какого-то секрета, но он настаивать не стал, пообещав:
– Буду.
А минут за пятнадцать до начала появился незнакомый Глазкову парень, у которого волосы были гладко зачесаны назад и поблескивали, а костюм до того тщательно выутюжен, что Владимир Андреевич подумал: «Видать, чистюля порядочный. И галстук завязан аккуратно, точь-в-точь под воротник». Нюся подвела парня к учителю и представила:
– Наш комсомольский секретарь.
– Вострецов. Максим Вострецов.
– А по батюшке? – спросил Владимир Андреевич.
– Не надо, – отмахнулся парень. – Я просто Максим.
– Макс, Максимушка, – сказала Нюся. – Он у нас свойский, Владимир Андреевич. Зазнаться пока не успел, недавно выбрали.
В классе Глазков сел за первую парту, а рядом с ним устроился Вострецов. Нюся встала у стола, нахмуренная, покусывая губу: она была в классе старостой. Дождалась тишины и спросила:
– Президиум будем избирать или нет?
– Нет!
– Избрать!
Загалдели, закричали, перебивая друг друга. Нюся постучала по столу кулаком, призывая к порядку.
– Ну, чохго разхгавкались! – крикнула она гневно. – Порядка не знаете, хиба што? Я буду председателем, коли вы такие несознательные.
– Правильно!
– Решено!
– От бисова девка! Сразу всех в кулак.
– Тихо!
Вострецов недовольно хмыкнул, хотел было вмешаться, чтоб выборы председателя провести честь по чести – все же руководителем он был молодым, малоопытным и боялся всяких отступлений от принятых правил. Но Владимир Андреевич, поняв, что Вострецов хочет вмешаться, а этого делать не нужно было, так как знал, что у Нюси председательство получится лучше, чем у кого-либо, тронул Максима за плечо и шепнул: «Все в порядке. Ничего не надо». Вострецов вздохнул, послушался совета.
– На повестке дня у нас один вопрос, – объявила Нюся. – О поведении Женьки Волобуева.
«Волобуева?» – удивился про себя Владимир Андреевич. Сообщение Нюси прозвучало для него неожиданно, но сразу догадался, о чем пойдет речь.
– Какой порядок примем? – спросила Нюся. – Ему дадим слово или прежде кто выскажется?
– Ему!
– Пусть сам!
– Не кричите, еще раз прошу! – рассердилась Нюся. – Не на барахолке. Выходи, Волобуев, и отчитывайся.
Женька даже не поднялся с парты. Огрызнулся:
– Чего мне отчитываться? Нечего мне отчитываться.
– Встань и иди к столу, – потребовала Нюся.
Волобуев неохотно вылез из-за парты, подошел к столу, немного ссутулившись, стараясь всем видом показать, что ему безразлична и смешна комедия с собранием. Но в этой рисовке чувствовалась великая растерянность и испуг. И рисовка-то нужна была только для того, чтобы как-то скрыть эту растерянность. Волобуев поправил очки, но пока не начинал.
– Женька, – сказала Нюся, пронизывая его своим взглядом, – ты нам не крути. Ясно? Времени у нас мало, уже поздно, завтра на работу. Выкладывай как на духу.
– Нечего мне выкладывать!
– Не ломайся, Женька! – пробасил каменщик Иван Максимов, медвежковатый медлительный малый, отчаянный окальщик. – Говори, а то осердимся.
Волобуев протер очки платком, опять надел их, вытер вспотевшие пальцы – они дрожали.
– Я, товарищи, не так виноват, как вы считаете.
– Это мы посмотрим!
– Оправдаешься потом!
– Ну, говори, говори, – торопила Нюся. – Не теряй времени.
– Я не оправдываюсь. Оправдываются виноватые. В клубе Липец расхулиганился, Юрка к порядку его призвал. Ну, Борис заартачился. Семенова другие ребята поддержали, выгнали Борьку. Он и пригрозил Юрке: мол, на узкой дорожке встретишься, голову сверну. А домой пошли, на нас и налетели.
– Ты видел кто?
Волобуев промолчал.
– Продолжай, – сказала Нюся.
– Чего продолжать? Юрка одного стукнул, тот с копытков долой.
– А ты?
Женька замялся, пролепетал невнятное:
– Их много… Думаю, на помощь надо позвать. В клубе дружинники были. Ну, я за ними и побежал.
– Значит, удрал?
– Позор, Волобуев! Товарища в беде бросил! За дружинниками, видите ли, он побежал. Эх, ты!
– Ты – подлый трус, Женька! Подлый, подлый! – закричала Настенька, вскакивая на ноги. – Да как ты после этого в глаза людям будешь смотреть, мне, маме моей, Юре, Владимиру Андреевичу, всем! Трус! Ненавижу! – она расплакалась, упала на парту.
– Успокойся, Настенька! – сказала Нюся. – Успокойся, родная. Нам надо собрание продолжать.
Волобуев снял очки, принялся протирать их платком. В классе воцарилась тишина.
Поступок Женьки Волобуева был настолько дик, несуразен, настолько не вязался с высокой моралью, которой все они привыкли руководствоваться с малых лет, что сразу никто и не нашелся, что сказать. И само это молчание было жестче и убийственнее гневных слов.


– Можно сесть? – повернулся Волобуев к Нюсе.
– Постоишь! – зло оборвала его Дорошенко. – Какие у вас соображения, товарищи? Может, вопросы?
Задал вопрос Владимир Андреевич.
– Записку мне подкинул ты?
– Я…
– Почему не пришел, когда я звал?
Волобуев не ответил.
В классе поднялся невообразимый гвалт, Нюся уже не в силах была навести порядок и стояла строгая, покусывая губу и упершись правой рукой о стол. Вострецов что-то записывал в блокнот, потом вдруг вскочил и неожиданно властно крикнул:
– Товарищи, да вы что?! Никогда на собрании не были, что ли?!
И сразу все смолкли, послушались горячего призыва Вострецова к тишине.
– Ты Липец видел? – опять спросил Глазков.
Женька молчал.
– Ничего он со страху не видел, – подал голос машинист крана Левчук. – Он и записку писал со страха. Ох, и свистун ты, Женька!
Выступали страстно и гневно. После каждого выступления заметнее и заметнее горбилась у Волобуева спина. Он не смел поднять от пола взгляда, только устало переступал с ноги на ногу, словно бы пробуя прочность пола: а вдруг ненароком провалится и придется лететь в тартарары? У всех одно требование. Просить комсомольскую организацию разобрать поведение Волобуева и решить, достоин ли он быть комсомольцем. Из школы исключить обязательно.
Ребята не в меру горячились, Владимир Андреевич понимал это хорошо. И не вмешивался только потому, что хотел дать всем высказаться. Вострецов оказался парнем экспансивным. Слушал ребят заинтересованно, ероша свои волосы, и они у него уже не были такие прилизанные и чинные, какими вначале. Он то и дело вставлял реплики, крутился, порывался встать. Владимир Андреевич усмехнулся про себя: «А ты, брат, как я погляжу, парень чуткий – все к сердцу близко принимаешь». Такой Вострецов ему больше был по душе, чем тот, каким предстал перед собранием – с безукоризненно зализанными волосами.
– Друзья! – не выдержал Вострецов, вскакивая и подходя к столу. – Разве так можно с плеча рубить? О человеке ведь идет речь, не о чурбане, а о человеке! Из школы-то зачем исключать Волобуева, подумайте сами! Чего вы этим добьетесь? Плохие вы люди, вот что я вам скажу.
По классу прошелся, как ветерок, недоуменный вздох, который можно было понять требовательным вопросом к Вострецову: как это – плохие люди?!
– Да! И не смотрите на меня так. Что ж получается? Выгнать Волобуева из комсомола, выгнать из школы. Я вас спрашиваю, куда выгнать? Разве хорошие люди так делают, а? Делают?
Вострецов выжидательно замолчал, но никто не набрался смелости ему ответить, даже Нюся Дорошенко.
– Видите, Владимир Андреевич, молчат, – обратился Максим к Глазкову. – Поделом, молчите, – и сел на свое место, вытащил из кармана носовой платок и под партой, чтобы никто не видел, начал обтирать вспотевшие руки…
Владимир Андреевич признательно пожал ему руку чуть повыше локтя и сказал шепотом:
– Правильно. Я тоже так думаю. Мне теперь и выступать необязательно.
Собрание кончилось поздно. Решение приняли одно: просить комсомольскую организацию обсудить поведение Волобуева. Владимир Андреевич из школы вышел вместе с Максимом Вострецовым. Ночь выдалась пасмурная. Падал мягкий крупный снег. Пальто и шапка у Максима побелели. Владимир Андреевич снял перчатку, собрал со своего плеча снег, сжал его в комок и бросил впереди себя. Вострецов улыбнулся:
– Сейчас бы в снежки! Люблю подурачиться.
– Вы женаты?
– Второй месяц. О, жена у меня серьезная, чтоб подурачиться – ни-ни! Говорит, на тебя вся молодежь смотрит, а ты будешь резвиться, как мальчишка, что о тебе тогда подумают!
– Не бойся, хорошо подумают!
– Я ей тоже. Ничего! Договоримся!
– Конечно, договоритесь! А Бориса Липец вы знаете? – спросил Владимир Андреевич. Вострецов ответил не сразу, после большой паузы.
– Знаю. До седьмого учились вместе.
– И Василия Николаевича тоже?
– А кто Василия Николаевича не знает? Любого спроси, даже мальчишку. Талантливый человек, между прочим. Но за Бориса я его виню!
– Почему же? – заинтересовался Глазков.
– Захотел Борис шофером сделаться, из восьмого класса ушел. Василий Николаевич воспротивился. Мол, учись дальше, до института. Я понимаю: намерения у него были хорошие. Но нельзя же и с мечтой человека не считаться. Правда ведь?
– Правда.
– Борис сбежал из дома, пропадал где-то год, вкусил вольностей, вернулся домой и пошло-поехало у него вкривь да вкось. Теперь и Василий Николаевич ничего поделать не может. Парень он неплохой, я ведь не верю, что он с Семеновым так расправился. Пофордыбачить Борис любит, но чтоб такое!
– Взялись бы вы за Бориса.
– Он же не комсомолец.
– Странный вы народ, ей-богу, – возмутился Глазков. – Если не комсомолец, значит, черт с тобой, пропадай, коль охота?
– Не совсем так, конечно…
– Именно так. Вы же видите, что Борис не так живет, вот ты мне почти всю его историю рассказал. Взялись бы за него всей комсомолией, разве бы он устоял перед вами?
– Возразить вам нечего, что тут возразишь. Между прочим, в шестом классе Борис мальчонку спас, из речки вытащил. Родители мальчонки книгу ему подарили «Как закалялась сталь» с благодарственной надписью.
– Вот видите! Беритесь-ка вы и за Бориса тоже, а?
– Возьмемся!
– Это уже порядок! Всего хорошего, мне сюда, – и Глазков пожал Вострецову руку. – Теперь я вам покоя не дам!
– Не возражаю! – весело воскликнул Максим, и они расстались.
Прежде чем лечь спать, Владимир Андреевич записал в дневнике:
«Самой трудной обязанностью учителя, по-моему мнению, является обязанность быть психологом, особенно, если работаешь со взрослыми учениками. Можно отлично знать свой предмет, уметь доходчиво его подавать, но если ты не будешь психологом, грош тебе цена. На эти мысли навела меня печальная история с Юрой и Волобуевым…»
13. Продолжение
Удивительная женщина Анна Львовна. Везде поспевала, все знала.
– Голубчик, Владимир Андреевич, вы слышали?
– Что?
– Бориса Липец вызывали в милицию. Подумайте, и он поднял руку на Юру Семенова! Как хорошо, что ушел из нашей школы.
– Что ж хорошего?
– И вы не понимаете? Вы понимаете, только испытываете меня, вижу, хитрец вы этакий!
– Нет, серьезно, не понимаю.
– Да ведь это ж такое пятно на школу!
– А-а!
Бориса Липец, действительно, вызывали в милицию. Сняли допрос и отпустили с миром. И Волобуева вызывали. А хулиганы были задержаны.
На другой день Анна Львовна остановила Глазкова в коридоре, посмотрела, чтобы поблизости никого не было, и по секрету сообщила:
– Волобуева из комсомола исключили, что делается! И все в вашем классе.
– Могло быть и в вашем.
– Да, конечно, могло, я не о том. Ведь «узурпатор»-то косо поглядывает на девятый. Помяните мое слово, она постарается избавиться от Волобуева.
– Ну, это мы еще посмотрим!
Говоря о том, что Лидия Николаевна косо посматривает на девятый, географичка нисколько не преувеличивала. Владимир Андреевич не удивился, когда Лидия Николаевна повела разговор о Волобуеве.
– Что же будем делать с Волобуевым? – спросила она Глазкова официальным тоном.
– Ничего.
– Но у него же такая репутация. К тому же еще и выпивает.
– Не слышал.
– Если вы не слышали, то я слышала, – сказала она тоном, не требующим возражений. – Из Волобуева толку не будет. Школе он обуза. О вашем девятом уже в райкоме знают.
– Знают, но однобоко.
– Нам от этого легче? Надо оздоровить девятый. Волобуева я отчислю.
– Вы этого не сделаете.
– Почему?
– Потому что нельзя так делать.
– Отвечаю за школу я, за все, что делается в ее стенах. И, пожалуйста, прошу не убеждать меня. Бесполезно.
– Убеждать я вас не буду, – сказал Глазков раздраженно. – Надеюсь, что сами поймете правильно. Если вы отчислите Волобуева, то я пойду в районо, в партком, райком, куда угодно, но не допущу этого. Его исключили из комсомола, это уже достаточно большая мера наказания.
– Хорошо. Я еще подумаю. Но вы подтяните класс, голубчик, покруче, покруче надо.
Лидия Николаевна к этому разговору больше не возвращалась.
Как-то Волобуев отозвал Владимира Андреевича в тихий безлюдный угол коридора, попросил:
– Можно с вами поговорить?
– Можно.
Губы у Женьки дрогнули, но он усилием сдержал себя, не заплакал, а тихо спросил:
– Что мне делать, Владимир Андреевич? Посоветуйте…. Отец у меня вы сами видели какой, не могу больше с ним жить. Из комсомола исключили. На работе перестали со мной разговаривать… Как же я теперь жить буду?
Нет, Владимир Андреевич не жалел Волобуева, хотя всем сердцем понимал, как ему трудно сейчас. Но твердо верил, что это испытание для него не будет бесполезным.
– Совет я могу дать тебе только один, – сказал Владимир Андреевич, – не вешать головы! Еще можешь доказать, что парень ты неплохой. И вот еще что. Не перебраться ли тебе в общежитие?
– Не пустят же меня…
– Об этом я позабочусь. Ну?
– Согласен.
– Ребята живут там дружно, тебе с ними будет легче и веселее.
Владимир Андреевич попросил Вострецова устроить Женьку в общежитие. Максим лаконично ответил:
– Какой может быть разговор! Сделаем!
А через две недели он позвонил Глазкову в школу и сообщил, что Волобуев может переселяться в общежитие, койка для него там выделена.
– Хлопцы в комнате что надо.
– Спасибо, – поблагодарил его Владимир Андреевич.
…Глазков получил письмо от пионеров… Тогда он ответил им сразу же, рассказав о своих фронтовых друзьях, погибших в бою за деревушку, и посчитал, что на этом переписка со школьниками закончилась. Однако пионеры не забыли его. Они выслали фотографию обелиска – памятника воинам, сообщили также, что имена Горчакова и Синицы, о которых писал Глазков, тоже высечены на памятнике. Но самое интересное из письма ребят было не это. Они написали в Москву, что сержант Глазков вовсе не погиб, а жив и здоров, что он работает на Урале учителем, и из Москвы запросили адрес Глазкова. Ребята уведомили Владимира Андреевича, что адрес его они послали в Москву.
– Смотри, Лена, – протянул он жене письмо. – Кому-то там потребовался мой адрес. Зачем, как думаешь?
– Может, кто из знакомых тобой интересуется?
– А что? Пожалуй.
Письмо пионеров Владимир Андреевич спрятал в ящик стола, фотографию вложил в альбом, и на другой же день забыл о них. На этом дело не кончилось. Глазков получил письмо из Москвы. Письмо на бланке, официальное. Просили написать о себе: где родился, где призывался в армию, в каких частях служил, как именовалась часть, в составе которой дрался он за эту деревушку – да еще с подробностями: в каком полку, в каком батальоне, роте, взводе и т. д.
– Ничего не понимаю! – пожал плечами Владимир Андреевич. – Зачем все это надо?
– Ты пиши, – посоветовала Лена. – Потом выяснится.
– Потом, потом. Должен же я знать, для чего это.
Но, поворчав, написал подробно, как полагалось.
14. У Юры в больнице
Владимир Андреевич собрался навестить Юру. Лена купила конфет и где-то достала яблок. Осталась от праздника банка земляничного варенья. Сложила в сетку и дала Владимиру Андреевичу.
– Что это? – спросил он.
– Передашь Юре.
– Больше ничего не могла придумать? Пару яблок унести куда ни шло, а здесь же целая торба!
– Не рассуждай, пожалуйста! Раз собрался, то иди.
Он вздохнул и взял узелок: разве женщин когда переспоришь? Они всегда знают больше всех. По дороге вспомнил: «Книжку бы какую-нибудь взять…» Но возвращаться не хотелось.
В приемной не нашлось свободных халатов, надо было подождать. Владимир Андреевич устроился возле окошечка, в которое сдавались передачи больным. Да, больничная обстановка, устоявшийся запах карболки, эти белоснежные халаты на сестрах – все напоминало былые времена – госпиталь. К счастью, не было надобности бывать в больницах, но всякий раз, как попадал сюда, вспоминал годы своего лечения. Что-то в этих воспоминаниях было и грустное и доброе в одно и то же время.
Наконец, халат освободился, и Владимир Андреевич заспешил.
В палате лежали двое: Юра и пожилой мужчина, у которого левая нога была замурована в гипс. На осунувшемся, с нездоровой желтизной лице выделялись одни большие голубые глаза, которые сейчас живо и радостно поблескивали. Только перед Глазковым приходила Настенька с подружкой, которая Юре нравилась.
Владимир Андреевич выложил все из сетки – и получилась целая гора на тумбочке.
– Зачем вы беспокоитесь? Посмотрите, сколько нанесли, – открыл дверку тумбочки Юра. Чего только там не было: и яблоки, и конфеты, и лимоны, и варенье… – На всю больницу хватит, Владимир Андреевич!
– Ничего, ешь, поправляйся!
Глазков присел на табуретку возле койки.
– Ну как?
– Лучше стало. Через недельку разрешат вставать. Сегодня врач на обходе говорил: «Не торопитесь, некуда торопиться». Надоело. Если бы вы знали!
– Знаю, Юра, еще как знаю! Полтора года отвалялся, свет не мил был.
– Да, вы рассказывали. О ребятах соскучился, по классу, по бригаде своей. Дом они, наверное, закончили.
– Под крышу подвели, вчера видел.
– Закрою глаза, и все, как наяву, вижу. Слева Степанов работает, справа Славка Майоров. Иван Ефимыч поторапливает, мастер наш, а в кабине крана Сашка Левчук сидит, в колокольчик позванивает. Поэзия! – от удовольствия закрыл глаза и тихонько покачал головой на подушке. Волосы у Юры белокурые, чуточку вьющиеся. Сейчас голова острижена наголо, поэтому неестественно выделялись уши. Вообще Юра вот такой – стриженный наголо, похудевший – похож на мальчика. Владимиру Андреевичу захотелось погладить его по голове.

– Танюшка спрашивает: почему тот дядя не идет, которому я пить давала. Запомнила тебя с первого раза.
– Она тогда здорово выручила, – улыбнулся Юра. – В горле пересохло, просить неудобно, а она как-то догадалась.
– Родственные души!
– Наверно. Владимир Андреевич, – вдруг снизил голос Юра до шепота, – пока никого нет – под подушкой тетрадь.
Глазков достал из-под подушки тетрадь, похожую на ту, что когда-то давал ему Юра. Перелистал. Ну, конечно, стихи! Только записаны разными почерками.
– Пишу, – сознался Юра. – Время девать некуда. Закрою глаза, а стихи сами в голову лезут. Другой раз даже не хочу, а они лезут. Сам записывать не могу, сестру одну попросил. Она студентка мединститута. Дежурить приходит к нам. Поняла меня сразу. Я диктую, она записывает.
Юра закрыл глаза и с улыбкой опять покачал головой.
– Позавчера дежурила врачиха наша, подсела ко мне на койку, погладила по голове, как маленького, неудобно даже, и говорит: «Ну-ка, покажи тетрадь!» Я не люблю показывать свои стихи другим, а тут не посмел отказать. Дал. Стихи так себе. Она же читала и, представляете, Владимир Андреевич, понравились, по лицу видел. Глаза усталые-усталые, такие добрые, как у моей мамы. Почитала и ушла, ни слова не сказала.
Владимир Андреевич сидел у Юры долго. Дежурная сестра заглянула в палату и предупредила Глазкова, что ему пора уходить. Поднимаясь, он спросил:
– Волобуев у тебя был?
– Нет, – Юра сдвинул брови, помолчал и настороженно взглянул на учителя. – А что?
– Так, к слову.
– Я не злопамятный, Владимир Андреевич, но сейчас не хочу его видеть. Он уже напрашивался, я передал через Настеньку, чтоб не приходил.
– Бориса в милицию вызывали.
– Зря. Борис не при чем. Извините, Владимир Андреевич, но трепач он. Вот был бы я злой, я бы подвел его под монастырь. На весь клуб кричал, что голову мне свернет – все слышали! Когда-нибудь накричит себе во вред. А тех бандитов поймали, одного-то я тогда приметил: из вспомогательного цеха. Его взяли, он всех и выдал. А Борис не при чем.
– Ну, ладно. Давай поправляйся! – Владимир Андреевич пожал ему руку. – До свиданья!
– Привет ребятам. Спасибо, что навестили!
Выйдя из больницы, Глазков вдруг спохватился: «Надо было взять у Юры стихи, выбрать которые получше, да отдать в редакцию. Чего их прятать?» Но не вернулся. Скажет Настеньке, чтоб принесла, а в редакцию отправит сам.







