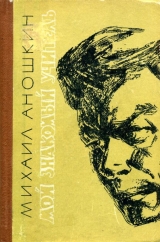
Текст книги "Мой знакомый учитель"
Автор книги: Михаил Аношкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 9 страниц)
АРГАЗИНСКИЕ ВСТРЕЧИ
Ивановна
В небольшом кабинете управляющего отделением совхоза, на самой середине – кухонный, выкрашенный охрой стол. За ним в черном нагольном полушубке сидел сам управляющий, плечистый, с крупной головой. Редкие светлые волосы зачесаны назад. Лицо скуластое добродушное. Направо от стола потертый диван. Его скрипучие пружины глубоко вмял своим телом Андриан, замещавший механика отделения. Одет он в телогрейку, валенки и потрепанную цигейковую шапку. При каждом движении Андриана пружины жалобно скрипели. Недалеко от двери, ближе к окну, выходящему во двор, на стуле устроился мрачный, небритый заведующий фермой. Он глядел в окно на двор. Там, на крыше амбара, бесновались воробьи – весна скоро.
– Так тебе и надо, – проговорил Андриан, уставив круглые глаза на заведующего фермой. – Много о себе понимать начал.
– Погоди, Андриан, – поморщился управляющий и обратился к заведующему фермой. – Ты, собственно, чем недоволен, Плакун?
– Я ее на пушечный выстрел до фермы не допущу, – сказал Плакун. – Экое диво – зоотехник! Молоко на губах еще не обсохло, а туда же – себя норовит показать.
– Язычок теперь на замок, – хохотнул Андриан, – Ивановна, она, брат ты мой, це-епкая!
В дверь как-то бочком протиснулась женщина, закутанная до самых глаз шалью. Она остановилась у порога, опираясь на косяк.
– Иван Сергеич, я шибко заболела. Больницу надо. Вези больницу, Иван Сергеич.
Управляющий нахмурился, спросил сочувственно:
– Что с тобой, Абадида?
– Голова болит, грудь болит. Ноги не слушаются.
– Грипп у нее, – объяснил Андриан.
– Грипп у меня был. Нету гриппа. Голова болит. Грудь болит, – упрямо твердила женщина.
– Черти носят тебя! Лежала бы дома, – не выдержал Плакун и недовольно мотнул головой, встретившись с суровым взглядом управляющего. – Мне что? Может и босиком бегать.
– Иди, Абадида, – успокоил ее управляющий. – Сегодня придется тебе полежать дома. Завтра отвезем. Прямо с утра. Согласна?
– Ладно, Иван Сергеич. Все равно больницу нада.
– Ну, вот и договорились.
Абадида ушла. Управляющий потрогал ладонью волосы на левом виске. Славная женщина, хорошо ее знает: лет пять назад, когда сам был трактористом, она работала с ним на прицепе.
Плакун, собираясь уходить, неторопливо натягивал на продолговатую лохматую голову шапку.
– Злой ты, Плакун, – вздохнул управляющий. – Доброго слова от тебя не услышишь. А тоже, наверное, в коммунизм собираешься. Правильно за тебя Ивановна взялась.
– Ивановна, она це-епкая! – подмигнул Андриан Плакуну.
– Неряха ты, глядеть тошно. Будто ползимы в берлоге проспал. Куражиться будешь – уберем с фермы.
– Убирай! – рассердился Плакун. – Убирай, в душу тебе сверло! Она баб на меня натравила, житья не стало. А я тебе кто? Я же заведующий!
Опять скрипнула дверь. В комнату вошла девушка с густым румянцем во всю щеку, в пуховом платке, сбившемся на затылок, в таком же черном нагольном полушубке, как и у управляющего, сшитом по росту, ловко подогнанном под статную фигурку.
– Здравствуйте!
Плакун как-то сразу сник, ссутулился. Андриан улыбнулся пришедшей с нескрываемой симпатией, а управляющий приветливо показал ей на табуретку.
– Садись давай, Зина.
Девушка села и обратилась к управляющему:
– Встретила я Абадиду. Будто бы отказались отвезти ее в больницу?
– Я? – удивился управляющий. – Ничего подобного. Вот свидетели.
– Не знаю. Плохо она себя чувствует. А Иван Сергеич, говорит, только завтра повезет в больницу.
– Ох, черт! – прохрипел Плакун.
– Вы, Иван Сергеевич, машину все же дайте, – не обратив внимания на реплику Плакуна, настаивала девушка. – Дорога еще хорошая.
– Шутка сказать, грузовую в такую даль гнать! И порожняком. Игнатий вернется вечером от соседей и отвезет утром Абадиду. Серко прыткий на ногу, мигом домчит. Лучше машины.
– Нет, Иван Сергеевич, Абадиде сегодня необходимо в больницу, у нее, похоже, осложнение после гриппа. Кто знает, может, завтра поздно будет?
Управляющий раздул ноздри: начал сердиться. В мрачных глазах Плакуна мелькнула торжествующая улыбка: ага, и ты скоро запоешь! Она и тебя доведет до белой горячки! Управляющий между тем подумал: «Права ведь Ивановна! Машину пятнадцать километров порожняком прогнать жалко, а человека, выходит, не жалко!»
– Андриан, – выдохнул он облегченно. – Сбегай к Семену, вели, чтоб заправлялся и ехал с Абадидой.
Андриан легко поднялся, цокнул языком:
– Це-епкая! – и на прощанье так хлопнул дверью, даже Плакун вздрогнул.
– Плакун вот на тебя жалуется, Зина, – начал было управляющий.
Девушка проворно повернулась к Плакуну, карие быстрые глаза ее насмешливо засветились:
– В самом деле жалуетесь? – не ожидая ответа, засмеялась: – Я тут ни при чем. Доярки его в оборот взяли.
– Не натравила – не взяли бы. Без тебя жили, не ссорились. Как пришла, все кубарем полетело. Порядок это?
Зина беспощадно прищурилась. Плакун метнул взгляд в сторону.
– Зачем вы прячете глаза, товарищ Плакун, если ваша правда? – тихо, но твердо спросила девушка. Плакун оторвал было взгляд от пола, тяжело оторвал, словно гвоздь из доски вытащил.
– Зря ты хорохоришься, Плакун, зря. Если тебе авторитет нужен, исправляйся.
– Дело ведете плохо. А может, плохо знаете его? – прищурилась Зина.
– Я? Я не знаю?!. – задохнулся Плакун от гнева, но ему не удалось его выразить. Вошел Андриан и доложил:
– Готово, Иван Сергеич. Кхе-кхе, – он показал девушке через плечо большим пальцем на дверь. – Зовет.
– Кто? – не поняла она.
– Кхе. Он…
– Я сейчас, Иван Сергеевич! – смутилась Зина и выбежала из комнаты.
Управляющий понимающе переглянулся с Андрианом, а Плакун стал еще мрачнее.
Шофер Семен стоял возле машины и с веселой улыбкой следил за овцой, на спине которой удобно устроился коричневый петух. Овца брела по улице, петух дремотно покачивался на ее спине. Шофер обрадовался Ивановне и кивнул на петуха:
– Ишь, дьявол, пешком ходить не хочет. – Потом безо всякого перехода будто невзначай добавил: – Сегодня новая картина, Зина.
– Приду.
Парень обрадованно схватил ее за руки, притянул к себе. Девушка высвободилась.
– Ох, Сема, Сема…
– Ничего я не боюсь! – лихо сбил он на затылок шапку. – Чего стесняться? Пусть, смотрят. Ну, чего?
– Ничего! – засмеялась Зина и легонько подтолкнула его в плечо. – Езжай, езжай. Абадида ждет.
– Мигом! – отозвался он и, оглядевшись по сторонам, чмокнул девушку в щеку.
Машина уехала, а девушка долго еще стояла у конторы и смотрела вдаль на бугристую окраину села, на голубую весеннюю высь.
– Ну, Плакун, – продолжал в это время говорить Андриан, – теперь-то приберет она тебя к рукам, как пить дать, приберет. Зато человеком станешь и в коммунизм не жалко будет взять. У Ивана Сергеевича руки до тебя не доходили. К тому же очень добренький он. Ивановна, она, брат ты мой, це-епкая, хоть и молода.
– А! – тряхнул рукой Плакун. – Волком с вами завоешь, сверло в твою душу, – вывалился из комнаты медвежковатый, обиженный. Управляющий покачал головой:
– Непоко-орный.
– Ерунда, – уверенно пропел Андриан. – Ивановне покорится. Шелковый станет.
Управляющий не возражал: и в самом деле, хорошего ему помощника прислали.
Спорщики
Приезжий лектор рассказывал в клубе о решениях XXII съезда КПСС. Иван Сергеевич устроился в первом ряду. Слева от него примостился Андриан, справа – Игнатий Логинов, юркий мужичишка с бородкой клинышком. Сидел он, как на иголках, то и дело норовил локтем поддать управляющему в бок.
– Вот, елки-махалки, это да! Шагнем! А, Сергеев?!
Управляющий терпел, терпел и наконец сказал:
– Ты ж мне ребра поломаешь, Игнатий! Ну тебя к чомору.
Игнатий сгреб в левую ладонь бороденку, улыбнулся:
– Забываюсь, понимаешь. Ведь, прямо скажу, чудеса какие-то.
– Не сказка, брат ты мой, это де-ело, – сердито поправил его Андриан. – Шпыняться нечего. Ты любишь шпыняться-то.
– Тише вы! Дайте человека послушать! – послышался за их спинами женский голос.
Замолчали.
После лекции вышли на улицу. Небо вызвездило, а морозец выпал пустяковый, курам на смех.
– Эх-ма, – вздохнул Андриан. – Скореича бы весна. Духом ее тянет, а ждать еще, наверное, до-олго.
– Лектор-то ничего, красно баил, – заметил Игнатий. – Шагнем, чертям тошно будет. Да вот беда: на обочине мы живем, на нас только пыль с большой дороги. Шурин на целину сманивает. Махнуть, что ли?
Иван Сергеевич поморщился, даже заныл зуб – дупло. Не мог спокойно слушать этого шмыгуна, который дурную привычку взял: хаять свое, хвалить чужое, соседское. Любит поплакаться, хлебом не корми: «Вот у соседей, то ли дело, ферму так ферму отгрохали. У нас, дескать, тяп-ляп и готово!» И ведь хорошо знает: обе фермы строились по типовому проекту, камень брали из одного карьера, похожи одна на другую, как близнецы.
– Скатертью дорога, – подзуживал Логинова Андриан, – Нужен ты нам, как собаке пятая нога.
– Чем опять недоволен, Игнатий? – мрачно спросил Иван Сергеевич. Зуб ныл и ныл. – Чего тебе не хватает?
– Да как тебе сказать? – заскрипел Игнатий. – Нутро у меня такое – вперед рвется, на ТУ-104 охота в коммунизм лететь. А мы тут шажками семеним, шажки-то маленькие, воробьиные. Вот, скажем, у соседей все честь честью, они уже на ТУ-104 приладились и рукой нам махают: бывайте здоровы, мы спешим, мол, можете спать ложиться.
Боль стрельнула в висок. Иван Сергеевич прижал к щеке ладонь. Думал: «Ох, Игнатий, Игнатий! Любого ты доведешь до тихого бешенства. Помнится, после сентябрьского Пленума, когда у нас начались большие перемены, то говорил примерно такое же: на обочине живем, пыль глотаем, долго ли жить по старинке будем? Жить стали хорошо – все равно брюзжал: у соседей куда лучше. Шефы построили на окраине села добротные мастерские – маленький заводик, да и только! Радовались все, а ты скрипел. Надоел, как горькая редька, уехал бы куда-нибудь с глаз долой. Да кому такой нужен-то?»
На днях в конторе собрались мужики и разговорились о том времени, когда между городом и деревней разницы не будет. Игнатий махнул рукой: ждать долго, черепахой-то не скоро до того времени доползешь. У соседей другое дело. Кто-то и сказал тогда:
– Давно первые ласточки, Игнатий, к нам прилетели.
– Ой ли? Дай тую ласточку в руках подержать.
– Бери, кто тебе не дает? Телевизор каждый день смотришь. Смотришь ведь?
– Экая невидаль – телевизор! – поморщился Игнатий, и тогда у Ивана Сергеевича тоже заныл зуб.
Всегда выдержанный Андриан на тот раз взорвался.
– Балда ты этакая! – вскрикнул он. – Телевизор – невидаль! А давно ли ты с керосиновой лампой сидел? Теперь же, видишь ли, черт не брат! Живешь между людьми, как крот: двигаешься, место на земле занимаешь и ничего не видишь.
– С тобой и поспорить нельзя, – примирительно сказал Игнатий, даже некоторую неловкость почувствовал.
И вот теперь опять свое завел. Ему скажи: ложись спать, завтра в коммунизме проснешься. Все равно остался бы чем-нибудь недоволен.
Иван Сергеевич не стал втягиваться в спор. Не хотелось портить настроение. Думалось о перспективах, которые открывались в семилетии. Почему-то виделись цветущие сады. Возле каждого дома – фруктовый сад. Поглядишь, с одного конца улицы в другой – будто аллея парка. Яблоки наливные тянут ветки к земле; ешь – не хочу! Дорога вымощена…
Попрощавшись с Андрианом и Игнатием, он широко зашагал домой. Всю ночь Иван Сергеевич ворочался, вздыхал шумно, мешал жене. Она сердилась.
– Спал бы, чего уж там!
Попробуй усни, если в двери стучится завтрашний день.
Важная истина
Ночевать взял меня к себе Андриан. Мы стукнули в калитку его дома уже в двенадцатом часу ночи. Старуха-мать зажгла свет. Ни о чем не спрашивая, принялась перестилать для меня свою постель, – сама на печь залезла. Видно, неожиданные гости здесь не в диковинку. За стеклянной дверью млел мрак другой комнаты; там спала семья. На лавке у стола задрали хоботы два крана, установленные на игрушечных автомашинах. Андриан перехватил мой взгляд:
– Механики растут. Два. – И снял с горячей плиты сковородку с жареной картошкой. Мы сели за поздний ужин. Хозяин – тракторист и комбайнер – замещал заболевшего механика отделения.
– Начальник из меня плохо-ой, – признался Андриан. – Не для того рожден. Технику люблю. Вот без чего не могу, так не могу. С малых лет к ней привязан. Шкетом за трактором бегал. Я ведь еще молодой, с двадцать шестого года. На вид-то старше кажусь.
– Понешло-поехало, – прошамкала старуха. – Жаговоришь гоштя-то. Ему, поди, отдыхать охота.
– Ничего, бабушка, не беспокойтесь, – успокоил я ее. Спать и в самом деле не хотелось.
– Я тебе скажу, – не обращая внимания на реплику матери, продолжал Андриан и прицелился вилкой в поджаренный по краям кружок картошки, – тракторист на селе – фигура. Гла-авная! Все об этом знают? Нет, не все.
Андриан отправил картошку в рот, вкусно захрустел ею и взглянул на меня.
– Не все! – повторил он. – Ты знаешь. В райкоме знают. В области тоже. А те, кто тракторы делают, не знают. Не знают. Оби-идно!
Я не мог согласиться с таким утверждением. Как это не знают? Каждый год машины усовершенствуют, улучшают, так сказать, ее «деловые» качества. Андриан слушал со снисходительной улыбкой. Его улыбка распаляла меня. Я встал горой за всех тракторостроителей, начал горячиться. Старуха снова подала свой голос с печи:
– Не кричите, ради бога. Детей ражбуди-те. Штоб ваш леший побрал, полуношников.
Я сбавил тон, но Андриан улыбался по-прежнему, будто подзадоривал: «Крой, послушаю ученые речи. Больно ты прыткий. Я пятнадцать лет трактористом работаю, а ты, поди, за рычагом-то ни разу не сиживал. Кому же судить-то?»
– Верно говоришь, – неожиданно согласился он. – До войны были «натики». Видел? Ну вот. А теперь есть ДТ-54. Никакого сравнения с «натиком»: машина сильная, выносливая. Что тут скажешь? Ничего-о!
– Вот видишь, – ухватился я за его слова, – а ты утверждаешь…
– Утверждаю: о трактористе забыли. Совсем забыли. Условия-то труда остались те же. Кабина что у «натика», что у ДТ – ни к черту. Ведь это наше рабочее место. Мы на нем полжизни проводим. У автомобилей кабина на мягкой подвеске. У легковых даже приемник налицо. В холода мы по-прежнему бензин палим: не подогреешь – не заведешь.
– Оно, конечно…
– Корабли в космос закинули, а кабину подходящую будто бы сделать нельзя. Просим-то самое простое: чтоб хоть пыль не пропускала да зимой тепло было… Видел я в кино однажды, как ракету запускали. Сиганула она от земли в небо свечкой. Пламя от нее огненным кружевом вспыхнет и нет. Вспыхнет и нет. Легко так вверх-то рвалась, будто играючи. Поверишь, дух захватило, слезы навернулись. Отчего, думаешь? От гордости. Ух, думаю, какой у нас народ башковитый! Захотел да как рванулся к солнцу – целую планету соорудил. Сила! На другой день я на Волгоградский тракторный письмо накатал. Свои соображения о кабине выложил. И получил ответ. Правильно, мол, товарищ Васюхин, пишете. Сочувствуем. Но пока сделать ничего не можем. Технология не позволяет. Конвейер останавливать нельзя – план. Переделывать кабину, значит, технологию менять надо. А сменишь технологию, конвейер давай перестраивай. Вот какая штуковина получается. Только я не отступлюсь. Я брат ты мой, как репей, цепкий. Сейчас особенно, потому время такое – к коммунизму подступаем. И людей люблю цепких, как наша Ивановна или Иван Сергеич.
Мне тоже нравились такие люди. Тут мои и Андриановы взгляды смыкались.
Старуха снова прикрикнула:
– Шпите, полуношники, шпите, окаянные.
Мы, наконец, легли. Я уснул сразу. Проснулся рано от того, что на лавке гомонили ребятишки.
– Сенька, у меня кран скрипит, а не работает.
– Ах ты, брат ты мой! Погоди, я сейчас летучку вызову, – Сенька тарахтел, словно крутил ручку телефона, и кричал: – Але, але! Высылайте летучку. Скорейча! – и обычным голосом брату: – Будет, она у нас ско-орая.
– Работает, работает! – вдруг обрадовался младший: послышался трескоток игрушечной лебедки.
Истина осталась старой и в наши обновленные времена: дети играют в то, что составляет смысл жизни их родителей.
* * *
Днем я уезжал из гостеприимного села. К самой его окраине подступила необъятная, снежная и гладкая, равнина: скованное льдом томилось озеро Аргази. Немного ему еще осталось томиться; скоро южные ветры принесут тепло, и рухнут ледовые оковы. Встряхнется озеро, заиграет волнами, загудит, запоет шалым ветром. Кругом раздолье, синие гористые дали, а в сердце – неуемная радость.
КОРРЕКТОР
Нина Николаевна уже в летах, круглолицая. Держится бодро, усиленно молодится, пользуясь чудесами косметики. Одевается просто и скромно. Носит очки в золотистой оправе. Характера тихого, незлобивого, немного застенчивого. Застенчивость молодит ее больше, чем косметика. Тогда на щеках вспыхивает румянец, мочки ушей нежно розовеют.
Говорят, женщинам свойственно противоречие. Если это так, то эта черта ярче всего отразилась в характере Нины Николаевны.
Работает она корректором, любит свою старую, как мир, профессию. Но никто никогда не слышал, чтобы Нина Николаевна сказала:
– Двадцать лет держу корректуру, и другой работы мне не надо.
Обычно она говорит:
– Разнесчастная у меня работа. Хуже ее и на свете нет. Ошиблась в молодости, а теперь не поправишь – поздно.
Нина Николаевна побаивается начальства, робеет перед ним и никогда не противоречит. Но всякий раз, побывав в кабинете «шефа», рассказывает своей подчитчице:
– Я ему так и заявила: у вас нет другого виновного, кроме стрелочника. А корректор – это стрелочник, все грехи на него сваливаете. Редактор ошибся, а корректор виноват. Как хотите, Василий Сергеевич, но терпеть я больше не намерена. Вплоть до увольнения. А что в самом деле?
Конечно же, всего этого она Василию Сергеевичу не сказала, но думала сказать. Когда ее вызывали, она менялась в лице, глаза начинали лихорадочно поблескивать. Если начальство вызывает, значит опять что-то стряслось: по другим причинам корректора не вызовут.
Нина Николаевна торопливо, немного суетясь, прибирала на столе разные справочники, гранки, листы бумаги и спешила на вызов. Порог кабинета переступала тихо, с робкой улыбкой, правой рукой поправляла очки. Замечания начальника выслушивала молча, соглашаясь с ним без особых возражений. В корректорскую возвращалась пунцовая, будто помолодевшая на добрый десяток лет. Ее подчитчица, девушка лет двадцати, худощавая, какая-то вся миниатюрная, с чистой и почти прозрачной кожей лица и с голубыми наивными глазами, вопросительно глядела на Нину Николаевну и ждала сообщений. А та садилась на свое место, из стола извлекала маленькую лакированную сумочку черного цвета, где хранилась у нее пудра и помада, и принималась тщательно подкрашивать губы. Помаду держала двумя пухлыми пальцами, а мизинец с большим, похожим на совочек, ногтем отставляла в сторону. Всегда так делала – прихорашивалась не тогда, когда торопилась на вызов начальства, а после возвращения: наверно, вызов всегда заставал ее врасплох, и она забывала подкрасить губы. Закончив это несложное дело, Нина Николаевна сдвигала справочники в одну сторону, гранки в другую, таким образом восстанавливая на столе рабочий беспорядок, снимала очки и близоруко щурилась. А подчитчица терпеливо ждала.
– Поговорили, – наконец сообщала Нина Николаевна. – Хорошо поговорили. Обошлось без нотаций. Что у нас там на очереди?
Она принимала озабоченный вид, надевала очки снова, и трудовой день продолжался своим чередом.
Начальник учреждения (а учреждение это вело бурную издательскую деятельность и подчинялось совнархозу) Василий Сергеевич был еще сравнительно молодым человеком, лет эдак тридцати пяти и вполне современным. В свое время окончил политехнический институт и глубоко верил в то, что самой главной фигурой в обществе, особенно коммунистическом, обязательно должен стать инженер. Вторая половина двадцатого века – это время великих открытий, сказочного расцвета техники, время прыжков на другие планеты. Кому же быть основой основ общества? Василий Сергеевич жадно следил за всеми новинками, английские технические журналы читал сам. Друзьям признавался:
– Искусство математика, гений изобретателя – вот на чем я помешался.
Но это не мешало ему быть добрым и покладистым. Он легко прощал людям слабости и никогда не придирался по пустякам. На работу корректора он смотрел так же, как пилот сверхзвукового самолета на старенький добродушный «кукурузник», которого не зря прозвали небесным тихоходом. Но у Василия Сергеевича всегда хватало такта не обидеть Нину Николаевну высокомерием или пренебрежением к ее профессии. И тем, что иногда вызывал ее и делал выговор за ошибки, он как бы уравнивал ее в правах с другими работниками, и это Нина Николаевна, которая неплохо умела понимать людей, расценивала правильно. Хотя, оставаясь верной своему характеру, считала начальника сухарем, которому техника заслонила даже солнышко, и придирой.
Обычно, вызвав к себе в кабинет корректора, Василий Сергеевич предлагал ей мягкое кресло, а сам, заложив руки за спину, мерил кабинет неторопкими задумчивыми шагами. Спрашивал спокойно:
– Как же это, Нина Николаевна, а? Опять в плакате о вибродуговой наплавке ошибка.
У Нины Николаевны пересыхало горло. Немного срывающимся голосом она объясняла, по чьей вине, на ее взгляд, произошла досадная ошибка. Василий Сергеевич выслушивал ее внимательно, не перебивая, все так же меряя кабинет шагами. Ботинки у него тоненько поскрипывали, что смущало и раздражало Нину Николаевну.
– Печально. Плакат придется переделывать.
– Я, Василий Сергеевич…
– Сколько вы у нас уже работаете?
– Четвертый год.
– Вот видите! А в технике до сих пор плаваете. Учиться надо. Без техники нынче не проживешь, даже корректор не может без нее обойтись. – И Василий Сергеевич, сев на своего любимого конька, экспромтом прочитывал Нине Николаевне лекцию о значении техники в наше время. А она, уставив на начальника внимательные, синеватые глаза, спрятанные за прозрачной броней очков, думала о том, что на рабочем столе ждет ее верстка очередного номера технико-экономического бюллетеня, и верстку прочесть надо сегодня же, иначе из типографии будут звонить и ругаться за задержку.
Четвертый год они работали вместе, и всякий раз разговор об ошибках кончался мирно, пространной нотацией начальника. Она привыкла, он не замечал этой привычки. И все же как бы ни сильна была эта привычка, Нина Николаевна близко к сердцу принимала каждый такой вызов и была бы рада, если бы они прекратились по этому поводу.
Но вот к концу четвертого года Василия Сергеевича перевели в другое учреждение. Нина Николаевна сказала своей подчитчице:
– Начальство меняется – свежего ветра больше, дышать легче. – А когда Василий Сергеевич зашел в корректорскую попрощаться, Нина Николаевна разволновалась. Он пожал ее сухую горячую руку, пожелал всяческих благ в жизни и попросил не поминать лихом. Она улыбалась ему сквозь слезы и не могла от волнения вымолвить ни слова. Потом, когда все улеглось, она досадовала на свою слабость и впервые подумала о том, что стареет. Четверть века просидела за корректорским столом, не разгибая спины. За окнами мчалась трудная бурливая жизнь: прогрохотала война, ее сменил мелодичный звон колокольчиков башенных кранов, они звенят и по сей день, потом взмыли в голубую высь космические корабли, и уже человек побывал в неведомом космосе, а жизнь Нины Николаевны не менялась: гранки, верстка, корректорские знаки, грамматические ошибки. Чему тут было меняться?
Сменялись начальники, появлялись новые друзья, старые исчезали с горизонта, а Нине Николаевне все казалось, что остается такой же, какой была раньше. Теперь вдруг остро поняла, что неумолимая жизнь никого не забудет, никого не обойдет стороной…
Мало что изменилось с уходом Василия Сергеевича. Нового начальника еще не прислали. Обязанности его исполнял главный инженер, седой, крепкий пятидесятилетний мужчина с тонкими бескровными губами. Нина Николаевна видела его мало и совсем не знала, что он за человек. В учреждении появился недавно, всего полгода назад. Ее работа никакими углами не соприкасалась со сферой власти главного инженера. Теперь же он стал начальником и Нины Николаевны, волей-неволей приходилось к нему присматриваться. Иногда человек, кажущийся издалека неплохим, обычным, при более близком общении оказывается совсем-совсем другим. Первое, что установила Нина Николаевна: главный инженер – страшный педант. На работу приходил всегда в одно и то же время: без десяти девять. Хоть часы сверяй, с точностью до секунды. Каждый день в один и тот же час в четыре дня обходил комнаты и кабинеты и присматривался, кто чем занят.
Однажды он сделал замечание инженеру потому, что тот за рабочим столом сидел не по форме: привалившись грудью на край стола и подперев левой рукой голову – размечтался. Нина Николаевна почему-то очутилась тогда рядом с начальником и с удивлением, смешанным с досадой, взглянула на него. Виделся он ей в профиль: губы тонкие, синеватые, глаз неподвижный и холодный, как то стекло, которое отгораживает его от мира – главный тоже носил очки. «Боже мой!» – подумала Нина Николаевна. – Да он же злой. Боже мой, какой он злой!»
Через несколько дней и она попала на глаза главному инженеру. Читала гранки и устала. От таблиц и формул рябило в глазах, а голова будто отупела. В таких случаях она отодвигала работу и читала что-нибудь другое – полегче и поинтереснее. Так обычно отдыхала. На этот раз подвернулась под руку газета. В корректорскую заглянул главный и, остановившись в дверях, сказал:
– В рабочее время газеты читать не полагается. На первый раз делаю вам замечание.
Нина Николаевна сначала посчитала это за шутку, бывает же у иных такие тяжеловесные шутки. Тоже хотела ответить шутливо. Но сразу осеклась – нет, с нею вовсе не шутят, сказано это было достаточно внушительно, властно. Нина Николаевна покраснела, попыталась было возразить:
– Алексей Трофимыч…
Но он перебил ее:
– Вот так, – и вышел, аккуратно, без стука прикрыв дверь. Все это было так неожиданно и чудовищно, что Нина Николаевна растерялась, а потом и обиделась.
– Да он что? – спрашивала она подчитчицу. – Ничего не понимает или придирается?
– Вы не обращайте внимания, – успокаивала ее подчитчица. – Ну, спросил, ушел и забыл.
– Как же не обращать? Как же не обращать? Не чурбан же я.
На следующий день Нина Николаевна опоздала на работу. Нет, маленькое недоразумение с главным инженером не было ни причиной, ни малейшим поводом к опозданию. Она уже к вечеру забыла об инциденте, и утром, как обычно, настроение у нее установилось ровное, самое рабочее, когда ничто не волнует, ничто не отвлекает. Просто в эту ночь куролесила вьюга, перемело дороги, и трамваи ходили с большими перебоями. На остановке Нина Николаевна мерзла более получаса, а потом кое-как затиснулась в вагон: столько там набилось народу.
Главный инженер стоял в коридоре второго этажа, будто специально поджидал Нину Николаевну. Она, не помня зла о вчерашнем, приветливо поздоровалась с ним и сказала совсем необязательное, лишь бы не пройти мимо молча:
– Ну и погодка!
Главный взглянул на часы и заметил:
– Опаздываете!
Нина Николаевна поморщилась, будто у нее заныл зуб. Настроение сразу испортилось. Не успела снять пальто, потереть озябшие руки и сесть за стол, как появилась секретарша и позвала ее к начальнику. Когда она, полная противоречивых чувств и неприязни к главному и страха за себя и какой-то незнакомой отрешенности зашла в кабинет, главный инженер что-то писал и даже не поднял головы, пока не кончил. Не предложил сесть. Нина Николаевна переминалась с ноги на ногу возле его стола, покусывая губу и готовая заплакать от обиды и стыда. Но вот он отложил ручку, поправил заученным движением правой руки очки, поднял на нее глаза, зачем-то зажмурил их и опять открыл, лишь после этого спросил:
– Почему опоздали?
– Но вы же понимаете… Трамваи…
– Не причина. Служба есть служба. Пусть хоть землетрясение, хоть ураган, а вы обязаны быть на своем месте.
– Но ведь, Алексей Трофимыч… – попыталась было оправдаться Нина Николаевна, думая между тем про себя с горечью: «Чего ему от меня надо? Что я ему сделала?»
– Вьюга началась с вечера. Надо было предвидеть, что с транспортом могут быть перебои и выйти из дому пораньше. Должен вам с сожалением заметить – дисциплинка у вас хромает. В тот раз газету читали в рабочее время, сейчас опоздали, а завтра и на работу не выйдете. Что ж у нас тогда получится: государственное учреждение или какая-нибудь контора? И пожалуйста, не оправдывайтесь. Учтите на будущее, можете идти.
Нина Николаевна вернулась в корректорскую до глубины души расстроенная и около часа не могла приступить к читке корректуры. Только начинала читать, как горячая расслабляющая волна обиды захлестывала ее, туманила глаза, парализовывала волю.
– Что я ему такое сделала? Что? Разве я одна опоздала? – спрашивала она подчитчицу, тоже обескураженную таким разворотом отношений Нины Николаевны с начальником, спрашивала шепотом, потому что боялась заплакать, если скажет громко. А девушка утешала:
– Да он всех вызывал. А тот лысый инженер, вчера к нам заходил который, вышел от начальника и давай его ругать, и давай ругать.
Но это слабо утешало Нину Николаевну. День она проработала кое-как, это был самый изнурительный в ее жизни день. Домой вернулась с головной болью, ночь спала дурно. Снилось злое, с синими тонкими губами лицо главного инженера, а очки у него вырастали до размеров чайных блюдец. И по цвету были такими же, как блюдца: непроницаемо белые и с голубыми каемками по краям. Утром страшно не хотелось идти в учреждение…
День, когда она держала корректуру в расстроенных чувствах, не исчез бесследно, оставил после себя отметку. В брошюре оказались грубые грамматические ошибки, которые в двух случаях совсем искажали смысл. Обнаружив это, Нина Николаевна упала духом. Будь начальником Василий Сергеевич, этого бы не случилось. А если бы и случились такие ошибки, то все обошлось бы по-хорошему. Она с ужасом ждала вызова к главному, была уверена, что вызовет.
Начальник вызвал ее на другой день. Она внутренне съежилась, уходя из корректорской, беспомощно и жалко оглянулась на подчитчицу, словно от нее ожидала поддержку. Однако в коридоре, сама того не ожидая, вдруг успокоилась, твердо решив постоять за себя и выговорить этому придире и педанту все, все. И ей сделалось неизмеримо легче.
Главный инженер возвышался за столом нахохлившийся, колючий, неприятный. На этот раз седые, всегда зачесанные гладко волосы на макушке спутались и топорщились. Он начал без предисловий:
– Вот видите, к чему ведет недисциплинированность? К халатности. А халатность – к ошибкам. Все это издание, – он с мрачной торжественностью потряс злосчастной брошюркой, – придется сдавать в утильсырье. Понимаете? Все это обойдется нам в кругленькую сумму…









