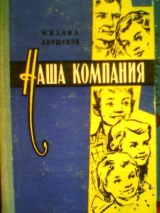
Текст книги "Наша компания"
Автор книги: Михаил Коршунов
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 12 страниц)
Сережа зажег керосиновую лампу.
Танюшка забилась в угол большой деревянной кровати, укрылась просторным одеялом и притихла.
Она вспоминала радостные, солнечные дни, когда была здорова и выходила с Сережей встречать мать, которая возвращалась с обхода путей.
Обычно первым из-за поворота дороги выскакивал щенок Бубенчик. Бежал он во всю мочь, сшибая с сорняков колючки, и потом на крыльце долго отряхивался от них.
Сережа принимал из маминых рук гаечный ключ, кирку, фонарь и холщовую куртку, пахнущую паровозом, а Тане мама надевала на голову новенькую форменную фуражку. И все вместе возвращались они домой.
Дома Таня подавала маме цветочное мыло, полотенце и ковш с горячей водой.
А когда мама ложилась спать рядом с Таней и Таня могла прижаться к ее плечу, тогда ей были нипочем самая злая гроза и даже толстые шмели, которые днем всегда нарочно крутятся вокруг Тани и сердито гудят.
Но вот уж, по правде сказать, кто не пугается шмелей, так это Бубенчик. Он смело принюхивается к шмелям и страшно клацает на них зубами.
За это Танюшка очень уважает Бубенчика.
Дождь хлынул разом. Вода забурлила в черепице, торопливо закапала, заговорила в ржавом, скрипучем водосливе. Бурная струя с крыши плеснула в пустую кадку.
– Маму дождь намочит, – робко сказала Танюшка.
– Не намочит, – ответил Сережа. – Она к балкам успела, там переждет.
Сережа знал, что мать промокнет: она обязана осмотреть линию. Про балки он сказал, чтобы успокоить сестренку.
Дверь скрипела. Когда налетал ветер, лязгал засов. Сережа вздрагивал, задерживал дыхание и, не отрываясь, глядел в сенцы, в затаившуюся тьму.
Было страшно, хотя Сережа понимал, что ему нельзя бояться: он старше Танюшки и, главное, единственный мужчина в доме.
... Сережа помнил отца.
Больше всего ему запал в память тот день, когда в сорок втором году он провожал отца на фронт.
Дома, на полу, расстелили солдатскую шинель, только что полученную отцом на сборном пункте. Шинель оказалась такой большой, что заняла почти все свободное место в комнате.
Мать и Сережа помогали отцу скручивать ее в плотную скатку. Потом мама дала папе на дорогу иголку, отмотала от клубка суровых ниток, насыпала полную табачницу крепких махорочных корешков и приготовила половину листа старой газеты. Отец взял газету, сложил ее наподобие маленького блокнота и спрятал за отворот новенькой пилотки.
Когда все уже было собрано, папа сказал: «Ну вот, солдат и в поход снаряжен».
До отъезда оставалось еще много времени. Отец с матерью вышли из дому пройтись на прощание. Они медленно пошли вдоль линии, навстречу догоравшему за лесом красному солнцу.
Сережа с Таней остались дома. Танюшке тогда было всего два месяца.
В углу комнаты стояла папина скатка. Сереже сделалось очень грустно. Он сел около скатки, прислонился к ней щекой и заплакал.
На вокзале отец долго держал Сережу на вытянутых руках и смотрел в глаза. Отец был сильный, он легко поднимал тяжелый буфер от вагона.
Теперь они остались втроем: отец с войны не вернулся. Мать заменила его на работе, а Сережа с Танюшкой сделались ее помощниками.
В память об отце мама хранит в коробке из-под охотничьих гильз полевые зеленые погоны с красными сержантскими нашивками, пачку ласковых отцовских писем в самодельных, неровных конвертах, вместо клея прошитых сбоку суровыми нитками. На конвертах – треугольные строгие печати: «воинское».
Хранит мама в этой коробке и фотографии, на которых папа заснят еще учеником-путейцем, в примятом набок картузе.
Фотографии все старинные, на толстом белом картоне с оттиснутыми на нем различными медальками вроде золотых монеток и смешными и неясными для Сережи надписями: «Фотография Бласко Гварнелли, город Стерлитамак, удостоен медалей эмира бухарского и королевы сербской».
Последние годы мама все чаще сидит по вечерам у огня молчаливая и перебирает эти старинные, с медальками карточки.
В такие минуты Сережа еще острее чувствует, как необходимо ему поскорее стать взрослым и сильным.
Сережа может уже устанавливать в метель придорожные щиты от заносов, наколоть дров, умеет и сучить дратву, чтобы подшить Танюшке валенки.
Управляется он и со стрелкой. На их перегоне есть ветка на торфяники, а при ветке – ручная стрелка. Рычаг у стрелки тяжелый, но Сережа справляется уже и с ним.
Сережа еще не такой сильный, каким был отец, но он будет таким же сильным. И настанет день – Сережа вытащит из чулана буфер и выжмет его.
Бахнул удар грома. В печной трубе треснуло, загудело. Таинственно зашелестела на чердаке солома, будто кто-то в ней ворочался, закапывался.
Сережа заставил себя встать и задвинуть печную вьюшку. При этом ему казалось, что в затылок вот-вот вцепится летучая мышь.
Летучие мыши живут на чердаке, он их побаивается. Это, наверное, они копошатся там в соломе.
Сережа с беспокойством взглянул на стенные часы. Скоро подойдет курьерский, а мамы все еще нет.
Сквозь порывы дождя и ветра где-то далеко просигналила автомашина.
Замолкла.
Потом опять начала посылать короткие тревожные сигналы.
Сережа прислушался. Сигналила машина Максима Антоновича. Может, что-нибудь случилось?
Сережа быстро оделся.
Но тут бесшумно мелькнула в тучах огненная нить, опалив сторожку сухим, колючим светом. Гром ударил, казалось, прямо в крышу, качнул дом и с ворчанием покатился вдаль по рельсам. В часах протяжно и грустно запела пружина.
Сережа на секунду замер. Сердце стукнуло и будто остановилось. Он загасил лампу и вышел.
Ветер набросился на него, едва он открыл дверь. Мальчик зашагал по проселку вдоль железной дороги, навстречу сирене «пикапа». А машина все сигналила и сигналила.
Шумели вершины деревьев, обламывая друг о друга ветви. Приплясывал, гудел дождь.
Сережа закрывался рукой от потоков воды, спотыкался, скользил.
По обеим сторонам дороги в глубоких водомоинах клокотали, пенились буруны, оглушительно стрелял гром.
Сережа добрался до столба, на котором была надпись: «Свисток». Еще совсем недавно с Таней побелили они этот столб и выложили его основание битым кирпичом.
Мальчик на минуту прислонился к столбу – перевести дыхание, потом снова пошел вперед.
Вскоре проселок свернул с железнодорожного полотна в сторону, в лес, к торфяным болотам. В лесу идти сделалось легче, не так дул ветер, но зато было темнее.
Дорогу все больше заливало водой. «Наверно, прорвалась из болот», – подумал Сережа.
В сумраке показались огни автомобильных фар. Машина стояла поперек дороги. Задние колеса загрузли в глубокой размытой колее проселка, и вода подходила к самым бортам.
Максим Антонович сидел в кабине.
– Где мать? – спросил он, распахнув дверцу.
– Еще не вернулась, – ответил Сережа.
– А я тут застрял. Хорошо, хоть ты пришел. Может, как-нибудь выкарабкаемся. Вдвоем оно веселее...
– Это из болот вода прет, – заметил Сережа. – А почты у вас много?
– Много. Как бы ты, Сережа, не простудился.
– Ничего, мне не холодно.
– Ну, давай попытаемся, может, и выскочим.
Максим Антонович вынул из-под сиденья домкрат, а Сережу попросил поднести камней, которые лежали на обочине. Камни недавно привезли для ремонта дороги.
Сережа принес.
Максим Антонович опустил в лужу несколько штук, на них пристроил домкрат и стал поднимать задний мост машины.
Сережа вытащил из кузова лопату и принялся выгребать из-под колес грязь и подсовывать под них камни.
Дождь все лил, в кронах деревьев шумел ветер. Из болот на дорогу вытекала холодная, пахнущая йодом вода.
Когда под колеса набили достаточное количество камней, Максим Антонович убрал домкрат и сказал:
– Ну, Серега, попытаем счастья!
Сел в кабину, нажал на стартер.
Сережа приготовился подталкивать машину сзади.
Застывший мотор долго не схватывал искру и только жадно засасывал поршнями бензин.
Максим Антонович погасил на время фары, чтобы не разряжать аккумулятор.
Наконец мотор завелся, закрутились колеса, полетели брызги, комки грязи. Машина буксовала и не двигалась с места.
Максим Антонович пробовал раскачать ее. Он то включал переднюю скорость, то заднюю – вперед-назад, вперед-назад.
Сережа тоже изо всех сил помогал раскачивать машину.
Стучали клапаны, хрипел фильтр, заглатывая воздух.
Но машина из колеи так и не выскочила, камни под колесами разъехались, и она вновь завязла до самых крыльев. Захлебнулся мотор: в него попала вода.
– Аккумулятор совсем разрядился, – проговорил Максим Антонович. – Баста! Не выскочить нам без подмоги. Что же будем делать, Серега, а?
Они забрались в кабину. Было темно – фары почти не горели. Дождь приутих, сбавил. Прекратился ветер. Лес успокоился и замолк. Зажурчали ручьи.
В радиаторе переливалась, остывала вода.
Максим Антонович зажег спичку и взглянул на часы.
– До курьерского двенадцать минут. А у меня посылка особой важности. Остальная почта может подождать, а вот эта посылка...
– А донести ее? – предложил Сережа, подсовывая ноги к еще теплому мотору.
– Мне машину нельзя бросать. Секретные пакеты лежат.
– Так я донесу.
– Тяжелая она.
– Да я справлюсь, Максим Антонович. И гроза вот затихла.
– Как будто затихла... Ну ладно!
Максим Антонович и Сережа выбрались из кабины и достали из кузова, крытого брезентом, большую картонную коробку.
– Смотри, чтобы печати не отлетели, – предупредил Максим Антонович, передавая Сереже посылку.
Посылка была перетянута толстым шнуром, повсюду на месте узелков был густо накапан сургуч. На сургуче – круглые печати.
– Если к поезду не поспеешь, неси посылку домой и жди. Через часок пойдет со строительства бульдозер, он меня вытащит.
Сережа аккуратно обхватил руками коробку, прижал ее к груди и зашагал к перегону.
Туча перевалила через лес. Посветлело небо. Слышно было, как в лесу спадало половодье: потрескивал валежник, поднимались кустарники и травы. В сорванных вихрем больших кленовых листьях, как в блюдцах, стояла вода.
В наступившей тишине Сереже все казалось, что он слышит шум приближающегося курьерского.
Волновался Сережа и за маму. Может, где-нибудь в низине вода подмыла рельсы, ослабила гайки, и мама одна возится с ними, подкручивает, торопится перед поездом.
Руки ныли в локтях, коченели пальцы. Остановиться бы отдохнуть. Но нельзя, никак нельзя. В висках стучало. Не донесет он коробку. Вот сядет где-нибудь на пенек и будет отдыхать.
Но Сережа не садился, а только перекладывал коробку с плеча на плечо. При этом он больше всего опасался, как бы не поломать печати.
Раздался свисток. Значит, поезд приближается к повороту.
Сережа добрался до железной дороги как раз в ту минуту, когда курьерский уже подходил.
В дверях почтового вагона стояла знакомая Сереже тетя Варя.
Сережа из последних сил приподнял коробку над головой и побежал.
Тетя Варя заметила его и соскочила по лесенке на землю.
Сережа так дышал, что ничего не мог ей объяснить. Да и времени для разговоров не осталось: паровоз дал гудок к отправлению, и тетя Варя поднялась с посылкой в вагон.
Зашипел сжатый воздух, опустились тормозные колодки, и поезд тронулся.
Мимо Сережи медленно поплыли огни вагонов.
Когда поезд затих, послышался знакомый лай, и вскоре Бубенчик с размаху прыгнул Сереже на грудь и радостно дунул в лицо.
Сережа услышал торопливые шаги мамы.
НАША КОМПАНИЯ
Вы хотите знать, сколько человек в нашей компании? Мы вам скажем – пять. Пока пять. Потом, очевидно, будет больше. Числится при нас еще кошачий подросток Мышкин. Черный, как головешка, с хвостом, похожим на ершик для примуса, доносчик и сплетник. Ну, о Мышкине это так, между прочим.
Добрая молва о нашем слаженном и веселом житье уже распространилась по всему дому.
Кто же в нашей компании?
А вот слушайте.
Первым следует назвать Даньку. Даньке шесть лет. Человек он скорых решений и очень понимающий в технике. Больше всех он уверен в этом сам. Обнаружив на улице предмет технической ценности, Данька, чтобы пронести его домой, кладет не в карман, а под шапку (если дело происходит зимой) или под кепку (если дело происходит летом). В карман класть нельзя: Данькина бабушка, Глафира Карповна, обладает удивительно отсталыми взглядами и с холодным сердцем вышвыривает экземпляры технической ценности в мусорное ведро.
Однажды случилось, Данька забылся и скинул шапку в передней. Посыпались винтики, шплинтики, болтики. К счастью для Даньки, в передней в тот момент не оказалось Глафиры Карповны, а то бы этому тайнику наступил конец. Мышкин ухватил было один шплинтик в зубы и хотел улепетнуть с ним в кухню к Глафире Карповне, но Данька изловил его, пригрозил, и Мышкин, испугавшись, шплинтик отдал.
Второй в нашем коллективе следует назвать Варю. Варя учится в третьем классе и на уроках пения поет в первых голосах. Кончик ее беспокойной косички вечно перепачкан чернилами. За Вариной спиной сидят в классе подружки, которые в хоре поют во вторых голосах, поэтому они изредка макают Варину косичку к себе в чернильницу. Извольте сами судить, что значит первый голос и второй, какая между ними пропасть (так думает Варя).
Есть среди нас еще одна девочка, которую мы зовем Томиком. Ходит она в штапельной куртке и в таких же штанах, поэтому весьма смахивает на мальчугана.
Все эти ребята – мои соседи по лестничной площадке.
Теперь осталось сказать о себе самом и о Прасковье Филимоновне. Я по профессии чертежник, а Филимоновна это моя домоправительница. Она строгая и требовательная и держит всю нашу компанию в полном повиновении и дисциплине.
Составилась наша компания после того, как я получил на работе денежную премию и купил телевизор.
Теперь и начнется рассказ.
Телевизор был привезен из магазина в большом картонном ящике. Только ящик внесли в квартиру, как немедленно появились Данька, Варя и кошачий подросток Мышкин.
– А вы скоро телевизор из ящика вытащите? – спросил Данька, и от технического любопытства у него даже нос заострился.
– Сейчас и вытащу. Ну-ка, помогайте!
Пришла еще Филимоновна. Мы вчетвером вынули из ящика телевизор – с кнопками, ручками и крупной надписью из латуни «Ленинград». Поставили телевизор на низенький стол, который давно уже был для него приготовлен.
– У вас теперь хорошо, – сказал Данька.
– Почему хорошо? Что телевизор купили?
– Нет. Все углы в комнате заняты. Бабушка любит меня в угол ставить. А у вас углов свободных не осталось.
– Понадобилось, так я бы один освободила, – вмешалась Филимоновна.
– А когда передачи смотреть будем? – поинтересовалась Варя.
– Придут механики, установят антенну, и тогда будем смотреть.
Филимоновна ушла на кухню. Данька с пересохшим от нетерпения ртом сказал:
– Вот бы его оглядеть!
Мышкин убежал за Филимоновной, чтобы стать на кухне возле мясорубки и наслаждаться падающими каплями мясного сока.
Данька попробовал, как двигается матерчатая шторка перед экраном, крепко ли припаяна латунная марка «Ленинград», проверил, действуют ли кнопки, потом пролез под столом и начал исследовать телевизор сзади.
– А здесь неправильно, – вдруг заявил он.
– Что неправильно?
– Винты откручены. Раз... Два... Три... Шесть винтов, и все откручены. Их закрутить надо.
– Погоди, Данька, может, их и закручивать не требуется.
– Нет, требуется. Всякие винты должны быть закручены. Я знаю.
– Да не слушайте вы его! – сказала Варя. – Он у нас дома все гвозди до конца позаколачивал. А мама на них картины хотела повесить.
– А что? – донесся из-за телевизора натуженный голос Даньки. Он уже закручивал своей отверткой винты. – И правильно! Если гвоздь, то надо его до самой шляпы забивать.
– Сам ты шляпа!
– Вот я как вылезу, как возьму молоток и тебе по затылку ка-ак тресну!
– Это что там за разговоры о молотке, а? – крикнула из кухни строгая Филимоновна. – Это кто там кого треснет?..
Данька замолк и продолжал завинчивать винты.
– Все, – наконец заявил он и на четвереньках выбрался из-под телевизионного столика.
Когда Данька уходил домой, Мышкин, сияющий от счастья, поволок вслед за Данькой огромную кость – подарок Филимоновны.
На другой день пришли механики, установили на крыше антенну и подключили к ней телевизор. Данька при сем присутствовал. Он помогал механикам разматывать длинный кабель, просверливать в оконной раме отверстие, чтобы вывести кабель наружу к антенне, суетился, предлагал свои инструменты – утюг, пестик от медной ступки, отвертку. Механики сказали, что утюг, и пестик им не требуются, а отвертки у них имеются собственные.
Когда телевизор включили и экран засветился голубоватым светом, на нем вместо изображения замелькали какие-то кружочки, черточки, нити.
Механик выдвинул телевизор из угла и посмотрел на винты сзади.
– Что же вы, товарищ, – сказал он мне, – сбили настройку у телевизора! Позатягивали винты.
Краем глаза я взглянул ка Даньку и сказал:
– Я думал, если винты, то их всегда закручивать надо.
– Прежде чем крутить, необходимо знать, что крутишь и зачем, – ответил мне механик.
Данька сморщил губы, покраснел и глянул на меня. В его взгляде была благодарность за то, что я принял его промах на себя.
Следовало еще пристроить линзу, которая намного увеличивала изображение. Она была сделана из тонкого стекла. Внутри нее пустота, наверху пробка, а снизу краник. Заполняется линза дистиллированной водой или вазелиновым маслом и тогда начинает увеличивать. Одни мои знакомые залили ее даже спиртом.
И вот вечером я, Варя, Данька, Томик и Филимоновна, да и Мышкин, конечно, собрались возле телевизора. Мы долго делили места, кому где сидеть. Ведь это не на один вечер, а на много вечеров – на сто, на двести, а может, и на тысячу!
Впереди, у самого телевизора, на низенькой табуреточке устроилась Томик. Томик желала смотреть с самого близкого расстояния. Когда Томик совсем уже елозила носом по линзе, мы оттаскивали ее вместе с табуреткой, потому что она заслоняла нам изображение.
За Томиком на стульях сидели Данька и Варя. Следом за ними – Филимоновна. Я расположился сбоку, на диване: почти спальное место.
Так как телевизор не пах бараниной, у Мышкина интерес к нему постепенно понизился. И Мышкин выходил на лестницу и сплетничал там со своими кошачьими приятелями или скакал по квартире. Филимоновна сердилась и предлагала его выдрать. Варя успокаивала Филимоновну, говорила, что у Мышкина переходный возраст, что это вскоре пройдет. Но когда Мышкин слишком уж увлекался и мешал нам смотреть передачи, тогда Данька призывал на подмогу технику: он привязывал на шею Мышкину колокольчик. Мышкин замирал и сидел не дыша, боясь пошевелиться, чтобы колокольчик не зазвенел, что очень его пугало.
Показывали кинокартину про войну. Изображение было четким и ярким, совсем как в обыкновенном кино. Если затевалась сильная стрельба, Томик добровольно отъезжала на табуретке от экрана и пригибала голову: следует побеспокоиться и о личной безопасности. Данька съеживался, но оставался на месте.
Даньку тянуло к ручкам телевизора, попробовать, какая ручка для чего служит. Но после истории с винтами он пока сдерживался.
Вот с тех пор и возникла наша компания. Ровно в семь часов тридцать минут мы в полном составе занимали каждый положенное место и смотрели телевизионную передачу по возможности до конца. Если передача слишком затягивалась, то Данька, Варя и Томик уходили спать. Уходили, конечно, неохотно. Но тут уж вмешивалась Филимоновна, а ей никто не осмеливался возражать.
Однажды мы смотрели трансляцию спектакля из театра. Филимоновна выразила недовольство тем, что артисты плохо замаскированы (загримированы). Филимоновна вообще часто говорит на свой лад. Наклейки на бутылке – этикетки она называет «экикетки». Слово «энтузиазм» Филимоновна тоже переворачивает, говорит: «энтузизазм». Но все это оказалось сущими пустяками по сравнению со словом, которое мы услышали при одной передаче. Диктор называл фамилии артистов и вдруг сказал: церемониймейстер такой-то.
– Це-ри...
– Мо-ри...
– Ме-ри...
В этом слове захлебнулась не только Филимоновна, но Варя, и Данька, и Томик. Но сообща мы все-таки вынырнули на поверхность и потом уже относительно легко переплыли через такие преграды, как слова «танцмейстер» и «капельмейстер».
Постепенно между нами произошло распределение обязанностей. Варя тушила и зажигала в перерыве между передачами свет. Филимоновна следила по часам, на сколько продлится перерыв. Томик открывала и закрывала шторку перед экраном. Ну, а Данька все же выслужился до того, что мы ему разрешили включать и выключать телевизор. Я один остался без всяких обязанностей – вольным зрителем.
Очень мы все сдружились и сделались весьма грамотными в сельском хозяйстве, в искусстве, в спорте. Мы теперь знали, что, кроме обыкновенных комбайнов, есть еще комбайны для уборки кукурузы, капусты, хлопка. Познакомились мы и с названиями новых сортов картофеля – «октябренок» и «промышленный». Постигли игру в канадскую шайбу, в настольный теннис, пересмотрели все современные театральные постановки и кинокартины. Запомнили мы десятки новых слов и понятий.
Натренировались мы и ужинать в темноте – мимо рта ничего не проносим. И по комнате ходить в темноте – на мебель не натыкаться – тоже научились.
Если вы хотите с нами познакомиться – собирайтесь в гости! Народ мы приветливый и с удовольствием выделим вам место у телевизора и примем в свою компанию.
МАТЬ И СЫН
1
В коридоре стоит мать в сереньком платье, в темном шарфе и прижимает к груди веточки буксуса.
Сына рядом нет: он с утра убежал из дому. Мать одна уходит на кладбище. Она понимает, что Лене на кладбище будет очень тяжело и очень страшно, поэтому и уходит одна: заслоняет собой сына.
... Два дня назад Леня утром провожал отца до газетного киоска. В киоске отец купил свежий номер журнала по радиотехнике, сунул в карман плаща, помахал Лене кепкой, и они расстались: отец отправился на работу, на завод электромоторов, а Леня – в школу.
Когда Леня вернулся из школы, ему поспешно открыли двери.
Но это была не мама, хотя на фабрике она сегодня не работала, а была Даша из соседней квартиры.
Леня не удивился, что Даша у них: она часто приходила к маме.
Леня не удивился даже тогда, когда Даша сказала, что ждет Леню: ведь у него нет ключей, а маме понадобилось срочно уйти.
Леня поверил. Но будь он повнимательнее, он бы заметил и напряженное лицо Даши, и мамину перчатку в углу у порога (значит, мама ее обронила и не искала), и разбросанные на тумбочке возле кровати шпильки: мама не заколола волосы, а только накинула шарф. И на плите в кастрюле громко кипела вода, разбрызгивалась и обдавала кухню паром, а Даша точно не слышала.
Леня ни на что не обратил внимания. Он привык, что в семье всегда спокойно и устойчиво. Его любили, о нем заботились. И он в ответ любил. Единственной его заботой было сдавать экзамены и переходить из класса в класс.
Он привык, что по вечерам в квартире фонили динамики, трещали разряды конденсаторов, хлопали переключатели: отец увлекался радиотехникой и беспрерывно что-нибудь строил и испытывал.
В штепсельных розетках частенько сгорали предохранители, и тогда пахло горячей резиной. Или вдруг становилось опасным прикасаться к радиаторам парового отопления и водопроводным трубам: начинало трясти электрическим током.
К запаху горячей резины иногда примешивался запах соляной кислоты и канифоли – это от паяльника.
Недавно отец решил сконструировать свой звукозаписывающий аппарат – не магнитофон, а шаринофон. Звук должен был записываться сапфирным резцом на кинопленку.
В работе над шаринофоном помогали мама и Леня. Мама смывала с пленки эмульсию, а Леня на специальном станочке резал пленку на две полоски.
В квартире появился новый запах, запах ацетона. Отец склеивал ацетоном пленки, если они случайно рвались при звукозаписи.
Леню увлекли опыты с шаринофоном. Он мог час за часом сидеть с отцом в наушниках, контролировать, как идет запись «с эфира», снимать пинцетом стружку, которая выбивалась из-под сапфирного резца, рассматривать сквозь увеличительное стекло звуковые бороздки на пленке – достаточной ли они глубины и какова сила звука, модуляция.
А сколько было радости, когда проигрывали очередную опытную пленку и запись на ней получалась вполне понятной! Если играла музыка, то можно было догадаться, что это играет музыка. Если кто-то пел, то можно было догадаться, что все-таки пел, а не стонал или кашлял.
Иногда среди ночи отец будил маму и просил сказать что-нибудь в микрофон, который он приносил на длинном шнуре, а сам бежал к шаринофону и следил, как идет запись «с микрофона».
Мама сонным голосом «давала счет» или читала газету.
Отец вскорости прибегал с проигрывателем и запускал пленку, чтобы мама послушала свой голос.
Она слушала и улыбалась. В проигрывателе сквозь шипение бамбуковой иглы едва звучал ее голос. Но по голосу можно было вполне догадаться, что мама не пела и не стонала, а читала газету и что она не кашляла, а «давала счет».
Так было недавно. Так могло быть и сегодня, и завтра, и послезавтра, если бы в тот день не зазвонил телефон.
К телефону заспешила Даша. У Лени это опять не вызвало никаких подозрений, хотя Даша ответила в трубку: «Да, это я», – будто ей часто сюда звонили.
Леня в это время потушил газовую плиту, чтобы вода в кастрюле перестала, наконец, кипеть.
Даша по телефону больше молчала или говорила односложно.
Вдруг она сказала:
– Он уже дома. Вы хотите сказать ему сейчас? Хорошо, я его позову.
Леня подошел и взял трубку.
С тех пор прошло два дня.
Отец умер в городской больнице, куда его привезли на «Скорой помощи». У него развилась острая сердечная недостаточность, которая и привела, как сказали врачи, к внезапному летальному исходу, к смерти.
Леня закрывал глаза и видел отца у газетного киоска в распахнутом плаще, с журналом в кармане, с кепкой, зажатой в руке.
В эти дни Леня думал о себе, о своем горе.
О матери Леня не думал, точно забыл, что она тоже одна со своим горем.
К ним в дом приходят люди с завода, товарищи отца по армии, соседи. Но какие бы хорошие люди ни приходили, это горе они не унесут, оно останется. И будет с ними, с Леней и с матерью.
2
Леня вернулся домой, но никого уже не застал: уехали на кладбище.
В квартире было непривычно грязно и не убрано: полы затоптаны, в пепельницах полно окурков. Стулья и диван завалены бельем, подушками, одеялами. В письменном столе выдвинуты ящики: в них что-то искали.
Дверца гардероба приоткрыта, и Леня увидел среди маминых платьев пустую деревянную вешалку.
С вешалки вчера сняли и увезли новый коричневый костюм отца.
Леня не выдерживает один в притихших комнатах, и он вновь убегает в город, где все то, что присуще было отцу: движение, энергия, озабоченность.
Весна залила город снежной топью, разбросала осколки солнца – в лужи, в ручьи, в опавший с крыш битый лед, – и все это искрилось, слепило глаза. Улицы пахли мокрыми деревьями и зелеными почками.
Лене не верилось, что сейчас, когда всюду пробуждаются жизнь и тепло, где-то на краю города уходит из жизни его отец. Медные трубы оркестра поют для отца последние песни!
Леня встал на мосту, облокотился о перила и смотрел на весеннюю воду реки, которая гнала и кружила в быстром половодье щепки, бревна, ветки деревьев.
Река успокаивала, уносила наболевшие мысли.
Леня простоял над рекой, пока не продрог, и тогда побрел по городу. Он разглядывал витрины магазинов и фотоателье, останавливался у цветочных палаток и театральных реклам – только бы ни о чем не думать, а вот ходить, смотреть и ждать!
Леня замерз. Он зашел в букинистическую лавку погреться.
В лавке было мало народу. Продавщица спросила:
– Ты какую книгу ищешь?
– Я, – растерялся Леня, – я не ищу.
И он снова шагает по улицам – автобусные остановки, объявления портных и зубных врачей, металлические кнопки «переходов», толпятся стекольщики у хозяйственных магазинов; окрик: «Эй, паренек! Остерегись!» A-а, тут ремонтируют дом.
Хорошо бы теперь чего-нибудь съесть. Он ничего не ел и не пил с утра.
Леня опять оказался на мосту. И опять он смотрит на воду. А вода бурлит, напирает на бетонные опоры моста, вскипает и отваливается от них белой пеной.
Леню трясло, но он не знал отчего: то ли от холода, то ли от нервного возбуждения.
На дне реки разбросаны осколки солнца. Они перекатываются по дну, сверкают, слепят. И от этого сверкания и потока воды начинает кружиться голова.
И вдруг Леня вспомнил о матери.
Она одна там! Она ведь ждет! А он бросил ее!
И он мучительно, до боли в сердце, захотел немедленно увидеть мать, обнять ее за плечи и сказать: «Мама, я здесь! Я рядом с тобой».
3
Все дальше уходил тот день весны, когда похоронили отца.
Каждое утро Леня и мать вместе завтракали, потом Леня брал портфель и торопился в школу. Мать мыла посуду и тоже уходила на фабрику.
Леня старался пробыть в школе после уроков как можно дольше. Он или помогал в библиотеке наклеивать бумажные карманчики на книги, или рисовал стенгазету, или работал в зоологическом кабинете: кормил кроликов, чистил аквариумы и птичьи клетки, грел синим светом больных черепах и ужей.
Только бы не идти домой, где на отцовском столе сложены в коробках радиодетали, валяются бруски олова, клеммы, индикаторы.
В каждой из этих вещей был отец: ощущалась теплота его рук, виделись его глаза, прищуренные от дыма папиросы, которую он всегда держал в углу рта. Увлекшись работой, отец не замечал, как папироса гасла. Тогда он ее прикуривал от горячего паяльника и вновь щурился.
У отца была любимая пепельница – высокая консервная банка, в которую мама бросала на кухне горелые спички.
Мама сердилась на отца, что он таскает банку в комнаты. Покупала нарядные фарфоровые пепельницы, но отец оставался к ним равнодушным и снова приносил из кухни консервную банку, потому что на нее удобно было класть паяльник.
Вот и теперь на этой банке долгие дни лежал паяльник.
Над столом отца возвышается самодельный барометр. Стрелка барометра летом и зимой упорно показывает на «великую сушь». Отец изредка стучал по барометру пальцем, пытался передвинуть стрелку, но барометр стрелку не передвигал и продолжал настаивать на «великой суши».
В ванной комнате на гвозде висит щиток для шаринофона из толстой фанеры, которую отец оклеил грушей, протер пемзой и приготовил для полировки.
Отец умер, а вещи отца не хотели умирать!
Они продолжали жить, и это было самым страшным. Поэтому Леня и не спешил из школы домой.
А мать была вся в хлопотах. Она готовила еду, убирала квартиру, бегала в коммунальный банк платить за газ, за телефон, за электричество. Стирала белье, гладила.
Она продолжала беречь Леню от тех повседневных забот, из которых слагается жизнь. Лишь бы он почувствовал, что в их маленькой семье по-прежнему все устойчиво и спокойно, и что его забота остается такой же, как и при отце, – сдавать экзамены из класса в класс.








