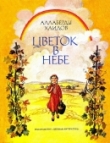Текст книги "В небе Чукотки. Записки полярного летчика"
Автор книги: Михаил Каминский
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 24 страниц)
Таню я оставил на последнем курсе нефтяного института. Она едет сюда уже с дипломом инженера. Не затоскует ли? Нет, что ни говори, в самом важном для мужчины – в выборе профессии и жены – я не промахнулся. Кому везет, так везет во всем!
И я заснул с приятными мыслями о завтрашней встрече с любимой.
О ТОВАРИЩАХ
Морозное утро встретило нас ясно;, погодой. Солнце уже взошло – все небо над головой светилось голубизной. Мы уже отвыкли от такого зрелища, и оно радовало глаз. Первыми поднялись механики, под моторами журчали примусы подогрева.
Подошел Сургучев. Пожелав доброго утра, поинтересовался, можно ли убирать палатку и укладываться.
– Подождем, Владимир Михайлович! Налаживать табор дольше, чем разбирать. А вдруг погоды нет и лететь некуда? А как вам спалось? Не пришлось дрожжами торговать? – пошутил я.
– Как ни странно, спал как младенец. Утром Митя развел примус, и я встал в тепле, как буржуй. Просто удивительно, что на вынужденной можно жить, не бедствуя!
– Ходит, Володя, среди летчиков поговорка; «Лучше быть пять минут трусом, чем всю жизнь покойником!» Сомнительная поговорка, но оказавшиеся в нашем положении могут найти в ней некоторый смысл. Когда прижмет непогода, лезть на рожон, пробиваться во что бы то ни стало – это уже не смелость, а отчаяние. А вы убедились, что разумный выход есть.
– Не выход, а целые ворота, – Сургучев рассмеялся. – Но смотрите, что–то Саша там машет…
– В Оловянной туман, а в Анадыре ясно, нас ждут! – доложил, улыбаясь, Мохов, когда мы подошли к нему.
– Ну вот, теперь можно и укладываться! Мы принялись разбирать палатки. Работая, я думал о новых моих товарищах.
Володя Сургучев оказался уживчивым и компанейским парнем. Пока что я не заметил в нем инициативности, свойственной Катюхову, однако его способность подчиняться разумным решениям и выполнять порученное не за страх, а за совесть располагала к доверию. Как летчика я наблюдал его впервые.
Умение взлетать, садиться, держаться в строю – само собой разумелось и теперь уже не представлялось мне главным в летчике. А вот как он переносит осложнения обстановки в полете? Боится, нервничает, теряется или сохраняет выдержку? Как принимает решения – своевременно, до наступления опасности, или начинает метаться, когда уже нет выхода? Этот наш полет не мог дать исчерпывающего ответа на подобные вопросы, но кое–что прояснил, Митя успел шепнуть, что не заметил в своем летчике «нервоза». Он не возмущался, спокойно следовал за ведущим. Это признак уравновешенности. После посадки Сургучев безо всякого гонора подчинился опыту Мити. При креплении машины и разбивке лагеря он не командовал, а спрашивал, что и как делать. Это признак готовности учиться тому, чего не знаешь, – качество весьма важное для полярника. Все ранее подмеченное и свежие наблюдения дополняли общее впечатление о Сургучеве как о добром и сильном человеке. Мой Митя был гренадером, а Володя еще массивнее. Все в нем было крупным и вызывало симпатию с первого взгляда: медведь, да и только!
Мохова вся зимовка звала Сашей или Саней. Однако отнюдь не потому, что он казался или был рубахой–парнем. В этой фамильярности было что–то от заискивания. Мохов был мастеровит, и каждый хотел иметь его другом. Он окончил всего семь классов, рано начал своими руками зарабатывать на жизнь. Эта необходимость в сочетании с природной одаренностью, видимо, и сотворили из него мастера, способного найти выход из любой технической трудности. Когда его спрашивали: «Сделаешь?», «Сумеешь?», он неизменно отвечал: «Шестнадцать лет по этому делу у Зингера работал». Теперь это забыто, но в те времена имя главы фирмы швейных машин Зингера пользовалось большой известностью. Еще я заметил в Мохове неимоверную выдержку. Однажды, копаясь в моторе, он сильно обморозил руки. Целую неделю кожа с его пальцев слезала лоскутами. Но мы не услышали ни единой жалобы. Самостоятельно кое–как перевязав руки, он каждый день продолжал работать вместе со всеми. Своей стойкостью гордился, на похвалы не напрашивался, но принимал их со сдержанным удовлетворением. И внешне – длиннорукий, чуть сутуловатый, с мощной статью партерного борца – Мохов казался эталоном человеческой прочности. Такой не расслюнявится, какая бы напасть ни свалилась на голову.
В общем, для полярной зимовки, и для нашего отряда в особенности, он оказался сущим кладом. Кроме специальности бортмеханика, Мохов владел радиотехникой и мог работать радистом. Ввиду такого ценного сочетания профессий мне пришлось пожертвовать Митей и в перелетах брать с собой Мохова, чтобы иметь связь на своем борту.
Каждый хочет иметь верных товарищей. Тому, кто хоть за что–нибудь отвечает, по душе надежные соратники. Думая об испытании, которое довелось перенести этим ребятам, я понимал, что они доверяли мне. И от макушки до пяток ощущал признательность, какую–то неизъяснимую теплоту…
Тем временем становилось все светлее. Сопки закрывали от нас солнце, но небо стало большим и словно просвеченным изнутри. Боже мой! До чего же хорошо жить с солнцем, каждый день встречать и провожать его, видеть эти нежные изменчивые краски на просторном небе! Впервые Чукотка показалась мне приветливой, несмотря на мороз, пощипывавший лицо и руки.
Через час после взлета мы уже совершали двойной «круг почета» над Анадырем.
Невооруженным глазом видно, что мы подняли на ноги всех обитателей «столицы» и ее окрестностей. Появление самолета для них – событие первостепенной важности.
Около дома, который мы именовали аэропортом и к которому подрулили, нас окружила толпа встречающих: собралось едва ли не все население поселка.
Но я видел только сияющие глаза моей Тани и Сережку, который держался за подол ее кухлянки. Едва мы успели обменяться торопливыми поцелуями, как со всех сторон меня атаковали анадырцы: кто поздравлял с благополучным полетом, кто приглашал в гости, а некоторые спешили изложить свои просьбы…
МЕНЯ СПАСАЕТ ВОЛЧЬЯ СТАЯ
Ни в одной книге нельзя пересказать жизнь человека день по дню. Поэтому опускаю все, что дорого лично мне и не существенно для читателя. Остановлюсь только на анадырском периоде работы в тридцать шестом году.
В начале этих записок я упоминал, что история полетов в небе Чукотки начинается с облета острова Врангеля О. А. Кальвицей в 1926 году. Над Анадырем первый самолет появился только в 1932 году. Это был гидросамолет летчика Г. А. Страубе, прилетевший с экспедицией С. В. Обручева, о чем было подробно рассказано ранее.
В тридцать четвертом году во время челюскинской эпопеи Анадырь стал транзитным пунктом для всех самолетов, летевших в лагерь Шмидта. В марте тридцать пятого из Хабаровска на Чукотку в паре с летчиком Линделем совершил перелет М. В. Водопьянов. Все эти посещения Анадыря авиаторами имели экспедиционный характер, и сделать что–либо полезное непосредственно для окружного центра они не могли. Но вот осенью тридцать пятого здесь обосновался отдельный отряд из двух самолетов Чукотской авиагруппы. Наконец–то! – радостно вздохнули анадырцы. Однако радость оказалась преждевременной, ибо окружные организации вместо помощи себе очутились перед необходимостью помогать в розысках то одного, то другого пропавшего летчика.
Прошел еще год. Самолеты северного отряда работали в геологической экспедиции, на ледовой разведке, обслуживали зимовки, а окружные организации по–прежнему рассылали своих работников на собачьих упряжках зимой и на байдарках летом. И вот в Анадырь летят два самолета, чтобы сделать что–либо реальное. И вновь садятся на вынужденную. Слава богу, что хоть не просят помощи, сами выбираются из беды и все у них в исправности, Я ожидал встретить у руководителей округа холодок недоверия, но, видно, людям свойственно не терять надежды на лучшее. Вопреки ожиданиям нас встретили с ликованием и, как говорится, не знали, где посадить.
Интересно рассказывать о волнующих происшествиях, требующих находчивости и других качеств, от которых зависит жизнь. Трудно описывать простую, хотя и удачливую работу. День за днем'мы летали с Сургу–чевым без всяких осечек. Стояла хорошая погода, моторы запускались вовремя, ничего не ломалось, и каждую ночь мы ночевали под крышей.
Впервые от сотворения мира специальная экспедиция обследовала реку Анадырь на судоходность. Оказывается, это вовсе не простое дело – видишь воду и плыви себе! Всю реку надо промерить, выявить фарватер, составить карту и лоцию, сделать положенное число астропунктов и поставить навигационные знаки. Для этой цели и прибыла гидрографическая экспедиция Главсевморпути под руководством Подгородецкого. В ее составе было человек сорок. Для округа работа экспедиции имела жизненно важное значение, и председатель окрисполкома Тевлянто просил меня в первую очередь помочь ей. Нам пришлось развозить отряды партии с их снаряжением по всей реке, до Усть–Белой включительно. Пользуясь отличной погодой, за неделю мы решили задачу, представлявшуюся Тевлянто и Подго–родецкому неимоверно трудной. Потом нам поручили перевозку грузов торговой конторы в Усть–Белую, «Снежное» и Маркове. И с этим справились быстро. И стали развозить командированных в различные пункты южного побережья Чукотки. Судья, прокурор, учителя, врачи, советские и партийные работники доставлялись туда, куда им требовалось. В свою очередь, появились пассажиры, у которых были дела в окружном центре.
Короче говоря, два наших самолета за короткий срок полностью удовлетворили нужды Анадыря и восстановили авторитет авиации. Ограничиваю себя этой краткой справкой, чтобы рассказать об одном эпизоде, которому я бы не поверил, не случись он со мной.
К декабрю, осмелев от удачных полетов, когда стало казаться, что между Анадырем и Усть–Белой нами все изучено, мы стали летать и порознь. Однажды я послал Сургучева с Моховым к устью реки Великой с инструментом для астрономического отряда Карандашова, а сам с Митей повез в Усть–Белую старшего прораба Ивана Суярова и его жену, техника Марию Суярову. Обратно вылетели с грузом пушнины.
Половина пути была пройдена безмятежно. До Анадыря оставалось лететь минут сорок, как вдруг атмосфера непонятно почему замутилась, стала мглистой. Хотя небо по–прежнему голубело в просветах, но видимость горизонта сужалась, вынуждая меня снижаться. Надо бы развернуться обратно, на хорошую погоду, но я промедлил, полагая, что ухудшение видимости—местное явление. Бровка берега четко обозначалась непрерывной линией кустарника, и я шел по ней, как баран на зе–ревочке.
– Ах черт, какая досада! Надо было вернуться! – с нарастающей тоской повторял я про себя, опуская крыло к земле и выжидая появления более широкой плоскости кустарника, чтобы по ней совершить разворот. Я крутил «восьмерки» на десяти метрах высоты, цепко держась за путеводную нить берега.
Сколько раз пролетал этим берегом, и он казался прямым как стрела. Откуда только берутся сейчас все эти мысы, изгибы, повороты? Как привязанный держу крыло вровень с чернеющей полоской и извиваюсь вместе с береговой чертой. А туман все гуще и плотнее. Всей кожей начинаю чувствовать безнадежность своего положения: сию минуту самолет заденет за землю, стремительно развернется и со страшной силой ударится мотором. Оборвутся бензиновые трубки, бензин вспыхнет, и много спустя люди станут гадать; кому же принадлежат эти изуродованные, обгоревшие тела?..
И когда отчаяние дошло до предела—совершилось чудо. Внезапно из белой мглы прорезалась россыпь черных точек прямо по курсу. Эти точки обозначили плоскость земной поверхности. Не раздумывая, что это за точки, только каждой своей клеточкой ощущая их спасительность, убираю газ и выравниваю по ним машину. И вот она уже стоит как вкопанная на земной тверди, мое сердце замедляет темп и колотится не так бешено. А точки—то была волчья стая—бросаются в разные стороны и скрываются во мгле.
Митя вопреки вулканическому темпераменту на этот раз не «катапультировался» из своей кабины, а медленно, «по слогам», покинул ее. Он сошел, не оглядываясь, и растаял в тумане.
Обалдевший, я сидел в кабине, не имея сил и желания двигаться. Скверно! На мякине попался, старый воробей! Мотора я не выключал, чтобы Митя вернулся на его звук. Он возвратился минут через пятнадцать, когда я и не знал, что думать о его уходе, вернулся совсем с другой стороны.
– Куда ты ходил, Митя? – в моем голосе не было ничего от командирской твердости, вопрос прозвучал неуверенно и льстиво.
– Смотрел, куда мы устряпались! – без заметного раздражения, но холодно ответил Митя,
– Ну и что?
– А ничего! В который раз убеждаюсь, что кому–то из нас кошмарно везет!
– Наверное тебе, Митя!
– Тогда ты пропадешь без меня, командир! Выключай мотор!
Я выключил мотор, Митя накрыл его чехлом, затем вытащил из самолета палатку и стал устраивать лагерь. Я решил обойти наш «аэродром». Осмотрел место, на которое, по Митиному выражению, мы «устряпались», и меня охватил стыд. В нашей жизни было немало всякого, но еще ни разу мы не подвергались опасности так глупо.
Берег реки образовал здесь длинный уступ, повернутый в глубь тундры. Тальник кончался там, где высокий берег снижался до уреза воды. В тундру вклинивалась довольно ровная, покрытая снегом болотистая низменность. Летом в нее нес свои тощие воды ручей, сбегавший с окрестных возвышенностей. Образовавшийся рукав с трех сторон окружали бугры – наш самолет не добежал до них метров тридцать. Позади, чуть дальше точки приземления, осенний ледостав прижал к берегу такие глыбы торосов, на которые и смотреть–то было неприятно. Выполненная вслепую посадка пришлась на естественную площадку, как будто специально отмеренную для моего Р–5. Отклонение в любую сторону хотя бы на пятнадцать метров—и в лучшем случае битая машина… «Да! – подумал я про себя. – Ничего не скажешь, действительно дурацкое счастье!»
Митя не донимал меня попреками, молча вскипятил на примусе воду, заварил чай, разогрел консервы и, поев, демонстративно завалился спать, Митино молчание я воспринимал как поджаривание на медленном огне и долго в одиночестве бродил по «аэродрому», пока усталость не кинула в сон и меня.
Наутро туман рассеялся, и мы благополучно вернулись в Анадырь. Здесь никто не беспокоился, считая, что мы заночевали в Усть–Белой. Но это–то и обеспокоило меня. «Хорошо, что мы не нуждались в помощи, – размышлял я, – а если бы все сложилось иначе? Ведь нас хватились бы в лучшем случае через сутки». Рассказав Сургучеву и Мохову об этом происшествии, я установил за правило: летчику не ложиться спать до тех пор, пока с места ночлега не уйдет сообщение о местопребывании. Если же такие сведения на базу не поступят, оставшемуся экипажу с утра начать поиски пропавшего.
КАК ПОЧТИТЬ ОТВАГУ ПОГИБШИХ!
Добрые вести имеют длинные ноги. Какими–то неведомыми путями Чукотка узнала, что «летают самолеты». И люди, привыкшие к оседлой неторопливой жизни, вдруг почувствовали тягу к воздушным путешествиям. В окружком, окрисполком, Анадырский политотдел и на мое имя посыпались запросы. Райкомы, райисполкомы, начальники экспедиций и зимовок просили прилететь, перебросить в Анадырь, доставить обратно. Все, на что прежде до прибытия пароходов просто махнули бы рукой, неожиданно стало неотложным, приобрело небывалую остроту. Еще бы! В Анадыре можно решить «больной» вопрос, добыть дефицитное и даже выточить какую–то сломавшуюся деталь: единственный на всю Чукотку токарный станок и сварочный аппарат имелись только здесь, В свою очередь, и окружным организациям оказалось до зарезу необходимым послать то в один, то в другой пункт своего инспектора или вызвать местного работника для доклада. Полное отсутствие удобств в полетах возмещалось энтузиазмом наших пассажиров.
Короче говоря, объем работы возрастал, и я вызвал на подмогу третьего и последнего нашего летчика Георгия Катюхова. С ним летели бортмеханик Берендеев и радист Миша Малов. Катюхов должен был пройти тем Же маршрутом, каким летели мы с Сургучовым… За прошедшие три недели сумеречное время за хребтом сократилось еще больше, приближалась середина полярной ночи. Памятуя о трагическом перелете Волобуева, я принял меры предосторожности». В день полета Катюхова мы с Сургучовым дежурили на базе геологов в бухте Оловянной, а моторы наших Р–5 были разогреты. С раннего утра я сидел в рубке радиста Володи Высотского. Убедился в наличии двухсторонней связи, сам передавал погоду Оловянной и следил за полетом. Всегда легче лететь в трудных условиях самому, нежели ждать товарища. Но перелет завершился благополучной посадкой в пункте ожидания.
Итак, вся авиация Чукотки в сборе, в боевой готовности. И вновь, не впервые, моя мысль вернулась к тем, кто добывал нам опыт. Я думал о Волобуеве, дорогой ценой оплатившем его. Приближается годовщина его гибели, как отметить ее?
Не раз я удивлялся, как тонко чувствовал мои переживания Митя. На этот раз он подошел ко мне с вопросом, в котором теплилась сочувственная зависть:
– Ну что, гордишься, поди?
– Так ведь есть чем, Митя!
– А знаешь, когда я решил остаться с тобой на вторую зимовку, то, честно говоря, считал это жортвой. А сейчас не жалею – рад. Еще год разлуки с Машей вытерплю, зато сколько мы с тобой сделали из того, о чем мечтали! А ведь это главное в жизни, как думаешь?
– Я думаю, Митя, что без тебя я не смог бы выдержать всех невзгод, какие выдержал. Спасибо тебе!
– Ну, это ты брось. Не во мне дело. – Митя покраснел, засмущался. – Я о другом думаю. Вот двух лет не прошло, как мы, встречая челюскинцев, только еще мечтали об Арктике. Думали – молодые, сильные, Арктика перед нами на колени бросится. А первый же полет бросил нас самих, как слепых котят, в прорубь. Барахтались и не верили, что выживем. Просто обязаны были утонуть. – Митя нахмурил брови, помолчал. – А когда погиб Волобуев, мы окончательно убедились, как мало стоят благие намерения. И еще думаю о нашем Н–68, оставленном в заливе Св. Лаврентия. Сломали лонжерон и испугались: ничего, мол, сделать нельзя! Веришь ли, эта машина мне по ночам снится, словно не ее, а ребенка бросил на произвол судьбы. Аж зубами скриплю. Сейчас запросто починили бы то крыло. Ну а в общем–то мы этот год прожили не зря. Научились кое–чему и даже других учим. Теперь бы вот Ардамацкому помочь. Он тут у Одинца снега зимой не допросится. У тебя сейчас авторитет—вмешайся!
Митя имел в виду перемены, какие произошли в составе зимовщиков бухты Оловянной. Начальника первой геологической экспедиции М. Ф. Зяблова сменил геолог Ю. А. Одинец, человек иного склада характера. Одновременно со сменой Одинца на берег бухты выгрузился персонал полярной станции «Перевальной». Ее начальнику И. Л. Ардамацкому предстояло построить свою станцию за хребтом, в долине Амгуэмы. Для переброски всего имущества по распоряжению из Москвы геологи должны были передать оба имеющихся у них вездехода Но Одинец добился разрешения передать только один вездеход и отдавал тот, который требовал ремонта, в условиях Оловянной без нужных запчастей неосуществимого. Таким образом, постройка «Перевальной» откладывалась на неопределенное время, что привело в уныние Ардамацкого и его товарищей. Я уже раздумывал, как помочь Ардамацкому, и ответил так:
– Есть у меня, Митя, мечта, но не додумал, как ее осуществить. Но если бы это удалось, то мы не только Ардамацкому, но и себе поможем.
– Коли начал—договаривай.
– Не выходит из головы, как Волобуев и Буторин целый месяц ждали помощи, а отчаявшись, ушли от самолета. Как Богдашевский со сломанной ногой остался в холодной палатке с парой плиток шоколада. Ты представь, какую силу воли надо иметь, чтобы, отломав одну дольку, ждать целые сутки, пока можно будет отломать другую. Помнишь, что рассказывал Кремчуков? У Бог–дашевского был наган, и он мог застрелиться, чтобы прекратить мучения. А он записывает в своем дневнике:
«Так поступают только трусы. Человек обязан жить и бороться до последнего дыхания!» Когда его нашли, в нем оказалось всего тридцать шесть килограммов весу, один скелет. И пока карандаш не выпал из рук, он вел дневник, однако ни слова сожаления о том, что поехал в гибельную для него Арктику. А ведь этому городскому мальчику не исполнилось еще и двадцати пяти. Откуда у него это мужество? Кто научил его так мыслить?
– Комсомол, Миша, как и нас с тобой, – убежденно откликнулся Митя, – А еще имеет значение, что мы люди советские. Если не упадем духом – все выдержим! Но ты договаривай про мечту, не отвлекайся…
– Мечтаю, Митя, погасить наш долг перед ними. Их гибель учила нас жить. Вот и хочется всем им памятник поставить. В день рокового перелета, девятнадцатого декабря, высадить «Перевальную» Ардамацкого нашими самолетами за хребтом. Символически это будет обозначать, что мы научились тому, во имя чего они погибли, а практически «Перевальная» станет важной опорой для безопасности наших полетов.
– Так это же будет самый настоящий десант! – загорелся Митя.
– Вот именно! Нам это понятие знакомо, и учиться было у кого. Гроховский делал и более рискованное. Подумать только, что одна такая голова заставила работать на свои идеи сотни, даже тысячи людей! Помнишь, в прошлом году мы читали с тобой о десанте Красной Армии под Киевом! Даже не верится, что и мы над этим работали. Так вот, наш десант будет не парашютным, а посадочным.
– А что! Сделаем! Теперь мы это сможем, – уверенно пробасил Митя. – Пора быть мужчинами!
– Не рано ли? Ведь всего три года назад Обручев писал, что полеты здесь—лотерея, в которой выигрывает счастливый.
– Старо, командир! Зрелость не определяется годами. Летали бы мы на материке, и за десять лет не научились бы тому, что умеем сейчас.
– Но садиться в горах, зимой, полярной ночью мы не пробовали.
– Всегда что–нибудь делается первый раз.
– Страшновато, Митя! Так недешево достался на»А авторитет, что подумаешь, прежде чем рискнуть им. Но ты прав, в нашем деле самая большая опасность в боязни риска.
– Вот, вот! Кто не рискует, то не проиграет, но наверняка и не выиграет! Мы знаем, где и чем рискуем, и в этом наша сила. Я за то, чтобы сделать этот полет, и именно девятнадцатого!
– Ну что ж, убедил! В самом деле, пора выяснить, что мы можем и чего стоим. Впереди три дня. Подготавливай ребят, чтобы не взроптали, когда я распоряжусь как командир. В такой полет должны идти добровольцы!
Мы сделали этот полет, и он ознаменовал переход нашей полярной зрелости на новую ступень. До сих пор я благодарен судьбе, что в минуты сомнений рядом со мной был единомышленник, человек смелой и благородной души. Об этом полете и многом другом, что ждало на; во второй и третьей зимовках, расскажет другая книга. Поэтому, дорогой читатель, я говорю до свидания, а не прощай…