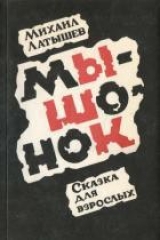
Текст книги "Мышонок"
Автор книги: Михаил Латышев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 11 страниц)
2
Начальника, приезжавшего к Капитолине, звали Андреем Егоровичем. Фамилия его была Кубасов. По роду службы он выявлял предателей, сотрудничавших с фашистами. С Левашовым, однако, у него были особые счеты. Прочих предателей Кубасов не знал лично, а с Левашовым два раза столкнула его судьба.
Первая их встреча состоялась в сарае, в котором немцы содержали пленных. Левашова только-только привели в сарай, а Кубасов провел в нем больше месяца, каждую минуту помышляя о побеге. Утром их, шестерых, заставили вынести из сарая труп незнакомого Кубасову парня. Пятеро из них попытались убежать. Левашов даже попытки не сделал. И, может быть, правильно, если судить с его колокольни: двое из беглецов были убиты полицаями. Трое спасшихся долго скитались по лесам, отощав до невозможности, пока не напоролись на диверсионную группу, переброшенную через линию фронта. К группе они и пристали. Двое из тех троих, чудом вырвавшихся из плена, погибли потом. Совсем молоденький парень погиб, Дима Ситников, и Виктор Алексеевич Егоров погиб, фотограф из небольшого украинского городка – низенький, лысоватый, не верящий ни в черта, ни в бога, но часто с улыбкой повторяющий: «Спаси, Никола-угодник». Порой Кубасов даже думал, что это хорошо, что они погибли. Некрасиво, преступно так думать, но Андрей Егорович думал, и не без оснований – пережитое группой весной сорок третьего года до сих пор страшными кошмарами мучало Кубасова, и он, как пугливый мальчишка, просыпался иногда среди ночи весь в поту.
В первую встречу Андрей Егорович не рассмотрел толком Левашова. Не знал он, конечно, и имени его. Но чем-то лицо Левашова запомнилось Кубасову – когда по воле судьбы состоялась их вторая встреча, он сразу узнал парня, которого пожалел когда-то в сарае, где немцы держали пленных. И вспомнил осенний промозглый день, начатую могилу, которую Левашов копал по приказу здоровенного краснорожего полицая и которая предназначалась парню, труп которого они принесли из сарая. Глаза Левашова были тогда студенисты от страха. Редкая щетина торчала у него на подбородке, отчего казался Левашов испуганным, трясущимся от холода мышонком. Не таким он был во вторую их встречу. О, не таким! За это время он отъелся, пополнел и уже не мышонка напоминал, а перекормленного пса, тем более, что отрастил усы и они наподобие черных клыков свисали с двух сторон его остренького подбородка.
Их группа ночью заняла город С. Бой был коротким – немцы не ожидали нападения. Внезапность обеспечила успех. Но уже к полудню, опомнившись, немцы стянули к С. дополнительные силы, из орудий стали обстреливать весь город без разбора, постепенно окружили его, и с потерями группа стала отходить, однако прорваться не удалось – в развалинах фанерной фабрики засели бойцы группы, прекрасно понимающие, что лучше умереть, чем попадаться в руки врагам: меньше мучений, больше чести. Их брали измором. Кончились патроны. Погибли командир и комиссар. За старшего остался Кубасов.
Взять их хотели обязательно живыми – кому-то из немецкого командования захотелось посмотреть на сумасшедших, ринувшихся очертя голову в бессмысленную авантюру. Неужели они надеялись удержать С.? Какой смысл был захватывать город, когда вокруг немецкие дивизии? Зачем все это? Интересно посмотреть на безумцев. На храбрых безумцев – только храбрые могли целую неделю продержаться в развалинах фанерной фабрики, изнывая от жажды и голода.
Из последнего убежища, из подвала, где когда-то была котельная, их выводили по одному, и сразу они оказывались окруженными полицаями, которые пинали их, подталкивали в спину, с издевкой спрашивали: «Как дела, герои?» В сторонке, опершись спиной о дерево, стоял немецкий генерал. Кубасов смотрел на него, выходя из подвала. В этом было что-то почетное – что генерал прибыл смотреть на пленение шестнадцати оборванных мужчин. Он словно бы отдавал дань их геройству, может быть, сам того не осознавая.
Андрея Егоровича при выходе из подвала встретил Левашов. Кубасов, завидя его и сразу узнав, едва не спросил: «Как поживаешь?» Презрение пришло потом. И ненависть пришла потом. В первый же момент Андрею Егоровичу хотелось просто, по-человечески спросить Левашова: «Как поживаешь?» И, может быть, он бы и спросил, но Левашов больно ткнул его между лопаток, Кубасов споткнулся, едва не упал, но, закусив губу, изо всех сил удержался на ногах: не хотелось смешным выглядеть в глазах генерала и этих подонков, охранявших, как собаки, своих же, русских.
Стояла поздняя весна – снег уже растаял, зелень еще не появилась. После сумрака подвала глаза долго не могли привыкнуть к голубому весеннему свету, который с особой рельефностью высветил переплетение веток нескольких сиротливых деревьев во дворе разрушенной фабрики, обломки кирпичей, грудящихся вокруг, холеное лицо генерала с резкими складками от носа к подбородку, холуйские лица полицаев. Кубасов скрестил руки за спиной и постарался принять понезависимей позу. Кажется, ему это удалось, потому что генерал, медленно обводящий взглядом пленных, надолго задержался на Андрее Егоровиче. Он негромко что-то сказал стоящим у него за спиной и рядом с ним офицерам. Один из них по-русски, с акцентом, обратился к Кубасову:
– Кто ваш командир?
– Погиб, – ответили за Андрея Егоровича откуда-то сбоку.
Спрашивавший недовольно глянул в ту сторону:
– Я обращаюсь не к вам.
– Ты командир? – повернулся он к Кубасову. – Ты. По глазам видно, что привык командовать. Объяви своим бандитам, чтобы возвращались в подвал. Мы замуруем вас там.
Только сейчас Андрей Егорович заметил в дальнем конце двора груженные новым кирпичом телеги. Кто-то из бойцов группы, отчаянно выматерившись, бросился на полицая, который стоял у него за спиной, попытался вырвать у того винтовку, но, обессиленный, был повержен на землю, из разбитой его губы побежала кровь.
Кубасов молча, по-прежнему держа скрещенные руки за спиной, направился к черному зеву, откуда недавно вышел на свет. За ним последовали бойцы.
– Ребята, – сказал кто-то, – давайте споем. А? Пусть бесятся, суки.
Андрей Егорович первый затянул: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой». Почему именно эту песню? Он не думал. Так получилось. Когда кто-то предложил спеть, Кубасов почти механически набрал полную грудь воздуха и запел. И чем дальше он пел, чем больше голосов вплеталось в песню, тем легче становилось измученное тело Андрея Егоровича, словно бы воспарив под темный, покрытый толстым слоем плесени свод подвала. Свет едва проникал сюда. Вскоре он совсем исчез – несколько полицаев в три ряда – чтоб надежнее было – клали кирпичи, замуровывая лаз в подвал. А они продолжали петь. Наверное, тем, что остались наверху, на весеннем голубом свету, никогда не забыть этого пения, думал Кубасов. Наверное, в смертную минуту они вспомнят как мы пели, приговоренные к долгой и мучительной смерти.
Среди тех, кто замуровывал вход в подвал, был Левашов.
– Эй, командир, – прошипел он, – слышь? Мы с тобой не встречались?
– Спасти хочешь? – усмехнулся Андрей Егорович.
– Встречались, – хихикнул Левашов, воровато оглядываясь. – Помнишь где? Я вот живу, а ты загибайся. Если нравится. Хочешь пристрелю? Чтобы меньше мучался. Хочешь?
Андрей Егорович отвернулся.
Света в подвале становилось все меньше и меньше. Голубые блики лежали на лбах и скулах поющих, а все остальное залила чернота.
То, что было дальше, вот это и снилось Андрей Егоровичу в кошмарах. Геройство ведь не в том, чтобы просто умереть за идею. Геройство в том, чтобы умереть достойно. Трудно сохранить достоинство в черном каменном мешке, когда утеряны очертания пространства и времени, когда исчезли человеческие лица и только голоса, только голоса остались от людей, перемещающиеся из одной точки подвала в другую.
Шестнадцать мужчин вроде бы неплохо знали друг друга, но, оказалось, почти и не знали. Здесь они сбросили с себя маски, в которых ходили, и рядом со смертью и мучением стали до конца откровенными. В долгих рассказах о былом проводили они сначала время, натужно веселясь. Стало не хватать воздуха. Саша Южин, которого Кубасов знал как храброго солдата, задыхаясь, говорил какую-то бессмыслицу, и сам смеялся ей, и требовал, чтобы все смеялись вместе с ним, и неподдельная обида звучала в его голосе: почему никто не смеется его шуткам, зачем утешают его, уговаривают помолчать? Да не сошел он с ума, не сошел! Просто ему очень весело. Неужели они не понимают, как это весело: сидеть среди черноты и знать, что дороги отсюда нет и не будет?
Город С. освободили через пять дней. Когда взломали сооруженную полицаями стенку, только четверо подавали признаки жизни, хотя были без памяти – среди них Кубасов.
Годы и тревоги, постоянная занятость, переезды с места на место вытеснили из памяти Андрея Егоровича встречи с Левашовым – не до того было, и покрупнее дичь приходилось вылавливать, потерявшуюся в суматохе и великих переселениях первых послевоенных лет. Но когда участковый описал ему, как выглядел некий Шилов, Кубасов подумал: «Это тот… Точно, он!» запросил документы, порылся в них и, встречаясь с Ванькой Зайцевым, уже знал кое-что о Левашове. После этого уже не мог успокоиться Андрей Егорович, пока Левашов разгуливал на свободе, скрываясь где-то, считая, что в жизни не бывает расплаты за совершенное зло, что жизнь слепа и глупа и позволяет подлецам спокойно кончить отпущенные им дни, но требуя платы за слезы и смерть, которые они посеяли. Чем бы ни занимался Кубасов в последнее время, он постоянно помнил о Левашове. Он и в Березовку еще раз съездил, узнал об исчезновении Ваньки и девчонки, поверил, как и все, в легенду об их счастливой любви, поговорил с бывшей женой Ваньки, но ничего нового не выведал. Однако ни на секунду Андрей Егорович не засомневался, что встретит, обязательно встретит Левашова! Он, а не кто-нибудь другой заставит Левашова узнать цену трусости, предательству, смертям безвинных людей.
3
Летом пятьдесят девятого года он начал новую жизнь – в который уже раз. Давнее и недавнее прошлое, было ли оно на самом деле или только приснилось ему? Было или приснилось? Если приснилось, то что он увидит проснувшись – какая светлая и чистая жизнь ожидает его? А если оно было, неужели нельзя как-нибудь навсегда избавиться от него? Неужели нет никакого способа избавиться?
В новой своей жизни он боялся замкнутых пространств, предпочитая ночевать в лесу, на скамейке в привокзальном скверике, где белел над кустами желтой акации гипсовый пионер с горном, или, в крайнем случае, на продуваемых ветром платформах, забившись между ящиками или прикрытыми брезентом машинами. Он и на одном месте в новой своей жизни не мог – никак не мог! – долго находиться, и переносился с одной небольшой станции на другую, старательно избегая больших станций и городов; бывало, не стыдясь, стоял с протянутой рукой; время от времени нанимался разгружать вагоны, но дольше двух недель на одном месте усидеть не мог, и едва сумерками подергивалась округа, прыгал на платформу (он знал заранее, какой поезд куда пойдет, не зря же околачивался на разгрузке), забивался в угол, жевал заранее припасенную еду, и несся, несся, несся в неизвестность.
Временами он отпускал бороду, сразу из-за нее старея лет на десять, не меньше. Потрепанная его одежда да как-то мгновенно поблекшие глаза, которые постоянно слезились, вызывали невольную жалость. Именно поэтому он начал просить милостыню, притворяясь будто нем. Он стоял где-нибудь на людном месте, тянул перед собой грязную ладонь, что-то невнятно мычал, успевая настороженно зыркать по сторонам: опасна, очень опасна, куда опаснее, чем раньше, была его жизнь – новая, проклятая, так не похожая на прежние, которые теперь, с расстояния, казались ему прекрасными-распрекрасными. Особенно та, где он был уверенным и сильным, в которой наделен был властью распоряжаться чужими жизнями. И та, в которой он был богом – странная, нереальная, но переполненная до краев благостным покоем.
Немота все больше и больше становилась его естественным состоянием. На людях он никогда ничего не говорил, и лишь оставшись наедине с собой разражался длинными монологами, в которых проклинал судьбу, давние свои жизни, но ни разу не осудил себя: а за что, чем он виноват, что жизнь его так сложилась, а не иначе? Наверное, только благодаря этим монологам он не онемел бесповоротно.
Все документы он выбросил. Он не был больше ни Левашовым, ни Шиловым. Если его задержат, решил он, он притворится, что не знает ни имени своего, ни фамилии, что он и говорить не умеет и почти не понимает, о чем говорят ему. Нет-нет, он не Левашов! Кто такой, этот Левашов? Убийца? Сволочь? Предатель самого святого, что может быть у человека? Не знает он Левашова! И знать не желает! И Шилова не знает: ни того, который погиб в уральском областном центре под колесами поезда, ни того, который пятнадцать лет жил под именем погибшего тихо и мирно, пока хитроумная судьба не столкнула его с матерью Насти. Насти? Какой такой Насти? Не знает он Насти! Не было в его жизни знакомых с этим именем! Его путают с кем-то. Он – только он: немой, несчастный, калека, заросший дремучей бородой, давно не мывший ни лица, ни тела, отчего и человеком пахнуть престал, а пахнет почти так же, как пахнут мыши.
Время от времени он явственно видел себя шагающим по горячей летней пыли. Вилась полевая дорога, виднелись впереди избы, над которыми возвышались старые дуплистые деревья, и слева, по точно такой же дороге, как его, испуганно гнала корову домой какая-то девчонка. Страшная грозовая туча, зачернив округу, висела и над его дорогой, и над дорогой девчонки. Хлынул дождь. Поначалу только редкие капли падали на пыль, оставляя после себя темные круглые пятнышки, но вскоре непреодолимая стена воды выросла перед ним. Он мгновенно промок насквозь. Девчонка посмотрела в его сторону. Над ее дорогой дождь не шел – граница дождя проходила по середине поля, и созревающая пшеница радостно желтела возле ее дороги и сумрачно склонилась под ударами тяжелых дождинок возле его. С ее половины поля ярко сверкали голубые головки васильков, на его половине васильки были черными, словно бы обуглившимися.
– Вишь, как; на той дороге – грешник, – сказала девчонка сама себе, но он без труда услышал ее голос, будто девчонка шагала рядом.
Ее слова больно кольнули. Он неприязненно глянул в ее сторону. Почти с ненавистью глянул – почему его записали в грешники? И много раз он с недобрым выражением смотрел на девчонку – каждый раз, когда видел себя шагающим по горячей летней пыли, дышал густыми запахами приближающегося ливня, и въявь ощущал, как все холодней и холодней становилась пыль под ступнями его ног, а сами ноги покрывались грязью, в которую превратилась размокшая от обильного дождя пыль.
Девчонка была красивой. Он хотел бы иначе смотреть на нее, но почему над ее дорогой – солнце, а он вынужден идти под дождем? Почему такая несправедливость? Чем девчонка лучше его?
Настойчивость, с какою повторялось это шагание сквозь тугие нити ливня, могла бы подтолкнуть его на какие-нибудь далеко идущие выводы, но он уже не способен был делать выводы – сейчас даже больше, чем когда-либо он существовал только в ту секунду, в которую существовал, не подозревая о таинственной способности времени начинаться далеко-далеко Вчера и во веки веков не прерываться Завтра.
Он шел по свой дождливой дороге, наклонившимся корпусом раздвигал в стороны нити дождя и все зыркал на другую дорогу, залитую солнцем. Его обострившийся слух улавливал густой звон оводов над коровой, которую гнала безымянная девчонка. Она тоже время от времени поглядывала на него, и чем дольше смотрела, как он промокал под дождем, тем печальнее становились ее глаза. Из-за этой печали он еще больше ненавидел девчонку.
Туча над головой, казалось, никогда не пройдет. Всякий раз казалось, как только он переживал это. И всякий раз очень резкой была граница, делившая поле между двумя дорогами на радостное золотое и мрачное темно-коричневое, с моментально полегшей пшеницей.
Слова девчонки, набухнув от влаги, противной ватой торчали у него в ушах:
– Вишь, как: на той дороге – грешник.
Он хотел избавиться от этих слов, ковырялся в грязных ушах, но слова звучали, звучали, звучали, и хотя ему казалось порой, что он сумел вытащить из ушей материализовавшиеся звуки, слова все равно звучали, и он тупо смотрел на указательный палец, которым перед этим ковырял в ухе, и ничего не видел на пальце, кроме папиллярных узоров, присущих только ему.
Иногда он преображался: сбривал бороду, долго парился в бане, переодевался в стираный-престираный дешевый костюм и становился обыкновенным пассажиром поезда. В поезде он почему-то не боялся замкнутых пространств, много и спокойно спал, весело беседовал с попутчиками, поражая их знанием географии страны.
В бесконечных странствиях он с удивлением узнал, сколь извилисто и причудливо вьются по стране железные дороги. Для большинства людей существуют только прямые линии, соединяющие знаменитые южные места со столицей или длинная-длинная змейка, протянувшаяся через Урал и Сибирь до Владивостока, а многочисленные ответвления, росточки, побеги железных дорог почти неведомы им. Он, скрывающийся от шумных центров, с радостью пользовался незнаменитыми линиями железных дорог – тихими, со скромными привокзальными площадями, с незаметными деревянными вокзалами, с двумя-тремя пассажирами в залах ожиданий, с узкими, кое-где заросшими травой, путями. Здесь поезда ходили реже и медленнее, подолгу застывали на малюсенькой какой-нибудь станции, где никто из поезда не выходил, и никто в него не садился, где в вагонах ехало человек восемь – десять и они успевали в медленном движении поезда сойтись, разговориться, выложить друг перед другом самое заветное. Он, конечно, не откровенничал. Другая радость, не откровения, привлекала его – он выдумывал себе иную жизнь, не похожую на все, какими ему приходилось довольствоваться перед этим, и какой он жил сейчас.
В этой придуманной от начала до конца жизни он почему-то выдавал себя за мужчину, с которым виделся всего два раза и так давно, так давно, что встречи самому ему казались придуманными. В сарае, где держали военнопленных, в первый раз видел он мужчину. И второй раз – когда мужчину вместе с другими партизанами замуровывали в подвале фанерной фабрики в городе С. Случайным собеседникам он рассказывал, выдавая себя за этого самого мужчину и называя себя Иваном Петровичем Сергеевым (воображение у него с годами потускнело), как их замуровывали в подвале, как они там пели, вызывая у полицаев и немцев острый приступ ненависти и испуга, как чудом спасся он, голыми руками вырыв подкоп, как они напали потом на немецкую комендатуру и обезоружили немцев, и ушли в лес, перед этим расстреляв всех полицаев, продажных тварей. Скорее всего он сошел бы с ума, не будь у него возможности придумать себе жизнь, которую он не прожил и уже, разумеется, не проживет.
На одной из тихих станций, блуждая бесцельно вокруг в ожидании поезда, натолкнулся он на группу рисующих детей. Седой бородатый старик, сидевший отдельно от детей на скамейке, был, видимо, их учителем. На миг ему показалось, что он старика знает. Откуда-то из глубин памяти даже появилось имя, которое вроде бы этот старик носит: Владимир Андреевич. Он внимательно пригляделся к старику: тот или не тот? Нет, не тот. Тому старику намного больше лет было, да и приезжал он куда-то из самой Москвы. И поэтому вряд ли мог оказаться на этой тихой станции. Успокоившись, что старик не тот, он подошел к детям, с подобострастной улыбкой попросил, чтобы кто-нибудь из них позволил ему порисовать. Одна из девчонок уступила ему место возле своего этюдника. Он, волнуясь, взял в руки мягкую колонковую кисть, обмакнул ее в краску, посмотрел на красное кирпичное здание станции, которое дети рисовали, и понял, что ничего у него не получится, он не сможет правильно подобрать цвет, не сумеет нанести краску на бумагу, а если и нанесет, то мазок его будет бессмысленным и беспомощным, похожий на те, которые дети называют «калякой-малякой». Ему понадобилось несколько секунд, чтобы осознать это. А ведь, если откровенно, то зачем он просил, чтобы ему позволили порисовать? Хотел поразить детей и их учителя. И мы, дескать, бродяги, не лыком шиты, и мы обучены тонкостям воскрешения Жизни на мертвой бумаге мертвыми красками.
Долго-долго он потом ругал себя за этот поступок, до конца так и не поняв, чем и почему вывела его из себя попытка на какой-то тихой станции щегольнуть умением рисовать. Ведь когда-то он умел рисовать… Умел! И не хуже, чем эти наряженные дети и их учитель.
В дебрях дремучего страха, с которым он существовал бок о бок, было у него одно светлое воспоминание – как впервые в жизни увидел море. Видел-то он его из окна поезда, минут всего пять от силы, но этого хватило, чтобы при одном лишь воспоминании о розовом плеске воды, об огромном раскаленном круге солнца, поднимающегося в фиолетовой дымке над водой, о нескольких чайках, которые сопровождали поезд километров десять, ему становилось легко и весело. Он поставил перед собой цель: непременно увидеть море вблизи, полежать возле него на песке, походить по кромке прибоя. Он мог, конечно, немедленно осуществить это, сойдя на ближайшей станции, он и собирался так поступить, однако, заметил у входа на вокзал двух смеющихся над чем-то милиционеров, испугался и поехал дальше, решив обязательно вернуться сюда. Непременно. Чего бы это ни стоило.
Для осуществления задуманного ему нужны были деньги. Жить у моря – и побираться? Нет, нет! У моря необходимо проводить дни в блаженном бездействии, наслаждаясь морем и солнцем, блеском воды и медленным покачиванием тяжелой листвы экзотических южных растений. Для заработков он отправился на север, решив устроиться в каком-нибудь затерянном среди тайги леспромхозе то ли грузчиком, то ли лесорубом – мало ли работы на севере? А деньги там зарабатывают немалые, знал он по рассказам попутчиков: как-то ехал в компании лесорубов, щедро угощавших его и не ограничивающих себя ни в чем. Но тут судьба сделала еще один зигзаг, и свидание с морем отодвинулось на задний план.
Не думал он, не гадал увидеть когда-нибудь Тоньку. Увидел! И поначалу не поверил глазам, потом сердце его взволнованно дернулось, хотя уже минуту спустя он недоумевал: чем взволнован? почему обрадовался? что общего у него и Тоньки? Годы и годы назад разошлись их дороги. Они давно чужаки друг другу. Он ее узнал, а узнает ли она его? Ну а если и узнает, как отзовется на внезапное появление выходца с того света? Наверняка Тонька считает его мертвым, ведь он тоже записал ее в покойницы.
Поезд подходил к какой-то станции, замедляя ход. Тонька стояла у переезда с желтым флажком в руках. У ее ног лежал толстый облезлый пес – рыжий, как и листва кустов, росших за Тонькиной спиной. Увидев Тоньку, он непроизвольно потянулся к ней, даже открыл рот, чтобы сказать что-то (что?), но сразу же осадил себя. Тонька его не заметила. Бездумно и слепо смотрела она на проносящиеся мимо вагоны. Наверное, не один десяток поездов проходит возле переезда за сутки – надоели. Что напрасно пялить на них глаза?
Поезд изогнулся дугой, следуя за изгибом рельсов, и он еще минут пять мог видеть – сбоку – толстую женщину с желтым флажком в руке. Именно это прежде всего бросилось ему в глаза: желтый флажок и тонькина толщина – не такой она была раньше, совсем, совсем не такой!
– Сколько стоим? – спросил он у проводницы.
– Двенадцать минут.
– Двенадцать… – пожевал он губы. – Жалко, не час.
– Много хочешь, – засмеялась проводница, – что в этой дыре делать целый час?
– У меня дело есть.
Он спустился на перрон, несколько раз прошелся взад-вперед вдоль вагона, в котором ехал, и даже со стороны видно было: человек чем-то сильно озабочен. Так оно и было. Он решал: сойти или не сойти на этой станции? Напомнить Тоньке о себе или не стоит? Затем, повинуясь скорее невнятным внутренним порывам, чем голосу разума, он ворвался в вагон, схватил свой худенький рюкзак и уже на ходу, оттолкнув в сторону опешившую проводницу, выпрыгнул на перрон.
– Чокнулся? – крикнула ему в спину проводница. – Ты куда?
Он с улыбкой помахал ей левой рукой, правой держа на весу рюкзак.
– Прыгай! – свесилась проводница, едва не вываливаясь из тамбура. – Успеешь! Ты че? Псих?
Он по-прежнему улыбался и махал рукой, а потом, когда последний вагон пронесся мимо, вдруг сделал несколько шагов вслед за поездом, однако остановился: глупо бежать, один черт не догонишь. Остался он на этой станции – и ладно. С первой женой встретится. А приглянется – и навсегда осядет тут. Почему бы нет? Тонька вон спокойно живет. И он, может быть, жить станет. Посмотрим, как судьба повернется. Море не убежит, к нему и потом можно попасть.
На вокзале он с привычной настороженностью зыркнул по сторонам. Кажется, никакой опасности. Вокзал был пуст, неуютен, возле буфета стояли два солдата в старательно начищенных сапогах и пили пиво. «Бедняги, – усмехнулся он, – на водку денег не хватает». Но у самого у него тоже денег не было, и он выпил даже не пиво, а стакан бледно-желтой теплой газировки.
«Километра два до переезда? – прикидывал он, направляясь на северо-запад, откуда недавно приехал. – Да, не больше. Мигом дошагаю. Через полчасика обнимем Тонечку. Но раздалась она! Как на дрожжах. От хорошей жизни, видать. Не мучается, вроде меня».
Ему стало обидно. Он еще не знал, как жила Тонька эти годы – может быть, хуже его, – но уже зло скрипел зубами, заранее предвидя раздражение, с каким будет говорить с ней. Правда, минуты три спустя он спросил себя: «Ты чего, друг ситный? Охренел? По-человечески поговори с ней, по-человечески. Но исключено, что пригреет тебя. Вдвоем будете дни коротать. Возле сына. Ему сколько сейчас? Восемнадцать? Здоровенный мужик».
Тонька сидела в будке. Перед ней на столе лежали несколько помидоров, аккуратно разрезанный на ломтики кусок сала, была рассыпана на мятом клочке газеты соль. В руках Тонька держала круглую буханку, отщипывая прямо от нее и отправляя в рот ноздреватый хлеб. Дверь в будку была открыта настежь, и он, шагов пять не доходя до будки, уже увидел Тоньку, с жадностью поглощающую еду. Челюсти ее двигались быстро-быстро. Как у стрекозы. И, как давным-давно когда-то, румянец горел на посеревших тонькиных щеках.
Она испугалась, заметив его. Он же, наоборот, ни капли страха не испытывал – возможно, его собственный страх, под пятой которого он так долго жил, неведомым образом перелился в Тоньку.
– Вася? Откуда? – прошептала она.
Поначалу он не понял, что обращаются к нему – собственное имя он не слышал много-много лет. Вот разве в Березовке недавно… Но ведь этого не было! Не было Настиной матери, не было избы деда Ознобина и самого деда Ознобина не было – они приснились ему, и надо поскорее забыть этот кошмарный сон. Так что впервые за много лет он в реальности услышал свое имя. Оказывается, его зовут Василием, а не Григорием или Иваном Петровичем Сергеевым. Вот такие дела: его, оказывается, зовут Василием. Надо запомнить, и на это имя откликаться, а не на какое-нибудь другое – по крайней мере, пока общается с Тонькой.
– Точно, – ухмыльнулся он, – ты не ошиблась: Вася. Проезжал, понимаешь, мимо, гляжу – Тонечка! Командует поездами, куда им следовать.
– Ты уходи, уходи, – замахала она руками. – Христом-богом прошу. Я не видела тебя, а ты меня. Уходи.
– Поцелуемся давай, что ли. Не чужие все же люди. Мужем и женой считались.
– Уходи, уходи…
Тонька до смерти испугалась его, и только одно повторяла, умоляюще глядя на него:
– Уходи… Уходи… Уходи…
Он присел к столу, нахально взял помидор, надкусил, обмакнул в соль и с притворным удовольствием начал есть. Из помидора брызнул сок, попав на соль, которая вмиг намокла. Желтое помидорное семячко, окруженное соком, прилипло к клочку газеты. Он с усмешкой посмотрел на семячко и щелчком сбил на пол.
– Никуда я не уйду, – сказал он. – Мне тут почему-то нравится. А ты чего боишься? Муж, что ли, должен прийти?
– Нет, нет… Уходи, уходи…
– Ну чего заладила: уходи. Других слов не знаешь?
– Я совсем, совсем забыла все, что было тогда. Я думала, никого в живых не осталось, кто помнил бы. Ты ведь погиб. А ты живой. Я думала, никто не напомнит. Я думала…
– Плевать, что ты там думала. Ясно? Рассказывай лучше, как сама спаслась, как теперь живешь. Муж-то прийти сюда не должен?
– Нет, нет. Он у меня инвалид, к постели прикован.
– А сын?
– Какой сын?
– Ну наш… Или Мишки Митрофанова… Я уж не знаю, чей он на самом деле.
– Умер он, Вася. Еще в том году. Вспомни, какая жизнь была. Трудная. Не уберегла.
– Понятно…
Он вздохнул. Сделал он это неискренне, потому что за все годы, что не виделся с Тонькой, не больше трех раз вспоминал ее и сына. Что ему пащенок, неизвестно от кого зачатый? Но момент требовал, чтобы он как-нибудь выразил свое отношение к сообщенному Тонькой, вот он и вздохнул.
Потом Тонька, беспрерывно всхлипывая, несколько раз выбегая из будки, чтобы проводить проносящийся мимо поезд, рассказала о своей жизни. Событиями ее жизнь была небогата. Поначалу Тонька двигалась на запад вслед за отступающими немцами, потом где-то в Венгрии внезапно оказалась в тылу наших войск. Потом выдала себя за угнанную в плен. Потом при госпитале работала. Там и познакомилась с калекой, за которого вышла замуж. Все эти годы живет в здешних краях. Раньше жили в деревне, у них там и дом сохранился, теперь вот в поселок перебрались – тут лучше: и работа не такая пыльная, и аптека есть, чтобы мужу лекарства покупать, и с продуктами полегче.
– Дом, говоришь, в деревне есть? – спросил он. – Далеко отсюда?
– Не очень. Но глушь там.
– Это то, что мне надо. Хочешь, из мужа превращусь в брата? Ты своему калеке про себя многое, наверное, наплела. И про брата, уверен. А как же без брата? Погиб он у тебя, небось, или без вести пропал? Угадал?
Тонька безвольно кивнула.
– Ну так радуйся: жив братец, перед тобой сидит. Бывают в жизни чудеса. Как теперь моя фамилия, как зовут меня, Тонечка?
С прежнем безволием Тонька ответила:
– Абакумов. Сергей Сергеевич.
– Это твоя фамилия – Абакумова? А я, знаешь, напрочь забыл. Ну и дела! – Он поражался своей забывчивости, словно ничего более важного, чем девичья фамилия Тоньки, отродясь не забывал.








