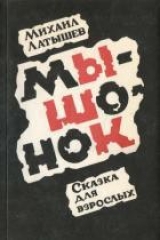
Текст книги "Мышонок"
Автор книги: Михаил Латышев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц)
2
Природа не замечала, какая боль разлита вокруг. Ее не волновала судьба мужчины, пробирающегося украдкой мимо деревень и сел, обходящего болота и города, засыпающего в стогах, брошенных хозяевами без присмотра на лесных полянах. Природа жила своей напряженной жизнью – завершался еще один оборот ее колеса, пора было отдохнуть всему: деревьям и травам, муравьям и мухам, медведям и полям, с великим трудом отвоеванным человеком у леса. И еще одна тягостная забота была у природы: с замиранием следить за борьбой не народов и стран, а двух разных подходов к самому сокровенному и главному – смыслу жизни. И что, если помнить об этой борьбе, значила судьба какого-то слабого мужчины, считающего, что в противоборстве стихий прав он, выбравший нейтралитет? Он заблуждается, знала природа. И расплатится за ошибку. Какой ценой? Это для природы не имело значения. Куда важнее и насущнее было ей знать: какая точка зрения на смысл жизни победит, по какому руслу жизнь устремится дальше?
Осенние леса поеживались от холода. По утрам стеклянели лужи и бесчисленные меленькие ручьи. Небо стало прозрачней и выше, и яснее смотрели с высоты на происходящее внизу звезды. Смотрели с волнением и тревогой, с какими, может быть, никогда раньше не смотрели. Стоило Левашову поднять глаза к ночному небу, и взор его туманился. Тот свет, что струился сверху, переполнял Левашова трепетом и волнением. Он искал у звезд поддержки, одобрения или осуждения своих поступков. Звезды для Левашова в эту осень стали тем, чем для других были всегда – предметом поклонения. Он смотрел на них, спрашивал глазами совета, но они струили вниз свет и молчали, молчали, молчали. И не было силы, способной заставить их заговорить.
От холода (особенно по утрам) стволы деревьев казались темно-синими, словно под корой у них за ночь скапливалась густая смола тьмы. Редкие листья, сохранившие летнюю зелень, тоже казались темно-синими, будто в их прожилках струилась ночная темень. Зато тронутые желтизной и краснотой листья весело светились, оттененные сумрачными стволами и наполовину оголенными кронами. Кое-где под кустами Левашов находил поздние, чудом сохранившиеся грибы. Несколько раз он жарил над костром сыроежки, нанизав их на тонкие прутья. Костер он разводил небольшой, чтобы не особенно заметен был дым, но и невысокое пламя, трещавшее в хворосте, веселило и успокаивало измотанного до предела Левашова.
Еще в пути он решил, что в родную избу постучится ночью. А если окажется, что пришел к деревне днем, ничего, и это не страшно, можно пересидеть в конюшне за деревней – вряд ли там сейчас стоят кони. При такой-то заварухе…
У деревни он оказался в середине дня. Прячась за оголенными кустами, часто высовывая голову из-за них, чтобы проверить не показалась ли где-нибудь человеческая фигура, добежал до конюшни. Она была пуста. Пахло сухим навозом и прошлогодним перепревшим сеном. Он споро забрался на чердак – не привыкать. Сколько раз они гоняли в этой конюшне воробьев! Сколько раз залезали на чердак, откуда вся деревня была на виду!
Первым делом он, запыхавшийся от волнения, привольно раскинулся на пыльных остатках соломы, которой обычно на зиму забивался весь чердак. Затем на коленях подполз к малюсенькому, пыльному, как и солома, окошку, хотел открыть, но сердце его взволнованно тукало, руки тряслись, и он решил сначала отдохнуть, успокоиться, прийти в себя.
Он натаскал к окошку побольше соломы и растянулся на ней, прислушиваясь к звукам, проникающим на чердак: переругивались собаки, внезапно заревел мотор мотоцикла, суматошно закричали куры, испугавшись этого рева, чирикали на крыше конюшни воробьи. Левашов удивился, до чего эти звуки походили на звуки мирных дней. Вот разве мотоцикл… Но он уже стих, и на чердаке слышно было только чириканье воробьев да лай собак. И еще кто-то закричал, как в мирные дни, зовя, видимо, сына домой: «Лешка-а-а!» И через полминуты снова: «Лешка-а-а!». Левашов счастливо засмеялся – он дома, дома, черт возьми, ничто теперь ему не страшно!
Запахи, окружавшие Левашова, тоже были привычны и знакомы. Да, сколько раз бывал он раньше на этом чердаке, прячась с друзьями. И сколько раз гоняли они по конюшне воробьев, приноровившихся клевать овес, которым кормили лошадей! Они кричали, свистели, размахивали кто – сломанной веткой березы, кто – сброшенной рубахой, и воробьи испуганно носились из конца в конец по конюшне, уставали, пробовали присесть, чтобы отдохнуть, но крик и свист срывал их с места, и они летели дальше, пока не падали обессилев, чуть ли не в руки. И как тогда колотились малюсенькие воробьиные сердца! Как жалостливо смотрели бусинки их глаз! Левашов снова счастливо засмеялся – он дома, дома, черт возьми, несмотря на все, что пришлось в последнее время пережить!
Он открыл окно, и легкий волглый ветерок ворвался на чердак, принеся с собой еще больше звуков, забив устоявшийся запах навоза и прелой соломы, пыльной паутины и потресканной старой кожи – на чердаке была свалена пришедшая в негодность упряжь. С волнением Левашов нашел глазами крышу своей избы. Из трубы поднимался тоненький столбик дыма. Слезы душили Левашова, когда смотрел он на крышу, на дым, на высокую березу перед избой, под которой стояла скамейка: вечерами возле нее собирались соседи и долго-долго длились разговоры, до тех пор, пока чернильная мгла не заливала округу.
Потом Левашов перевел взгляд на соседнюю избу. Она была видна лучше. На крыльце кто-то стоял. «Настя!» – узнал Левашов. «Настя!» – хотел закричать он. «Настя, я здесь! Живой!» – прошептал он. И Настя, словно услышав его шепот, настороженно прислушалась к чему-то.
Слезы уже бежали по щекам Левашова, а он не замечал их, смотрел и смотрел на Настю, подвластный одному желанию: пусть подольше стоит на крыльце, пусть дольше не уходит, пусть даст истосковавшемуся Левашову насмотреться на себя.
Настя сошла с крыльца и направилась в сторону невысокого забора, разделявшего два двора: их и левашовский.
«К нам пошла… К нам… Почувствовала, что я вернулся… Ей-богу, почувствовала…»
Он отодвинулся от окна. Снова лег на солому. Под ухом у него, будто давний-давний летний ветерок, что-то тихо шелестело в измятых стеблях соломы. Шелестело и звенело, и солома золотилась, освещенная робким светом, падающим на чердак сквозь открытое окно, и плыл над лежащим Левашовым запах родной деревни, принесенный легким осенним ветром, даже не ветром, а движением чистого воздуха, изгоняющего с чердака запах навоза, прели, пыльной паутины и старой, никому не нужной упряжи.
Зарядил меленький дождь. Капли изредка залетали на чердак, падали на лицо Левашова, однако он продолжал лежать с закрытыми глазами, не двигаясь, не замечая капель. Вернее, он их замечал, но они не раздражали его, а, наоборот, веселили. Ему было приятно прикосновение холодных острых иголочек к коже. Одна из капель упала ему на кончик носа, другая опустилась на левое веко. Левашов поневоле расплылся в улыбке.
Голод напомнил о себе – последний раз ел Левашов вчера вечером. Вещмешок был пустым. А в животе, как назло, поднялся бурлеж. Кишки скрутило. В желудке что-то дергалось, вызывая несильную боль.
«Ничего, скоро поедим… Мамка накормит…»
Левашов выглянул в окно. Метрах в двадцати от конюшни стояли два немецких солдата в зеленоватых накидках. Один из них, высокий, с выпирающим кадыком, держал в руках горящую зажигалку, плечом пытаясь заслонить ее от ветра, а другой со смехом тянулся сигаретой к подрагивающему огоньку. С первого раза прикурить ему не удалось. Он раздраженно сказал что-то высокому, и уже тот засмеялся, снова затеплив небольшой густо-синий огонек с желтыми разводами на острие пламени.
Эти два солдата, такие чужие на фоне родной деревни Левашова, не вызывали у него ни злобы, ни ненависти – слишком обыкновенным делом занимались они, слишком по-человечески. Не верилось, что они способны убивать, и не верилось, что их надо убивать.
Солдаты пошли дальше, в сторону деревни, а Левашов снова нашел глазами сначала крышу своей избы, затем – крыльцо Настиного дома. Дым над их избой пропал. Насти тоже не было на крыльце. Зато Левашов заметил дядьку Сергея Кудрявцева, тащившего огромную связку соломы к себе во двор.
«Другая власть, другие законы… Колхозную солому тащит… Хозяйственный…» – усмехнулся Левашов и почему-то некстати вспомнил, что живет Кудрявцев один, что несколько раз заводил разговоры с матерью о свадьбе-женитьбе, но та отказала – у нее сын, ей о сыне надо заботиться, а не о чужом мужике.
Левашов прикрыл окошко, потому что из-за дождя стало прохладно, и опять растянулся на соломе.
Словно благодаря дождю многократно усиленные, знакомые запахи волновали и дразнили Левашова. Ему показалось, что остро запахло золотистым льняным маслом, в которое Владимир Андреевич окунал кисти, работая. Да и неповторимый запах самих красок, казалось Левашову, проник откуда-то на пыльный чердак. И в появлении этих (таких мирных) запахов почудилась Левашову некая многозначительность: раз в хаосе и сумятице происходящего вокруг сумел удержаться мирный запах льняного масла и красок, то, может быть, и ему самому, хранящему в памяти этот запах, удастся не потеряться в хаосе и сумятице. В общем-то, никакой связи не было, если разобраться, между настойчивым желанием Левашова выжить и этими неведомо откуда появившимися на чердаке запахами льняного масла и красок, но Левашов, кажется, уже терял способность рассуждать связно. По крайней мере, сейчас, лежа на соломе, он совсем не походил на того парнишку, который постоянно крутился возле заезжего художника, зачарованный легкостью, с какой Владимир Андреевич смешивал краски и мелкими быстрыми мазками наносил их на холст, наклеенный на картон. Он и сам, измученный и вроде как почерневший в последние дни, с трудом верил, что тоже умеет оживлять окружающее – не так легко и быстро, как Владимир Андреевич, но все-таки умеет: уроки не прошли даром, хотя Репиным, похоже, Ваське Левашову никогда не стать.
Долго Левашов боролся с сонливостью, однако усталость брала свое, да и нудное шуршание дождинок по крыше конюшни, оно тоже навевало сон. Перед тем как заснуть, Левашов думал почему-то о Владимире Андреевиче, вспоминал почему-то как первый раз, прячась за изгородью, наблюдал за ним, рисующим на околице луг, речку, темнеющий невдалеке лес. Было тогда Левашову лет двенадцать. Солнце сияло вокруг. И разве представить можно было, что скользнет он когда-нибудь мышонком в непроходимые дебри трав, что заберется когда-нибудь на этот чердак, чтобы слушать нудное шуршание дождинок по крыше и не знать: жизнь или смерть ждет его впереди?
Дождь зарядил основательно – ночью, когда Левашов выбрался из конюшни, он продолжал сыпать на землю, отчего та стала скользкой. Накрытая хмурым небом, деревня спала. Ни огонька, ни звука. Даже собаки на время притихли, спрятавшись от противного мелкого дождя. Несколько раз Левашов, поскользнувшись, падал. Ладони его стали грязными – падая, он опирался ими о землю. По лбу струилась вода, волосы слиплись.
Волнуясь, он тихо постучал в дверь. Громкая немецкая речь заставила Левашова метнуться за угол сарая. Не узнавший его пес, бросился было на него с остервенелым лаем, но в нескольких шагах остановился, виновато виляя хвостом. Даже при бедном ночном свете глаза пса радостно сверкали. «Не узнал, Цыган?» – одними губами произнес Левашов, но пес понял, о чем тот говорит, и начал ласково тыкаться мокрым носом в колени, пытался стать передними лапами на грудь, добродушно повизгивал. Чтобы как-то утихомирить его, пришлось одной рукой цепко ухватиться за ошейник, а другой погладить по голове. Этот жест успокоил Цыгана. Он прилег возле ног Левашова, чутко прислушивающегося к звукам в избе.
Немецкая речь была полной неожиданностью. Все, что намечал Левашов, летело в тартарары. «Видать, на постой определили немчуру проклятую», – с ненавистью подумал он. Надо было уходить, но зажегшийся в избе свет словно бы приковал Левашова к одному месту – он смотрел на красноватый прямоугольник, разрезанный рамой на шесть квадратов и ждал чуда, не иначе. Ведь понятно: сейчас немцы выйдут во двор – и все, конец, он окажется в их лапах.
Скрипнула дверь. Луч фонарика вонзился в темень, заставляя блестеть мокрые жерди забора, мелкие капли дождя, грязь. Луч беспорядочно метался туда-сюда, пока не остановился на хвосте Цыгана, торчащем из-за угла сарая.
Тот, кто вышел с фонариком, крикнул что-то, и вскоре, освещенная неярким светом керосиновой лампы, которую она держала над головой, показалась на крыльце мать. У нее за спиной стояли еще два немца, настороженно сжав в руках автоматы.
– Цыган, цыган, – дрожащим голосом позвала мать. – Цыган, иди сюда… Иди сюда, Цыган…
Не обращая внимания на голос матери, пес встал с земли и опять начал ластиться к Левашову. А тот, ни живой, ни мертвый, все больше и больше вжимался в стену сарая, отталкивая Цыгана, но пес считал, что Левашов заигрывает с ним, и весело ворчал, беззлобно оскалив пасть.
Наконец мать, почувствовав, видимо, кто стоит за углом, неуверенно произнесла:
– Вася… Васенька… Ты?
И Левашов вышел из-за сарая. И сразу луч фонарика ослепил его. И он прикрыл глаза согнутой в локте рукой.
Мать осторожно поставила лампу на крыльцо (а может быть, отдала одному из немцев? – этого Левашов не осознал, он не замечал происходящего вокруг) и бросилась ему навстречу. Немцы закудахтали и побежали следом, выставив вперед автоматы. Мать повисла на Левашове, немцы стали вокруг них, и некоторое время неподвижная эта группа была застывшей, словно отлитой из бронзы или вырубленной из гранита. Печальная осенняя ночь, черным-черна, повисла над нею. Луч фонарика освещал мокрое от дождя лицо Левашова и мокрое от слез лицо матери.
3
Холод не позволял заснуть. Голод требовал, чтобы Левашов все же заснул и, заснув, прогнал прочь унизительное желание немедленно съесть что-нибудь: пусть даже кусок голенища – только бы почувствовать движение жующих челюстей, только бы унять бурчание в животе.
Рядом с Левашовым лежал худющий парень, натянув рваную шинель на самые уши. Глаза парня даже в ночной тьме светились – отрешенно, как и редкие звезды, заглядывающие в сарай через сорванную снарядом крышу.
– Откуда? – шепотом спросил Левашов, чтобы за разговорами забыть холод и голод.
– Что? – не сразу ответил парень.
– Откуда, спрашиваю, родом?
– Неважно. Где был, там теперь меня нет.
– А я тутошний, – вздохнул Левашов. – Представляешь?
– Где в плен попал? И когда!?
Левашов мгновение помялся:
– Дома, понимаешь… Неделю назад…
Парень отодвинулся от него, процедив:
– Шкура.
Говорил он негромко, безо всякого выражения в голосе, но Левашову показалось, что парень с презрением закричал на него и что этот презрительный крик можно только ответным криком забить, и он иступленно закричал, схватив трясущимися руками воротник шинели парня:
– Герой, да? Комсомолец, да? Подыхать тебе нравится? Так и скажи! А я хочу жить! Я не для того родился, чтобы в этом сарае мучиться!
Парень влепил Левашову пощечину. Сделал он это медленно, с какой-то леностью. Может, поэтому Левашов так внезапно оборвал крик и остолбенело уставился на парня. Тот поправил на себе шинель, снова лег, но через секунду поднялся и согнулся в три погибели, зайдясь глубоким кашлем.
– Ты, нервный, а ну ложись! – сказал кто-то Левашову. – И молчи в тряпочку. А то мигом шею сверну.
Парень продолжал кашлять.
Левашов встал и отошел подальше от него, ища свободное место, и в конце концов пристроился в противоположном углу сарая.
Новыми соседями Левашова оказались двое немолодых мужчин. О их возрасте Левашов догадался по голосам – в углу было темнее, сюда не проникал сквозь проломанную крышу рассеянный лунный свет, и Левашов не видел лиц соседей.
– Ты кричал, что ли? – после долгого молчания спросил первый мужчина.
– Он, – ответил за Левашова второй.
– На кого кричал, знаешь? – спросил первый.
– Видать, не знает, – сказал второй, – иначе не кричал бы.
– Ты, Андрей, не защищай его. У него у самого язык, небось, есть.
– Я не защищаю, – смущенно сказал второй мужчина, – но он не знает, что Сенька загибается. Знал бы, молчал бы.
– Слушайте, – возбужденно зашипел Левашов, – вы люди или не люди? Вы мучаетесь или не мучаетесь? Неужели вам не холодно? Неужели вы есть не хотите? Скажите по совести. А? Почему молчите?
Мужчины, действительно, больше не проронили ни слова – то ли из презрения к Левашову, то ли из жалости, то ли потому, что не знали, что ему сказать: они полтора месяца провели в сарае, и куда больше Левашова замерзли да отощали.
Утром парень, на которого кричал Левашов, оказался мертвым. Он лежал на вываленной в грязи соломе, и синие его пальцы (только костяшки были до удивления белы) цепко держали воротник шинели, натянутой на голову до ушей.
Левашов не мог отвести взгляда от тела парня. Он то подходил совсем близко к нему, то удалялся, но глаз не спускал с худой фигуры, обутой в порванные сапоги.
Появились охранники. Один из них, выделявшийся уверенностью движений и голоса, схватил Левашова за плечо и кивнул на мертвеца:
– Бери за ноги…
Потом ткнул пальцем в толпу пленных:
– Ты тоже. И ты… Отощали тут, втроем не справитесь. Ты помоги. И ты.
– А можно мне? Впятером не донесут, – вышел из толпы белобрысый, с выцветшими ресницами мужчина.
– Надоела вонища? Чистым воздухом охота подышать? – захохотал охранник.
Мужчина кивнул.
– Ладно, подсоби, – сказал охранник.
Левашов нес парня, двумя руками обхватив грязный сапог. Его мутило. Вот-вот он мог упасть. Охранник, командовавший ими, заметил это и выматерился, а затем с усмешкой поинтересовался:
– Брезгливый, что ли? Не видел покойничков? Это тебе не пироги мамкины жрать, гражданин любезный.
Молчание Левашова, видимо, разозлило охранника, потому что, когда они принесли тело парня на пустырь за сараем, охранник именно Левашову сунул лопату:
– Копай, брезгливый. А вы, так и быть, – повернулся он к остальным, – отдохните пока.
В мокрую землю лопата входила легко, но Левашов с трудом поднимал ее, облепленную красной глиной. Чтобы отвлечься, он стал думать о том, как неправ был ночью: зря кричал на парня, а парень, может быть, точно такой же, как он сам. Точно-точно такой же, может быть.
Левашов заметил, что думает о парне, как о живом.
И тут раздались выстрелы. Левашов поднял голову. Один из шести, которые принесли тело парня на пустырь, тот, что сам напросился, убегал по пустырю в сторону леса. Вот он скрылся за голыми фиолетовыми кустами. Вот нырнул в ложбинку. Вот показался на лугу, простирающемуся между окраиной городка, на которой стоял их дырявый сарай, и лесом. Он словно бы заговорен был от пуль – охранники часто стреляли, припав на колено, однако, ни одна пуля беглеца не задела. Охранники бросились вдогонку, впопыхах забыв об остальных.
– Такого больше не будет, – хрипло сказал один из них.
Левашов узнал его голос. Это он сочувственно говорил с Левашовым минувшей ночью.
– Спаси, Никола-угодник, – с неуместной сейчас улыбкой произнес другой голос. Он принадлежал лысоватому мужчине. Кажется, до войны и животик был у мужчины.
Левашов остался один. Произошедшее оглушило его. Ноги подкосились, и Левашов опустился на край начатой могилы, с вялым любопытством прислушиваясь к поднявшейся панике. Он понимал, что мог присоединиться к остальным. А почему не сделал этого? Позднее он объяснял себе: они ведь, убежавшие, не позвали его с собой. Может, они заранее сговорились о побеге и не совсем доверяли новичку, каким был для них Левашов.
Вдали, за серой осенней дымкой, стояли дома городка. Отсюда Левашов уходил воевать. Высокая водонапорная башня из красного кирпича была разрушена, и над рваными ее стенами вились галки. Городок настороженно молчал. Не понять было с первого взгляда, как относится он к происходящему вокруг: безропотно смирился со всем или копит силы и гнев для отчаянной борьбы?
Сколько Левашов просидел на краю выкопанной на два штыка могилы, он не знал. Наверное, долго. Пришел он в себя при полной тишине. Огляделся по сторонам, заметил, что охранники тащут по земле еще два трупа.
«Значит, трое живы», – подумал он и стал дальше копать могилу. И откуда у него взялись силы? Он вгонял штык глубоко в землю, легко поднимал лопату почти до уровня плеч и швырял слипшиеся комья далеко в сторону. Он готов был выкопать могилу в четыре человеческих роста – только бы остаться живым!
– Ты мне нравишься, гражданин любезный, – сказал старший охранник. – Признайся, как на духу: жить любишь? Раз любишь, иди к нам. Не прогадаешь. Это тебе я говорю, Мишка Митрофанов.
Снизу вверх смотрел Левашов на сытое лицо старшего охранника. Тот безмятежно улыбался, словно только что не стрелял в людей, словно не лежали рядом три мертвеца, не успевшие остыть.
Внезапно Митрофанов дружелюбно протянул Левашову руку и помог выбраться из могилы. Затем мрачно глянул на подчиненных:
– Копайте! Да не особо старайтесь. Присыпать бы только, и хватит.
Потом он опять обратился к Левашову:
– Не пойму: что мне в тебе нравится? Тебя как зовут?
– Василием.
– Советую, Вася, пошуршать шариками: что лучше – свинская жизнь или нормальная? А, гражданин любезный? Молчишь? Цену себе набиваешь? Так мы все, знай, ни хрена не стоим. Живи, пока живется, ну а там… Там, как бог захочет. Согласен, гражданин любезный?
К вечеру Левашова забрали из сарая. Он стал служить под началом Митрофанова.








