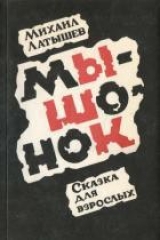
Текст книги "Мышонок"
Автор книги: Михаил Латышев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 11 страниц)
3
Сначала, прямо на глазах, обмелела речушка. Берега обнажились, красная глина потрескалась, зелеными пятнами на ней засохли водоросли и лягушачья икра.
Затем, тоже прямо на глазах, вытекла по капле жизнь из ветел. Они снова стали похожи на обветренные, старательно обмытые дождем кости неведомых зверей. Только кое-где на их стволах сохранились клочья темно-коричневой коры.
Птицы, которые с радостью садились на ветлы, пока те были живыми, теперь далеко стороной облетали страшные белые деревья. Высоченная крапива, росшая вокруг ветел, в одночасье пожелтела, трубчатые её стебли прогнили насквозь и опали вниз, к самому основанию стволов.
Вокруг зайцевского дома растительность еще буйствовала, но потом и здесь нежная зелень листвы сменилась желтизной, по которой расползлись едкие ржавые пятна.
Внезапно на грядках вымахали здоровенные сорняки. Зацветшие было огурцы увяли, и яркие их цветочки, полиняв, стали сначала белыми до прозрачности, а затем окрасились в гнилостный коричневый цвет.
Природа словно бы показывала свою исконную неразумность. От прикосновения рук Левашова растения жадно наливались жизненными соками, обильно цвели, буйно росли, поражали плодами. Без него они становились хилыми и блеклыми, какими с древности стремились в небо на этой неласковой, скупой земле.
Но, может быть, какой-то скрытый десятый или сотый смысл был во всем этом? Может быть, природа таким образом намекала: неважно какой ты есть, важно как ты относишься к земле и всему, что растет, цветет, плодоносит на ней? Или, может быть, все противоестественные изменения в Березовке с одной-единственной целью происходили: заставить Левашова понять, наконец, что зло и смерть, посеянные им, это совсем не то, для чего он был предназначен, явившись на белый свет?
А что же тогда – то? Не верится в прямолинейную простоту Природы: мол, поведи себя в жизни Левашов иначе, он мог бы осчастливить людей невиданными плодами, удивить цветами, которых они так и не увидели, поразить, к сожалению, ненаписанными картинами.
Нет, скрытый и непонятный смысл был во всем этом.
С грустью следила Мария, как покрывается зеленым мхом забор вокруг их двора, как темнеют его доски и оседают в траву, снова захватившую все пространство вокруг избы.
Петух на крыше проржавел насквозь всего за одну ночь. Старательно вырезанные из оцинкованной жести цифры выпали и валялись теперь на крыше, которая, как и забор, покрывалась зеленым мхом, таким нежным на вид, но безжалостно свидетельствующим о запустении.
Не покладая рук, Мария пыталась сохранить в избе чистоту и порядок. У нее ничего не получалось. Пыль и паутина все настойчивее захватывали любой уголок, превращая еще недавно такую нарядную избу в грязную и холодную, пропахшую насквозь нежилыми запахами.
В этом тоже, кажется, был какой-то скрытый смысл. Может быть, и тут следовало видеть намек: в семье, в красиво ухоженном доме должно было бы воплотиться для Левашова его существование на земле, а не в крови, не в слезах, которые сушили сердца и лились из-за него; не в тугих кольцах едкого дыма, который поднимался в низкое небо от сожженных Левашовым изб.
Недели три Мария безрезультатно боролась с запустением. Когда же однажды утром выйдя во двор она увидела, что крапива растет у самого крыльца, заслоняя все окна и вход в избу, а на скользких от плесени ступеньках греются три жирных жабы, она бессильно заплакала, кинулась обратно в избу, наскоро одела сына и навсегда, ни с кем не простившись, покинула Березовку.
От крыльца до калитки ей пришлось идти сквозь крапиву. Она старалась повыше держать сына, чтобы широченные жгучие листья не коснулись его нежной кожи. Жабы, спрыгнувшие с крыльца, когда Мария спускалась по нему, опять уселись на полусгнивших досках и о чем-то стали переговариваться. Марии показалось, что они радуются ее бегству из родного дома.
За околицей Мария встретила Ваньку. Он вез пустые бидоны.
– Уходишь? – хмуро спросил брат. – Правильно. А я пока останусь.
– Что со мной будет, Ваня? – жалобно спросила Мария.
– Ты в город пробирайся. Дворником устроишься или уборщицей. Можешь на стройку пойти. Разнорабочей. Не отчаивайся, сеструха. Ей-богу, хуже тебе не будет. Вот увидишь.
– Страшно.
– Сначала все страшно.
Племянник, улыбаясь, протянул к Ваньке руки. Тонкие его губки и острый подбородок такими шиловскими были, такими ненавистными Ваньке! И все-таки он, пересилив себя, взял племянника, несколько раз подбросил вверх, отчего тот захлебнулся счастливым хохотом. И долго-долго еще смеялся. Смеялся, когда мать и дядька уже простились, и мать зашагала с ним на руках по пронизанному солнцем лесу, а дядька остался стоять на месте, и стоял с час, наверное, не в силах избавиться от ощущения, что видит сестру в последний раз. Но едва оцепенение прошло, Ванька суетливо развернул телегу и бросился догонять Марию.
– Не так надо было проститься… Не по-людски как-то получилось… Что же это я? – шептал он. – Догнать… Догнать…
Бидоны колотились друг о друга, наполняя спокойный лес жестяным грохотом. У одного из них отскочила прорезиненная изнутри крышка, и к жестяному грохоту добавились глухие ее удары то о борт телеги, то о бидон.
Дорога замысловато вилась между сосен, и за каждым поворотом Ванька надеялся увидеть сестру с племянником. Однако их все не было и не было. Наконец он заметил сидящую на обочине Марию. Племянник ползал возле, держа в руках клейкую от смолы шишку.
– Заслышала грохот и остановилась, – сказала Мария.
– Правильно сделала, – задыхался от возбуждения Ванька. – Может, тебе не уезжать? Может вместе, а? Вдвоем легче.
– Не знаю, Ваня.
– А че знать? Вдвоем легче. И ежу понятно.
– Я не вернусь назад. Не могу.
– Ну смотри…
Мария встала, отняла у сына шишку, выбросила ее, тот заплакал, и Марии пришлось сначала поднять шишку, вернуть сыну и только потом взять его, успокоившегося, на руки и двинуться дальше.
И в этот раз брат с сестрой не сказали друг другу никаких слов утешения, не обнялись при расставании, не смахнули слез, потому что слез не было – сухими тоскливыми глазами посмотрели друг на друга, прощаясь, Мария и Ванька.
4
Девчонка бродила по Березовке, и все считали своим долгом хоть как-нибудь помочь ей: то зазывали пообедать, то давали ей ношеное платье, то укладывали спать. Девчонка доверчиво тянулась ко всем, но в глазах ее не угасало ни на секунду недоумение: а где же бабушка, куда она девалась? Казалось, девчонка постоянно ждала момента, когда надо будет идти дальше. Она не привыкла так долго находиться на одном месте.
Избу деда Ознобина девчонка обходила стороной. Всякий раз, оказываясь поблизости, она начинала плакать. Затем паника охватывала ее и она с криком бежала по Березовке, словно переживая снова и снова произошедшее в ознобинской избе. И только когда кто-нибудь ласково останавливал девчонку, она успокаивалась, крик замирал, но долго еще ее руки тряслись, а в глазах не высыхали слезы.
Ванька боялся подходить к девчонке – не знал, что говорить, как вести себя. Она сама подошла к нему, одетая в мужской пиджак, который был ей велик. Рукава закрывали худенькие кисти. Это мешало девчонке. Она подошла к Ваньке, стоявшему у калитки и решившему наконец заговорить с нею, и показала на рукава.
– Закатать, да? – спросил Ванька. – Мешают?
Девчонка засмеялась.
Волнуясь, Ванька подвернул рукава пиджака.
– Может, к нам зайдешь? – показал он в сторону избы.
Девчонка толкнула калитку и направилась к крыльцу.
После этого она часто приходила к ним, пыталась помогать Капитолине, оставалась на ночь. Иногда она садилась в телегу рядом с Ванькой, и они вдвоем возили с фермы полные молоком бидоны, а на ферму – пустые, тарахтящие.
– Красивая ты какая, – ласково говорила девчонке Капитолина, – красивая, да несчастная. Видать, не зря говорят: красивые редко бывают счастливыми. Я вот тоже ничего себе баба, а жизнь не задалась.
Капитолина уже к Ваньке поворачивалась с лукавой усмешкой:
– Что, Иван, неправду говорю?
– Говори, если хочешь. Мне-то что?
– Видишь, какой у меня муженек? – снова обращалась к девчонке Капитолина. – Непротивленец злу, как покойный дед Ознобин.
Ванька, злясь, выходил на крыльцо. Девчонка бежала следом. К Ваньке она привязалась больше, чем к Капитолине, которая и сейчас, несмотря на все перенесенное, оправдывала прозвище, данное в детстве: Зуда.
Выйдя к Ваньке на крыльцо, девчонка осторожно трогала его за локоть и просительно смотрела – вроде как бы умоляла не расстраиваться.
– Хорошо, хорошо, – говорил Ванька, – это, знаешь, дело семейное – ссоры. Они, знаешь, забываются мигом. Не в них соль любви.
Как-то ночью Капитолина неожиданно сказала, сама удивляясь тому, что говорит:
– Вань, а она того… Втюрилась…
– Чего, чего? – не понял спросонья Ванька.
– Девчонка, говорю, влюбилась в тебя. Ты, что, слепой, что ли?
– Влюбилась… – передразнил жену Ванька. – Тебе одно подавай: любовь. Какое там влюбилась? Отогревается рядом с нами. Она, небось, толком не знает, что такое дом. Вот и рада.
– Всюду за тобой ходит. Всюду.
– Ты никак ревнуешь? – засмеялся Ванька.
– Не будь она увечной, ревновала бы.
– Ну и спи, не пори ерунды. Да и какая она увечная, кстати? Говорить только не может. А разум у нее, может быть, в порядке.
– Оно и видно, что в порядке, – противно захихикала Капитолина, – на такого красавчика глаз положить.
– Ох, и бываешь же ты, Капа, зла! Ох, и зла! – огорченно вздохнул Ванька, но внезапно засмеялся: – Ты тоже умом тронутая, да? Живешь ведь со мной.
На этот раз Капитолина сказала:
– Спи, не пори ерунды.
После этого ночного разговора Ванька пристальнее стал следить за девчонкой. Та, действительно, норовила все время быть рядом с ним. «Но это ни о чем не говорит, – успокоил себя Ванька. – Мало ли что у нее в голове происходит. Она ведь иначе живет, чем мы. Да и молода она для любви». Однако попытался подальше держаться от девчонки и первый же заскучал по ней, почувствовал, как ему не хватает ее молчаливых внимательных глаз, робкой улыбки. Ему вдруг стало казаться, что давным-давно, в смятенных отроческих снах, он уже видел лицо девчонки, что с тех времен помнит он ее глаза. И сколько ни было потом бед, невезений, серой тоски, все время Ваньку спасали эти глаза, вели за собой, оберегали, заклинали пройти через все испытания, чтобы в конце концов повстречаться с заветным счастьем.
Ванька стал выпивать. Он думал вином заглушить неуместные чувства – не вышло. Они не затухали, а все острей и чаще напоминали о себе, особенно если девчонка была рядом, отделенная, правда, от Ваньки немотой.
Ему вдруг противна сделалась Капитолина. Ночи, раньше бывшие радостью, стали мукой. Долго выносить ее Ванька не мог. И выхода из тупика он не видел. Оставалось ждать: авось, само по себе все разрешится.
Девчонка не понимала почему Ванька сторонится ее, и обиженно надувала губы, когда сталкивалась с ним, но долго обижаться она, кажется, не могла: уже минуты через три после встречи широкая улыбка переливалась у нее на губах из одного уголка в другой, отражаясь, как солнечный зайчик, в глазах.
– Слушай, ты откуда взялась? – спрашивал девчонку Ванька, радуясь, что она не понимает его. – И зачем ты появилась на моем пути? Ты, может, скажешь: так вышло? Не ерунди, просто так ничего в жизни не бывает – все в ней зачем-то, все почему-то. Вот и отвечай честно: зачем появилась в Березовке? Зачем? Шилова найти? Вон что вышло из этой находки… А еще зачем? Чтоб я мучился? Это вроде как в отместку, что Шилова сюда приволок? Да? Так?
Девчонка смеялась, глядя на шевелящиеся губы Ваньки. Тому казалось, что смеется она над его словами, и он с обидой продолжал:
– Ну-ну… Смейся… Все вы, бабы, бессердечные. А ты погляди внимательней, что со мной творится. Видишь, нет? Я и на человека перестал походить – привидением сделался… Смейся, смейся… Но, вообще-то, это ты зря – я про смех. Какой тут смех, если разобраться?
Девчонка смеялась и смеялась. Что она могла понимать в любви? Что ей были Ванькины мучения, ей, с рождения до сейчас видевшей так мало светлого?
– Опять смеешься? Смейся. Я ж тебе говорю, смейся, сколько влезет! Но я не могу больше так. Наверное, двинусь на поиски Шилова – похоже из Березовки он смотался, вряд ли появится тут.
На мгновение девчонка притихла. Неужели поняла, о чем Ванька говорил? Ваньке показалось, что поняла – очень уж тревожными стали ее глаза, очень просительно смотрела она на Ваньку, умоляя: меня не бросай, мне с тобой хорошо.
– Эх, ты! – шутливо потрепал девчонку по голове Ванька. – Синеглазка! Чего испугалась-то? Чего?
Она опять засмеялась – по-детски мгновенны были у нее переходы от печали к радости.
– Вот такой ты мне больше нравишься, – улыбнулся Ванька. – Смейся всегда, не слушай моего брюзжания. Ясно, нет? Ни в коем случае не слушай. Смейся себе – и все дела.
5
Время тянулось, тянулось, тянулось, загустевало, загустевало, загустевало. Его все трудней и трудней было преодолевать, поднимаясь по его крутым ступенькам. Вначале он не замечал течения времени – почти сутки напролет занимался переустройством гнезда, приспосабливая его к своему вкусу и привычкам. Но когда в гнезде не осталось даже запаха прежнего хозяина, у него высвободилось много времени. Часть его он тратил на сон. Сон был необходим ему, чтобы окончательно прийти в себя, привести в порядок разгулявшиеся нервы. Никто не подозревал, а ведь там, наверху, среди двуногих великанов, он каждое мгновение словно бы ходил по минному полю, ожидая, что вот-вот земля у него под ногами вздыбится, разлетится в стороны, а тело его прошьют сотни безжалостных осколков. Здесь, среди сородичей, он постепенно избавлялся от прежних страхов.
Мыши, живущие под полом в избе деда Ознобина, признали его главенство. Это избавило его от борьбы за каждую кроху хлеба. На него никто не нападал, зная, что он за себя постоит. Он мог спокойно бегать где и когда хочет – право сильнейшего ни от кого не зависеть уважалось мышами.
Но все чаще и чаще он замечал какое-то томительное беспокойство. Какое-то невнятное чувство заставляло его суетливо носиться из угла в угол, старательно принюхиваясь к следам, оставленным другими мышами. И когда однажды он с разбегу столкнулся с самой крупной в этой семье самкой, он понял, что беспокоило его, гоняло из угла в угол: он слишком долго был один, он не выполнял своих обязанностей по продолжению мышиного рода. И сейчас, на мгновение остолбенев, потому что в нос ударил запах женщины, он все в один миг забыл, и помнил только обязанность продолжать мышиный род, только она диктовала ему все последующие поступки.
Самка вначале испугалась его и опрометью бросилась в сторону. Он помчался следом, подгоняемый требовательным приказом выполнить во что бы то ни стало одну из главнейших своих обязанностей. Самка бежала лениво, скорее горяча ему кровь, чем на самом деле стараясь скрыться. Добежав до самого темного угла, она остановилась, повернулась к нему, ощерив редкие зубки и без особой агрессивности замахала передними лапками, делая вид, будто обороняется. Он повалил ее и укусил в основание хвоста. Она покорно распласталась на земле и негромко повизгивала, давая понять, что отныне готова безропотно следовать за ним. Стоило ему увидеть так явно выраженную покорность и он мгновенно изменил свое поведение, ластился к ней, тыкался носом в бок и тоже повизгивал от нестерпимого желания сейчас, в этот же миг выполнить главную свою обязанность.
Ночь они провели у него в гнезде. Их серые тельца сотрясались в радостных конвульсиях. Она плакала от счастья принадлежать такому сильному, пышущему неутоленной страстью самцу; он плакал от счастья, что выполнил главную свою обязанность.
И снова время текло, текло, текло, загустевало, загустевало, загустевало. И снова он, отогревшийся в теплом бреду любви, вспоминал жизнь среди двуногих великанов, и не мог от бессонницы смежить глаза, и носился из угла в угол, и валил на пол первую же попавшуюся ему на глаза самку, и отступали в неведомые дали воспоминания о жизни среди двуногих великанов, казавшиеся только сном, только сном – не больше.
Сны эти были страшными – он видел себя в них маленьким-маленьким, хрупким-хрупким, постоянно рискующим погибнуть от любого неосторожного движения великанов. Для теперешней его жизни сны были сплошным бредом. В них совершалось нечто, непонятное мышам, стоящее вне их мира и их представлений о мире. И его – тоже. Он был мышонком. Он не хотел иметь ничего общего с миром двуногих великанов, так настойчиво вторгавшимся в его сновидения.
И наконец он испытал радость! То была радость ни с чем не сравнимая – радость отцовства, радость сознания, что в бесконечную цепочку мышиной жизни плотно вплелось и его звено, и он отныне бессмертен, ему суждено жить и жить, повторяясь в детях, внуках, правнуках. Радость эту он испытывал несколько раз – всегда, когда появлялись мышата у самок, которыми он овладел, спасаясь от ирреальных снов.
Вскоре ему стало казаться, что он со всех сторон окружен детьми. Он не ошибался – под полом избы деда Ознобина остались только самки, ставшие его женами, он и его потомство. Прочие мыши перебежали в покинутую зайцевскую избу.
Раньше ему не доводилось жить среди такого безусловного уважения и почитания. Жены ценили его неутомимость, дети преклонялись перед его силой, которую, правда, он не мог продемонстрировать, потому что не осталось соперников, с которыми можно было драться.
С ним стали происходить необъяснимые странности: ему казалось, что иногда по ночам он превращается в двуногого великана, и тогда видит как бы сверху копошащихся под ногами мышей, и ему противен их запах, он презирает их. Однако наступал миг, когда он переставал быть великаном, и тогда он ненавидел уже великанов, их запах, их образ жизни и мыслей.
Он великолепно знал причину своей ненависти: все чаще и чаще возникали в его воображении лица одних и тех же великанов, казавшиеся знакомыми ему. Какой-то скрытый в глубине мозга центр подсказал, что половина лиц принадлежит великанам мужского рода, половина – женского.
Но не само появление лиц, не частота, с какой приходилось видеть их, вызывали ненависть, а то, какими лица были, выражение их глаз: презрение к нему, тоже смешанное с ненавистью, сквозило в глазах великанов. И еще – билась в зрачках глаз неизбывная боль, сопровождаемая долгим немым криком.
Воображаемые великаны, чудилось ему, притаились в пыльном мраке подполья и со всех сторон пристально смотрят на него, то вплотную приближаясь к его воспаленным от ненависти глазам, то уносясь далеко-далеко. Но близко ли, далеко ли находились великаны, он с одинаковой остротой ощущал их боль, одинаково громко слышал немой, нечеловеческой мощи крик. Презрение великанов он еще мог переносить, а вот боль и крик… Сил не хватало выдерживать их.
Иногда он пытался понять: зачем и почему великаны так часто являются ему? Неужто между ним и ними есть какая-то таинственная связь, ему неведомая или же основательно забытая? Неужто есть какая-то связь?!
Однажды вечером он выбрался из подпола в избу. Ему просто хотелось побыть одному. Надоели возня и непрекращающийся писк. Пахло запустением в избе деда Ознобина. Затянутое паутиной окно синело высоко и таинственно.
Он потерял сознание от яркой вспышки в мозгу, от протяжного звона в ушах, от тяжести, которой вдруг налилось его хрупкое существо. Исказившееся пространство возносило его все выше и выше. Как когда-то он не осознал мгновения, когда превратился из человека в мышонка, так и в тот вечер не понял всей важности превращения из мышонка в человека. Тем более, не стал он разбираться в причинах этого превращения, привычно замечая только уже случившееся, не умея ни предвидеть, ни задумываться, ни предполагать к каким результатам случившееся приведет.
Мало-помалу вспышка погасла, звон утих, а тяжесть улетучилась, оставив ощущение силы. Он ходил из угла в угол по горнице, украдкой выглядывал в окно, на цыпочках подкрадывался к двери и, приложив ухо к сизым от старости доскам, настороженно прислушивался. А через некоторое время заученно повторял все жесты и движения: шел из угла в угол, нервными толчками неся отвыкшее от хождения на двух ногах тело; наклонялся к окну, осторожно водил глазами из стороны в сторону, боясь увидеть приближающуюся к избе деда Ознобина человеческую фигуру; вороватой перебежкой устремлялся к двери, прикладывал алеющее от волнения ухо к доскам, напряженно вытягивал шею, стараясь не дышать. От повторения жесты не становились его. Они были ему чужды, как незнакомая одежда. Требовалось привыкнуть к ним, а еще больше к тому, что окружающее уменьшилось в размерах и не угнетало больше неприступностью, высотой и шириной, став соразмерным с нынешним его телом. Стол, который раньше воспринимался сооружением неизвестного назначения, оказался просто столом. Обглоданный жадными мышиными зубами кукурузный початок, валявшийся у одной из ножек стола, был только кукурузным початком, а не огромным цилиндром, мешающим спокойно бегать, как раньше.
Он с воскресшей радостью узнавал предметы: закопченные горшки, лавку вдоль стола, тронутый ржавчиной нож на столе, потрепанный веник у двери, висящую на громадном гвозде старую кожаную сумку, неаккуратно брошенный под лавку брусок для заточки косы. Он узнавал их! А ведь совсем недавно бегал по ним, разглядывал их и недоуменно крутил розоватым носиком, не в силах понять, что это такое и для чего предназначено.
Первая радость узнавания прошла. Он еще раз огляделся по сторонам, заметил осколок старого зеркала, стоящий на подоконнике, с волнением взял его. Из зеркала на Левашова смотрел Левашов. Взгляд того, другого, Левашова был колюч и насторожен. С опаской он скользил по лицу Левашова первого, изучая каждый миллиметр кожи. Он уже привык к острому носу, к длинным усам, торчащим в разные стороны, к серым волосам на теле, и вид нынешнего лица испугал его похожестью на лица великанов, которые мучали его болью в глазах и криком. Ему самому захотелось в ужасе закричать, однако только глухое болезненное мычание вырвалось из груди, повиснув в пыльном застоявшемся воздухе – оказалось, он отвык от человеческого языка, ему предстояло заново научиться называть окружающее по имени: стол – столом, небо – небом, человека – человеком.
И он тупо морща лоб, показал себе осколок старого зеркала, и назвал этот осколок по имени:
– …эр…ало…
Затем он медленно двинулся по горнице, вспоминая, как зовут окно, дверь, кожаную сумку, гвоздь, на котором она висит, помятое ведро, алюминиевую кружку возле ведра, половицы, скрип половиц, синеющий за окнами вечер, скромный лунный свет, проникающий в горницу через запыленные стекла, имя которых ему тоже предстояло вспомнить. И он знал, что вспомнит, что к ужасу своему станет частью озвученного, наделенного именем и смыслом мира.
Среди лиц, мучавших его, неизменно присутствовало лицо рыжего парня с наивными глазами и белыми ресницами. У парня была фамилия Шилов. Звали его Григорием. По документам он числился Шиловым Григорием Матвеевичем. По отчеству его никто никогда не называл – из-за молодости и веселого легкомыслия, которое на самом деле было показным, очень часто Шилов серьезно и о серьезном говорил с Левашовым, соседом по госпитальной койке.
Уральский городок, накрытый сверху серым небом, оказался первым мирным городком, который видели вблизи сотни раненых. Госпиталь размещался в школе, в старинном, сто лет назад построенном здании. Раньше оно принадлежало сказочно богатому купцу, торговцу солью, и стояло на крутом берегу реки. От здания к реке сбегала лестница. У реки несколько лет назад построили причал, и теперь там разгружались пароходы, доставлявшие в городок какие-то ящики и мешки, перевозившие раненых, а из городка увозившие тоже ящики и мешки и тоже раненых, но уже не таких беспомощных, оклемавшихся от холода фронтовых ночей, от распутицы, от грохота и визга снарядов.
Шла вторая половина сорок четвертого года. Путь Левашова в уральский городок казался ему удачнейшим из снов, везением, которое бывает только раз в жизни, потому что только раз человек может спастись от неминуемой смерти, а Левашов спасся несколько раз. Жизнь благоволила к нему. Порой, отвернувшись от всех к стене, Левашов с тревожным удивлением спрашивал: неужели он по-прежнему жив? Неужели это правда? Неужели судьба и впредь будет укрывать его бронированными крыльями от смерти? Он знал ответ. Ответ звучал утвердительно. Но из суеверия Левашов только задавал себе удивленные вопросы, ни разу не рискнув ответить на них.
Как попал он в госпиталь? Повезло. Спасшись в зарослях травы, как мышонок, он очнулся, как человек, далеко от глухой лесной дороги, по которой унесли испуганные кони Тоньку с ее пащенком. Была ночь. Ни звука, ни шороха не раздавалось, Левашов услышал стон. Подполз.
– Браток, – взывал раненый, – браток, выручи. Каюк мне, чувствую. Застрели, что ли. Сил нет терпеть.
Потом Левашов оправдывался перед собой в убийстве беззащитного человека (какого уже по счету?) состраданием. Он ведь не сам, не по злобе выстрелил – его попросили.
Наскоро он переоделся. Свою одежду, торопясь, натянул на мертвеца, пока тот не окоченел. Затем, зажмурив глаза и ощущая столб льда в позвоночнике, выстрелил в себя. И та страшная боль, которой он так боялся, свалила его. Он без сознания пролежал до середины следующего дня. В себя пришел уже в полевом госпитале. И вот, Урал. Небольшой городок. Бывшие хоромы купца. Пахнет эфиром, хлоркой, человеческими телами, неяркой осенью за окном. Сосед Левашова, Шилов, вырвал листок из тетради, приложил к расческе – и вовсю наяривает то «Катюшу», то «Синий платочек», веселя соседей по палате.
В полевом госпитале Левашов назвался именем раненого, которого застрелил, Самусев Петр Устинович. На его счастье происходила переформировка – части перебрасывали с фронта на фронт, – и ложь его трудно было проверить. Он освоился в новой личине, и о бывших своих сослуживцах вспоминал с презрением и негодованием. Он и себя тогдашнего ненавидел, глядя на себя не как Левашов, а как Самусев, оторванный войной от двух дочек и жены, замусоленная фотография которых лежала у Левашова под подушкой. Он, нынешний, никак не мог понять причин, побудивших его тогдашнего, надеть форму полицая. Они казались ему не главными, их легко было преодолеть – стоило собрать в кулак волю. Но он истинный с ехидной улыбкой смотрел на негодование лже-Самусева: хорошо притворяешься, Вася, очень хорошо!
Шилов рассказывал:
– Все мои погибли, Петя. Родители мои – учителя, люди благородные. Я представляю, каково им было в оккупации. Почему, думаешь, я так веселю всех? Потому, что самому весело? Да нет, Петя, не весело. Но если не веселиться через силу, то что делать остается? Я ж, как былинка в поле, – один. Ни семьи, ни жены… Больше всего я не люблю вспоминать, как по праздникам сидели мы впятером за столом: родители, брат, бабушка, я. И чаще всего вспоминаю.
– Почему не любишь?
– Нужны объяснения? Мы очень счастливы были тогда. Теперь мне такого счастья не испытать.
«Вот кем мне надо быть, – подумал Левашов. – Один-одинешенек человек, никто его искать не будет. Не то, что Самусева».
И он стал примерять новую личину. Она нравилась ему куда больше нынешней.
Он до мельчайших деталей выспрашивал Шилова о его жизни, о южном городе, в котором тот родился и рос, о родственниках, которых оказалось немного, чему Левашов обрадовался, о школьных друзьях, о их привычках и увлечениях. Он даже попытался научиться играть на расческе, чтобы совсем походить на Шилова, но учение пришлось бросить – им с Шиловым сообщили, что выписывают из госпиталя.
Левашов нервничал. Раньше все поступки совершались им вдруг; как бы ни с того, ни с сего, теперь же ему предстояло совершить поступок, к которому он старательно готовился. Он должен был убить Шилова, чтобы превратиться в Шилова.
Оказалось, непросто жить рядом, изо дня в день лицемерно улыбаясь, с живым мертвецом.
Левашов стал плохо спать. Ночами его мучали кошмары. В них он сталкивал тело Шилова в свинцовую уральскую воду, а Шилов тонуть не хотел, хватался за полу шинели Левашова, тащил за собой, и Левашов давился водой, легкие его рвались от нехватки воздуха и страха, и он в конце концов тонул, а Шилов обессиленно выбирался на берег, садился на белый, покрытый синим мхом камень, и смеялся, смеялся от восторга, что остался живым. Левашов со дна реки смотрел на него, ненавидя – страстно, горячо, вечно.
Наступил день, когда Шилов и Левашов с тощими вещмешками за спиной стали спускаться по крутой лестнице к причалу, когда-то весело покрашенному в белый и синий цвет, а теперь обшарпанному, исцарапанному, изуродованному тяжелыми ящиками. Когда-то и лестница была веселой и белой. Но от времени она пожелтела, ступеньки выщербились, из перил кое-где вывалились пузатые колонки, высокий бурьян поднялся с двух сторон, почти скрыв когдатошнее великолепие.
– Погляди назад, Петя, – сказал Шилов, – здесь нас отремонтировали, здесь мы подружились. На всю, может быть, жизнь.
Левашов оглянулся. Белый дом с зеленой крышей выглядывал из-за желтых берез. Освещенный солнцем, он был очень красивым. Густые прохладные тени лежали на восточной его стороне.
Смотрел на дом Левашов с безразличием – одно по-настоящему волновало его: как стать Шиловым? Он старался не употреблять слова «убить». Это само собой подразумевалось, потому что стать Шиловым Левашов мог, только убив Шилова.
«Как стать Шиловым?» – думал он, плывя на скрипучем пароходике, который с натугой преодолевал налитые осенней сыростью волны.
«Как стать Шиловым?» – думал он ночью на вокзале в областном центре, куда их доставил пароходик.
«Как стать Шиловым?» – думал он утром, лениво пережевывая сухой хлеб и глядя красными усталыми глазами на спокойного (как никогда в последние недели) Шилова.
Кроме этого колючего вопроса, никаких других мыслей в голове Левашова не было.
Как стать Шиловым? Как обрести надежную личину? Как?!
Левашов почти бредил, наяву переживая пока несвершенное убийство. Они с Шиловым стояли перед хитроумно разукрашенным деревянной резьбой двухэтажным домом напротив вокзала. Шилов восхищался резьбой, находя в ней недоступную Левашову красоту, а Левашов видел, как вцепляется в шею Шилова, все сильней и сильней стискивает ее, и под пальцами хрустит кадык, и Шилов извивается, но по-прежнему говорит о красоте деревянной резьбы.
Произошло убийство неожиданно для Левашова – словно бы даже помимо его воли. И куда проще, чем он выдумывал. Казалось бы, он уже должен привыкнуть к жуткой простоте и внезапности, с какими приходит смерть, однако, долго-долго у него перед глазами стояла та сцена.








