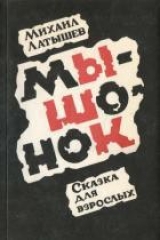
Текст книги "Мышонок"
Автор книги: Михаил Латышев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 11 страниц)
Михаил Латышев
МЫШОНОК
Сказка для взрослых
I
Шилов, Зайцев и другие
1
Долго той осенью ждали снега. Его все не было и не было. Несильные морозы сковали хлябь, и когда по улицам Березовки проезжали машины или телеги, из-под хрустящей корочки лезла грязь, расползаясь по стеклу луж, по коричневой, набухшей влагой траве у заборов, которая ночью стеклянела от холода, покрывалась колючими волосинками изморози, а днем опять набухала влагой, оживающей под скупым солнцем.
Только в конце ноября выпал снег, обрадовав и удивив внезапностью – выпал он ночью, когда Березовка крепко спала. Отходила она ко сну окруженная черно-зелеными болотами и лесами, а проснулась среди непорочной белизны, которую топтать было боязно, жалко было топтать: хотелось, чтобы навсегда сохранилась эта святая белизна, нежная, как юные девичьи лица.
В тот день, когда выпал первый снег, ближе к вечеру, появился в Березовке Ванька Зайцев.
– Эй, вы, – кричал, фиглярничая, подвыпивший Ванька, – поглядите, кто приехал!
Ванька вовсю хохотал, поблескивал золотым зубом в левом углу рта (раньше у него зуба не было), щурил выцветшие, когда-то очень голубые глаза, нагло спрашивал всех, кто ему попадался:
– Не ждали? Не думали, не гадали? То-то! Я тонуть не согласен. Я всегда выкарабкаюсь на свет.
Три года назад Ваньку судили за воровство – по пьяной лавочке он забрался в сельмаг, унес четыре бутылки водки и несколько метров цветастого шелка, который потом, протрезвев, не знал куда деть и который нашли под половицами обыскивающие зайцевскую избу милиционеры. Ванька в это время сидел понуро в углу и недоумевал:
– На хрена он мне сдался, этот шелк? Че я с ним делать собирался? По глупости своровал. Честное слово, по глупости.
Один из милиционеров сказал:
– Никто не спорит, по глупости. Много совершается в жизни по глупости, но это не значит, что глупость должна прощаться. Придется тебе, милый, поучиться уму-разуму.
Когда Ваньку увозили под конвоем из Березовки, только мать да сестра Мария плакали. Только им было жалко шелапутного Ваньку. И вот он вернулся. Мать его не дождалась – полтора года назад умерла, а отца Ванька и Мария лишились еще раньше, когда ему шел седьмой год, ей – пятый. Вернулся Ванька не один – с ним приехал мужчина лет на десять-двенадцать старше Ваньки: невысокий, худой, остролицый, улыбчивей.
– Ясно, – решили березовцы, – одного с Ванькой поля ягода. Видать, в лагере снюхались. Хотя по виду не скажешь, что может такой худой и улыбчивый законы нарушать.
– Да не нарушал он законов, – утверждал Ванька. – Мы с ним на целине познакомились. Меня, братцы, после тюрьмы потянуло на целину кости размять. Дай думаю, чудеса героизма проявлю, орден или медаль заработаю, пускай в Березовке все от зависти лопнут. Вот на целине мы и сошлись. Совсем не на почве выпивки и дебоширства, как думаете вы, а потому что есть, кажется, в мире что-то, что притягивает одних людей к другим, а третьих отталкивает от четвертых. И еще потому, наверное, мы сошлись, что напоминаю я ему брата, который в оккупацию пропал. У него вся семья сгинула. Он один, как перст, на земле.
В здешних краях не рвались снаряды, не пропитывалась кровью земля, не горели избы и не выли от страха собаки, коровы и лошади, когда безжалостный огонь, треща, вздыбливался до неба, пожирая все подряд, но что такое война, Березовка знала – ее не минули слезы и боль, которые приходят с войной. Поэтому она отбросила первый поспешный вывод о мужчине, приехавшем с Ванькой Зайцевым, и стала внимательней смотреть на него, стараясь не попадать больше впросак.
Звали мужчину Шиловым Григорием Матвеевичем. С первым весенним теплом он взялся латать-перелатывать обветшавшую зайцевскую избу, день напролет пропадал в саду, обрезал засохшие ветки яблонь, привел в порядок забор вокруг запущенной усадьбы. Он заставил Ваньку устроиться конюхом в колхоз, а не бить баклуши, к чему Ванька с детства имел склонность. Сам Шилов стал работать в бригаде плотников. Руки у него оказались золотыми. Мало кто из березовцев мог соперничать с ним, когда он, сбросив рубашку, похохатывая, махал топором, очищая от коры сосновые бревна, или стругал доски, неутомимо гоняя взад-вперед новенький рубанок, купленный в конце зимы в райцентре.
Работая, Шилов обыкновенно пел, заражая и других своим весельем от работы. На первых порах стеснительно, несмело, мужики стали петь вместе с Шиловым. И как красиво это было! Как здорово! Пятеро студентов, приехавших в Березовку из областного центра на практику (фольклор собирать) ни на шаг не отходили от Шилова, а тот недовольно хмурился на их приставания, сердился, гнал прочь. И этим еще больше мил сделался березовцам: скромняга, не выпирается вперед, другие на его месте польщены были бы вниманием студентов, которые своими «спасибо» и «пожалуйста» так отличались от березовцев.
Песен Шилов знал множество. И все незнакомых в здешних краях, а потому, может быть, особенно волнующих. Например, Шилов пел – с придыхом, закрывая от волнения глаза:
Да ты не плачь-ко душа да Саша,
Не вздыхай-ко тя… тяжело,
Не вздыхай-ко тя… тяжело.
Да е… если тебе дружка да жалко,
За… забывай его да скорей,
Да забывай его да скорей.
На мгновение голос Шилова прерывался, какая-то хрипотца появлялась в нем, но вскоре песня плыла дальше:
Да я, тогда дружка-то да забуду,
Ко… когда закроются мои глаза,
Ко… когда закроются мои глаза,
Когда закроются мои глаза.
Да у… уста кровью за… запекутся,
Ми… мил не будет це… целовать.
А мил не будет це… ох, целовать.
И тут вступали остальные плотники, выучившие под диктовку Шилова слова песни:
Да он не будет, он не станет
Ду… душой Сашей на… называть,
Ой, душой Сашей на… ой, называть.
И еще дальше, дальше текла песня, рассыпаясь сверкающими каплями по траве – то ли роса блестела, то ли остатки обильного утреннего тумана, то ли чьи-то слезы, пролитые украдкой над верной и неразделенной любовью.
Песни петь Шилов пел, но на разговоры был очень скуп, не позволял никому копаться в своей душе и сам не старался нахально впереться с грязными сапогами в чужую. Кое-кому это не нравилось. Особенно неутомимому говоруну деду Ознобину, который каждое утро первым приходил на хозяйственный двор, с трудом неся тяжеленный топор, завернутый в старый порванный мешок. Как от козла молока, была польза от деда бригаде, но гнать его не гнали – надо же человеку чем-то кормиться, загнется веселый говорун с голодухи, а с ним легче работать, веселее время бежит под шепелявый говорок Ознобина, под фантастические рассказы о том, как беседовал дед в девятьсот двадцать шестом году с товарищем Буденным или как совершал в девятьсот третьем пешую прогулку к графу Толстому, чтобы поговорить о вреде и пользе богатства. Дед уверял, что только под влиянием Толстого не имеет он ни кола, ни порядочного двора, ни семьи, которую не завел якобы потому только, чтобы бороться с мерзкими поползновениями плоти на блуд.
С первой встречи Шилов стал косо смотреть на деда Ознобина, а дед, очарованный силой слов, не верил, будто в жизни могут существовать люди, не любящие поговорить, и потому все лез к Шилову с расспросами о прежней его жизни, пытался покорить шутками-прибаутками, которых Шилов не замечал вовсе. Веселые слова деда Ознобина замерзали на лету, натыкаясь на холод, струившийся из глаз Шилова, стоило тому заметить приближающегося говоруна. В отместку, что ли, Ознобин начал выдумывать истории, в которых наравне с ним действовал Шилов. Рассказывал он эти истории только тогда, когда Шилова рядом не было.
– Боюсь я его, – говорил дед, – по причине мне самому неизвестной.
– Причина известна, – хмыкали плотники. – Язык твой бесхребетный.
– Может и так, – соглашался Ознобин. – Говорить люблю и никто не запретит мне говорить, потому как, кроме правды, ничего другого не говорю.
– Знаем твою правду, – смеялись мужики, – пробовали ее и на вкус и на запах: дюже сказками пахнет.
– А вот тут, – поднимал к небу желтый скрюченный палец дед Ознобин, – понять надо всяким умникам глупым, что издревле говорится: сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. Например, вот что было однажды со мной в райцентре. Поехали мы с Федькой Селезневым…
– Ну утихомирься, утихомирься, – говорили деду. – Слышали мы уже эту байку миллион раз. Утихомирься, не отвлекайся, мы из-за тебя ни одного трудодня сегодня не заработаем. Иди-ка лучше в тень, всхрапни, новую сказку придумай.
– И пойду! – с радостью соглашался дед, притворяясь обиженным – даже самому себе не хотел он признаваться, что его плотничанье смех один, что мужики работают за него, подавая ему таким образом милостыню.
Шилов, кстати, с первого дня заявил (еще толком не узнав деда Ознобина), что работать за чужого дядю не намерен.
– Ну что ж, – согласились плотники, – тут ты прав. Твоя выработка это твоя выработка, а мы деду поможем. Для тебя он чужой, а мы все выросли у него на глазах. Без деда Ознобина Березовка немыслима. Мы его любим. А тебя заставить любить деда не можем. Да и ни к чему это – и нашей выработки хватит, чтобы прокормить его, ест он не много, не больше общипанного воробья.
Пристроившись на горе пахнущих смолой стружек, дед Ознобин рассказывал:
– Позапрошлой ночью не спалось мне дюже: и в костях ломота, и голова пуста, как сито, и кишки скрутило – все тянет и тянет на двор. Ну выйду я, сделаю, что надо, и стою, на небушко гляжу, как остолоп какой. Красиво, очень красиво! Так и тянет вздыхать о жизни нашей глупой. Стою, значит, небушко разглядываю, а потом думаю: «Че стоишь, болван старый? Пройдись по Березовке, посмотри че в ней ночью делается. Может, интересное что увидишь…» Ну и пошел я. И увидел. Увидел я… Страшное я увидел, скажу честно. Аж поджилки затряслись… Увидел я: стоит перед правлением председателева бричка, на губах у коней пена – долго, значит скакали… Ну а в бричке не Анастасий Петрович, не председатель, а Гришка Шилов. Да и не Гришка вовсе, а самый настоящий черт! Понятное дело рожки у него, нос, как свиной пятачок, чернеющие усы под пятачком и мундёр с блестящими пуговками, как у поручика в японскую войну. Увидел меня черт, испугался, растаял. И лошадки растаяли. И председателева бричка, получается, тоже растаяла. Стою и думаю: «Приснилось? С ума, Ознобин, сошел? Али на самом деле Григорий наш свет – Матвеевич с нечистым дружит?»
– Ну дает! Ну дает! – Надрывались от хохота плотники. – Ну дед! А мундир-то ему зачем?
– Чего не знаю, того не знаю, – серьезно отвечал Ознобин. – Кому очень интересно, у Шилова своего спрашивайте. Только был мундёр на нем. С блестящими пуговками мундёр. И щечки розовые. Про щечки я поначалу забыл. Да с вами и забудешь – вон как ржете. А я чистую правду говорю. Чего за мной не водится, того не водится: врать не умею.
И опять плотники хохотали вовсю, маслеными от смеха глазами глядя на деда и друг на друга.
– Э, остолопы! – Возмущался Ознобин. – Разошлись, над стариком хохочут. А я б на вашем месте не смеялся, потому как самое последнее дело общаться с бесом – он такое с вами вытворит, горючими слезами зальетесь, вспомните деда Ознобина, ан поздно.
Однажды Шилов услышал один из фантастических рассказов деда – все думали, что он пошел домой обедать, а Шилов устроился в высокой траве спать, подстелив под себя выцветший пиджак в полоску и подложив под голову такую же выцветшую фуражку. Он не обиделся. Наоборот, с неожиданной теплотой стал после этого относиться к деду, первым с улыбкой заговаривал с ним и даже сказал плотникам, чтобы они и его выработку учитывали, делясь с Ознобиным.
– Нет, – ответили Шилову, – не стоит, лишнее это. Не надо его, болтуна старого, баловать, еще растолстеет на чужих харчах, а толстеть ему ни к чему – к богу на суд лучше худым приходить. Говорят, к худым бог милосерднее: не в ад направляет, а прямиком в рай. Такие, понимаешь, ходят слухи.
После этого разговора совсем уже своим стали считать Шилова в Березовке – раз деда Ознобина начал понимать, то быть ему березовцем отныне и присно; никуда он отсюда не уедет, не сманят его сытые края, теплые моря, кишащие рыбой реки.
2
К концу лета не узнать было зайцевскую избу. Испокон веков смотрелась она самой захудалой в Березовке, потому как никто из Зайцевых никогда не обладал хозяйской жилкой. Сколько помнили их в Березовке, столько ходила о Зайцевых дурная слава. Кого только не было среди них! И пьяницы, и гулены, и такие лентяи, что поставь перед ними в голод полную миску дымящихся щей, они движения лишнего не сделают, чтобы наесться досыта – вот кабы покормили, тогда дело иное. Они жилья своего не любили, не считали нужным прихорашивать его и разукрашивать. А зачем? Чтобы спать в избе? Так спать можно и в такой – кособокой, пропахшей квашеной капустой и овчиной, переполненной детьми и кошками. Это только Ванька и Мария жили вдвоем, а раньше Зайцевых в деревне было много, но одни из них подались куда-то на заработки или просто бродяжить, других земля в себя призвала, третьи погибли в огнях войны, четвертые повыходили замуж, поменяли фамилию, а вместе с этим и сами переродились, словно раньше давила на них фамилия, заставляя быть такими, безразличными к жизни, а не выкарабкиваться со всех сил из грязи – если не в князи, то хотя бы к чистоте и порядку, в которых жила остальная Березовка.
Так вот, к концу лета зайцевская изба благодаря Шилову изменилась до неузнаваемости. Во-первых, новая крыша появилась на ней. Во-вторых, засияли вокруг окон новенькие наличники, украшенные солнечными корунами. В-третьих, восстал из высокой травы забор. В-четвертых, над трубой заблестел флюгер в виде распушившего хвост петуха, который стоял на кругу с вырезанными в нем цифрами: 1957 – год, когда приехавший со стороны Шилов привел в порядок жилье Зайцевых.
А каким стал сад к концу лета! Старые яблони помолодели лет на десять, не меньше, и хотя уже года четыре не плодоносили, внезапно оказались облепленными яблоками – яблок было больше, чем листвы. Картошка перла из земли наружу – столько клубней скопилось под рыжей ботвой. Огромные плети огурцов разбежались по всему участку, лезли на яблони и стены избы, и ядреные пупырчатые огурцы свисали с плетей, поражая березовцев. Огурцов было так много, что Березовка ела, ела их и никак не могла съесть. Мария засолила две здоровенные кадки на зиму, и все равно огурцов оставалось много, и они переспевали, пузатыми коричневыми бочоночками висели на стволах яблонь и на стене избы, их клевали соседские куры, но все равно огурцов не убывало – земля словно доказывала и Ваньке, и Марии, и остальным березовцам, что она может быть очень щедрой, очень-очень щедрой, если к ней будут относиться с любовью и вниманием.
Несколько подсолнухов, которые Шилов посадил вдоль забора шутки ради, потому что в здешних краях подсолнухи не успевали созревать до первых холодов, к концу лета созрели, набухли черными зернами, и эти зерна были такими большими, что воробьи с испугом смотрели на них, боясь клевать. На славу вырос и укроп, посаженный в малом количестве только для того, чтобы было с чем солить огурцы. Он ростом догнал двухметровые подсолнухи и зонтики укропа были ничуть не меньше подсолнечных голов, а запах его разносился на десять километров вокруг, так что в соседних деревнях даже шутили по этому поводу: у других, дескать, бражкой пахнет, а у березовцев – укропом.
Ванька Зайцев ходил гордым петухом среди этого изобилия. Можно было подумать: благодаря ему изба приобрела человеческий вид. Можно было подумать: это Ванькины руки ухаживали за деревьями в саду, старательно окучивали картошку и вырывали любой сорняк на грядке с огурцами. Он за это время пополнел, лагерная серость сошла с его щек, они налились малиновым светом – румянцы размером с блюдца украсили Ваньку, отчего он стал похож на дореволюционного купчика, каким изображают его на карикатурах. Восседая на ворохе соломы, брошенной в передок телеги, Ванька важно ехал по Березовке, иногда кивком головы здороваясь с кем-нибудь. Глядя на его преисполненную собственного достоинства фигуру, знавшим Ваньку раньше трудно было удержаться от смеха.
Зайцевская изба стояла на краю деревни. Один конец сада выходил на крутой берег давным-давно пересохшей речки. Несколько сухих высоких верб стояло вдоль ее русла, поросшего осокой. Кора с них слезла, сердцевина выгнила, а пепельного цвета древесина, исхлестанная дождем и ветром, безжизненно блестела в солнечные дни, похожая на побелевшие кости. Но к концу лета вдруг появилась вода в речке, вдруг начали гнать засохшие вербы к небу молодую клейкую листву и на пепельной их древесине стали стягиваться сохранившиеся струпья коры. Березовка радовалась. Ничего мистического в происходящем она не усмотрела. Анастасий Петрович, председатель, объяснил в чем фокус: в ста пятидесяти километрах от Березовки перекрыли большую реку для сооружения гидроэлектростанции, вот и ринулась вода привычной дорогой, по давным-давно высохшему руслу речки, название которой помнили только три-четыре древнейшие старухи: Скакуша. «Ну а что касаемо верб… – почесал толстым, треснутым посредине ногтем щеку Анастасий Петрович. – Что касаемо верб, тут вопрос сложнее, с наукой надо бы посоветоваться. Но ведь все знают, какое неприхотливое дерево верба: сунь в землю сук, и к весне, глядишь, зазеленеет целое деревце».
Один дед Ознобин по привычке усмотрел в происходящем нечто фантастическое. Правда, с Шиловым он это не связал, потому что к концу лета они стали настоящими друзьями и нигде так часто не пропадал дед по вечерам, как в зайцевской избе.
– Товарищ председатель Анастасий Петрович, – говорил дед Ознобин, – все правильно объяснил. Вроде бы. Верить ему можно, поскольку, кроме всего протчего, обладает наш председатель отсутствием одной ноги. Мы знаем: воевал Анастасий Петрович смело, за что ордена имеет и медали. И знаем: мается он с нами дюже, а еще больше – с районным начальством. Но я не про то сказать хотел, а про то, что гидро эта самая станция вернула нам речку, а все одно из сучков сухих верб ничего не вырастает. Слушайте, что скажу по большому секрету, потому как один знаю в чем тут фокус. Позапрошлой ночью…
– Чо это у тебя все позапрошлой ночью случается?
– Потому как прошлой спал без задних ног… Позапрошлой ночью, ближе к утру, стучат ко мне в окно: «Открой, дело есть». Какое дело ночью? Что стучит? Да и голос незнакомый. Струсил поначалу, но открыл, перешагнул через себя. Открыл и – братчики мои – вижу: стоит на крыльце гражданин Троцкий личной персоной. Позади еще человек пять жмутся. «Так и так, говорят, Ознобин, ты должен нам помочь. Без тебя у нас дело швах». «Да вы что?! – кричу. – Чтобы я помогал троцкистам поганым?! Не на того напали!» Тут Троцкий с улыбочкой, с липкой такой улыбочкой, обращается к своим: «Кричит… А чего кричит, дурень? Еще не знает в чем дело». «Знаю, – говорю, – пакость какую-нибудь вытворить хотите. Я вам не помощник. С такими, как вы, не вожусь». Ну и ушли они. И вот теперь я думаю: а не их рук это дело? Не они, часом, вытворяют это все?
Только поначалу казалось, что разговоры о Троцком дед Ознобин ведет ни к селу, ни к городу. В них был скрытый смысл. А заключался смысл вот в чем: арестовали в тридцать седьмом году березовского активиста Воронова Ивана Егоровича. Почему, за что? – недоумевали в Березовке все поголовно, но вслух недоумения не высказывали, и только Капка Сюсюкина по прозвищу Зуда гордо ходила по деревне и объясняла: «А Вороновым Троцкий корову подарил, вот и заарестовали дядьку Ивана». И теперь, двадцать лет спустя, когда три месяца всего прошло после возвращения Воронова из дальних краев, дед Ознобин таким образом напоминал и Сюсюкину, придумавшему нелепое объяснение почему арестовали Ивана Егоровича, и Капке, выросшей в красавицу и потерявшей на войне мужа, и себе, и остальным березовцам давние постыдные страхи. На самом-то дело он вполне соглашался с мнением председателя по поводу воды в давно пересохшей речке, но такая на него была надета маска – шутить, во что бы то ни стало шутить! – и дед Ознобин по привычке корчил из себя дурачка, втайне надеясь, что кому надо, тот поймет его правильно.
В зайцевской избе дед сдирал с себя маску, очень серьезно и уважительно говорил с Шиловым, с любовью обращался к Марии и только с Ванькой никак не мог вести себя серьезно: нет-нет да и мелькала насмешка в ознобинских глазах, когда он видел неторопливо входящего в избу Ваньку, освещающего себе дорогу сиянием двух румянцев на щеках.
– Считаю, надо тебе, Григорий Матвеевич, подумать о женитьбе, – сказал однажды дед Ознобин. – Девок и вдов в Березовке много. Какую хочешь, сосватаю. Вот, к примеру, та же Капка-Зуда: ядреная вдовица. На что я беспомощный и к делу непригожий, а завижу ее и начинает кровь гудеть.
– Так она ж Зуда, – со смехом ответил Шилов. – Мне не ужиться с ней.
– Не хочешь на Капке жениться, женись на Марии, – без всякой задней мысли сказал дед Ознобин, – она тоже ничего.
Он внимательно посмотрел на Марию, которая сидела у окна и шила что-то. Посмотрел и аж задохнулся от удивления: а ведь Мария-то, оказывается, того… Не на первом месяце уже… Как это раньше никто не заметил? Ну и слепцы живут в Березовке! Ну и слепцы! И первый он, Ознобин. Почти каждый вечер бывает тут, а того, что живот Марии округлился, как прожаренный огнем бок горшка, не заметил. Уловив взгляд деда Ознобина, Мария усмехнулась. Шилов тоже усмехнулся, заметив как дед помимо воли удивленно крутнул головой. С минуту они сидели молча, затем дед начал торопливо прощаться. В сенях Шилов придержал его.
– Ты уж того, – смущенно сказал он, – не очень распространяйся. Когда надо, все сами заметят и поймут.
– Это ты прав, – сказал Ознобин. – Сами заметят и поймут. А я, Григорий Матвеевич, про друзей ничего плохого не говорю.
– И лады! – хлопнул деда по плечу Шилов.
И до Марии бывало в Березовке, что девка вдруг начинала пухнуть, не выходя замуж. Относились к этому строго – но только ворота мазали дегтем, но и навеки вечные вычеркивали из жизни незаконнорожденных детей и детей этих детей, накрепко прилепив им обидное и унизительное прозвище, которое передавалось по наследству и было вечным наказанием за мимолетный грех одной какой-нибудь девки, давно уже состарившейся или сошедшей в могилу. Так было раньше. Теперь же обезмужевшая Березовка не так строго следила за сложившимися веками устоями. Баб в Березовке после войны осталось много, некоторым из них и тридцати не исполнилось, но они должны были коротать ночи в одиночестве, задыхаясь от страсти, и если какая из них срывалась, а потом с испугом ждала расплаты, то теперь Березовка не судила их так строго, как раньше. «Брось в нее камень, если ты на ее месте мог бы устоять».
Марию в Березовке поняли и оправдали. В конце концов, она согрешила с неплохим человеком, и то, что у нее будет от Шилова ребенок (неважно кто, пацан или девка; хотя лучше бы пацан), это даже хорошо: еще крепче прикипит Шилов к Березовке.
Недели через две после того, как дед Ознобин заметил живот Марии, пришел в зайцевскую избу председатель колхоза Коржиков Анастасий Петрович. Его протез скрипел, а в земле после него оставалась круглая дырка. Заметив входящего во двор председателя, Мария засуетилась, хотела спрятаться, но Шилов задержал ее: «Ты чего? Мы ни перед кем не виноваты».
После нескольких необязательных слов приступил Анастасий Петрович к разговору, ради которого появился в зайцевской избе.
– Итак, Григорий Матвеевич, – кашлянул он в кулак, – то, что есть, того не скроешь. Я честно тебе скажу, очень рад. Ну, во-первых, одним березовцем больше, это понятно, а, во-вторых и третьих: когда оседают в твоем колхозе люди с золотыми руками, тут и сказать нечего. Да и основательный ты. Вон как Ваньку приструнил. Лучшего конюха я и не мечтал иметь.
– А это потому, – сказал Шилов, – что он с детства коней любит.
– Хитрый ты мужик, – засмеялся Анастасий Петрович, – все в сторону норовишь разговор отвести. Ванька Ванькой, а я не ради него пришел. Мысль у меня есть: торжественно, по-новому вашу свадьбу сыграть. А? Ты ведь фронтовик?
– Да, – нехотя сказал Шилов. – Было дело.
– Тогда понять должен, что хорошие люди нужны больше, чем всякие разные. Кто смерти в глаза смотрел, тот плохим быть не может. А по заслугам и уважение человеку.
– Какие мои заслуги? – прямо глядя в глаза председателя, спросил Шилов. – Я никаких заслуг не вижу. Работаю, чтобы с голода не пухнуть, а то, что хорошо работаю, так плохо работать считаю унизительным. Как там Энгельс сказал?
– Труд создал человека? – понимающе улыбнулся Анастасий Петрович. – Только, по-моему, это Маркса слова.
– Неважно чьи. Слова они и есть слова.
– Ты мне это брось, – погрозил пальцем председатель. – Про Маркса и Энгельса такое говорить!
– Ну ладно, – усмехнулся Шилов, – хочешь, Анастасий Петрович, я молиться на них стану сутки напролет?
– Будем считать, мы с тобой на эту тему не говорили. Мы со свадьбой должны решить.
– Думаю, лишнее это, сами как-нибудь. Свадьба – дело, наконец, наше.
– Да, – подала голос Мария, – мы сами, Анастасий Петрович.
– Очень жаль, очень жаль, – встал Коржиков. – Я как лучше хотел.
И уже на крыльце он спросил:
– Ты, может, и жениться не собираешься?
Шилов промолчал.
– Хотя да, – усмехнулся Анастасий Петрович, – это дело ваше. Как решите, так и будет.
– Вот это верно, – сказал, провожая скрипящего протезом Коржикова к калитке, Шилов. – Дело наше, нам решать.
Тут Анастасий Петрович разнервничался, чего с ним почти никогда не бывало, и наговорил Шилову много обидных слов. Затем с трудом забрался в бричку, нервно дернул вожжи, и помчался по улицам Березовки в сторону тока, где заканчивали провевать на удивление обильный в этом году урожай ржи.








