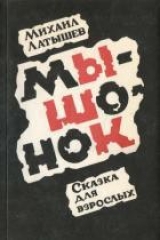
Текст книги "Мышонок"
Автор книги: Михаил Латышев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 11 страниц)
6
Наступили тревожные времена. Железная махина, которая поначалу так уверенно, с такой жестокостью катилась на восток, сначала остановилась, натолкнувшись на неожиданное препятствие, затем медленно стала пятиться, оставляя позади себя выжженное пространство.
Со злорадством следил Левашов за Тонькой – она вдруг стала богомольной, вечера напролет стояла на коленях перед иконой и все молилась, истово осеняя лоб крестом.
– Че дурочку из себя корчишь? – хмуро спрашивал он. – Надеешься спастись? Вряд ли получится.
Тонька испуганно косилась на него, повязанная черным старушечьим платком, а Левашов со сладострастной злобой продолжал:
– Господин Визен, начальник твой, спасется, а тебя, сволоту, к стенке поставят. Не посмотрят, что сына имеешь.
– Это ж твой сын, Вася. Как ты можешь так говорить?
– Был мой, а стал Мишки Митрофанова. Или господина Визена. Чей, признавайся? Имячко выбрала ему: Генрих!
– Твой сын, Вася, твой. Не греши.
– Ничего не знаю, сына у меня нет. И не было.
Несмотря на злые перепалки, ночами они бездумно и горячо стремились друг к другу. Ночи словно затем были даны им, чтобы они на время могли отрешиться от панических дневных мыслей, пугавших неизвестностью.
В одну из ночей, лаская Левашова, Тонька нежно прошептала что-то по-немецки. И раньше, краем сознания, Левашов догадывался, что Тонька спала со всеми подряд. Если не со всеми русскими, то с немцами – точно. И давно уже прошло у него опьянение от влюбленности в Тоньку, и теперешние их сумасшедшие ночи не от любви были жарки, а от страха скорей, от желания забыться. Однако нежные немецкие слова, сорвавшиеся с Тонькиных губ, такой звериной ненавистью наполнили Левашова, так обожгли, что он, вмиг охладев, став безразличным к Тонькиному телу, со всего размаха ударил ее по губам. Некоторое время Тонька не понимала, что произошло.
– Сучка! – бушевал Левашов. – Подстилка! Курва продажная!
Кровь капала с Тонькиных губ на подушку. Скуля, Тонька тихо плакала. В соседней комнате заплакал сын. Наскоро одевшись, Левашов выскочил во двор.
Бархатистая ночь светилась голубоватым лунным светом. Свет этот, широко и привольно ниспадающий на сонные дома и деревья, какой-то неземной отрешенностью наполнил Левашова. Он вспомнил, как осенью сорок первого года пробирался по лесным чащам домой. Вспомнил щемящее чувство, с каким смотрел тогда на звезды. И сейчас Левашов поднял глаза к небу. Звезды едва были видны на светлом от лунного свечения куполе.
Удивленно и с жалостью смотрел Левашов на себя со стороны. Он узнавал и не узнавал себя. Он верил и не верил, что это он, Васька Левашов, стоит, задрав голову к небу, и в глазах его, почерневших от виденных смертей, холодно и пусто отражаются искорки небесного огня.
На крыльцо вышла Тонька.
– Уйди, гадина! – прорычал Левашов.
Она, словно не слыша его, стала рядом, зябко повела плечами и, тоже почувствовав очарование ночи, сказала:
– Тихо, пусто… Будто, кроме нас, никого нет…
– Я тебе сказал: уйди!
– Васенька, милый, я виноватая, знаю. Прости, Вася. Думай, что хочешь, но я без тебя не могу. – Тонька приникла к Левашову, словно ничего не было.
Он сделал шаг в сторону, и Тонька, не ожидавшая этого, покачнулась, чуть не упав, но вовремя придержалась за стену.
Железная махина уже не просто пятилась, а панически катилась назад, дребезжа рассыпающимся мотором. Помаленьку в городке стало заметно бегство немцев. Исчезли кое-какие учреждения, меньше солдат ходило по улицам и не столь властно звучали их голоса.
Тонька укладывала вещи. Их набралось немало. Особенно у нее.
– Я считаю, Вася, у нас один путь теперь – на запад, – говорила Тонька. – И придется двигаться туда. А что делать?
– Идти к своим и каяться.
– Ты иди, если дурак, а я… Может, не пропаду.
– Конечно, не пропадешь. Немцы тебя любят.
– Вась, ну хватит, честное слово! То было по глупости, теперь я от тебя ни на шаг, по гроб жизни будем уже вместе.
– А гроб-то недалеко. Вот-вот нас с тобой прихлопнут. И неизвестно кого первого: меня или тебя.
– Не каркай! Я девочка не из тех, которые сразу сдаются. У меня, Васенька, зубы есть, я кусаться буду.
Недели две они жили на узлах, в любую минуту готовые двинуться следом за немцами. Однако минуту эту они проглядели – в середине ночи немцы неожиданно ушли, бросив на произвол судьбы Левашова, Тоньку и еще десятка два им подобных. Даже обрусевший немец Краузе оказался брошенным. Может быть, он больше всех негодовал на поведение сородичей. Ох, каким отборным русским матом крыл он их, с каким азартом и силой! Но после, отойдя, он же и предложил: двигаться следом.
Занимался хмурый рассвет. Черные силуэты елок и берез стояли с двух сторон дороги. Где-то позади бухали орудия, над головой пролетали невидимые за плотными облаками самолеты.
Молчаливой толпой шли они. Впереди нестройной колонны ехали две телеги, на которых горбились их пожитки. Тонька пристроилась на второй телеге, посадив рядом сына. Левашов шагал чуть позади, тоскливо размышляя: почему он плетется вместе со всеми неведомо куда? Ради Тоньки, может быть, или сына? Да плевать он хотел с высоченной колокольни и на нее, и на него. Зачем же тогда бредет этой сумрачной дорогой, настороженно прислушиваясь? Неужто другого пути нет? Неправда, путь есть: стать мышонком, исчезнуть до тех пор, пока не утихнет все вокруг и не уляжется песок на дне взбаламученного людского моря, потревоженного этой невиданной в истории бурей. Так, что ж, почему идет со всеми? Неужели все-таки из-за Тоньки? Чепуха! Она ему не нужна. Уже никаких чувств не пробуждается в нем, когда он смотрит на ее острое личико. А как противно она ест! Только в последнее время Левашов заметил это. Во время еды челюсти Тоньки движутся быстро-быстро. Глаза возбужденно горят. Пухлые губки и щеки тоже наливаются огнем возбуждения. То и дело Тонька зыркает по сторонам, будто боится, что кто-нибудь отнимет у нее еду. Она становится похожа на стрекозу.
– Руки вверх! – раздалось из-за кустов.
– Живей, живей! – скомандовал другой голос, в котором слышалась веселая ехидца.
Лошади испуганно всхрапнули и застыли на месте, резко остановленные кем-то. Тонька заголосила. Краузе направил автомат в ту сторону, откуда раздались голоса, но выстрелить не успел – его опередили, и он свалился у самых ног Левашова, выкатив вмиг остекленевшие глаза.
«Вот и конец», – подумал Левашов, как человек, а через секунду он уже не был человеком: мышонок нырнул в мокрую от утренней росы траву, дрожа то ли от страха, то ли от холода. И то, что происходило сейчас на глухой лесной дороге, к нему никакого отношения не имело. Мышонок зябко водил из стороны в сторону остренькой мордочкой, ища где бы спрятаться.
В завязавшейся перестрелке лошади панически рванули вперед. Передняя телега перевернулась на обочине. Вторую, в которой сидела Тонька с сыном, ждала та же участь, но каким-то чудом этого не случилось, и лошади все неслись и неслись по лесной дороге – их подгоняли не только выстрелы сзади, но и истошный крик ребенка. Сначала Тонька успокаивала его, а потом грубо зажала рот ладонью: «Замолчи, зараза!» Она поверила в свое спасение, лишь увидев немецкий пост на въезде в незнакомую деревню…
III
Мышиный Бог
1
Всю ночь после того, как похоронили деда Ознобина и странницу, хлестал дождь. Юный гром недовольно рокотал что-то, а молоденькие молнии вспарывали темень, падали в болота за Березовкой и там с белым шипением остывали, и из болот поднимался туман, все шире и шире расползаясь по округе.
Утром небо было чистым, без единого облачка. Ласково грело солнце. Деревья весело стряхивали с себя влагу, напоминая резвящихся в речке детей – наверное, потому, что и капли, летящие с веток деревьев, и брызги воды, взбаламученной детьми, одинаково ярко блестели, преломляя солнечный свет.
Ванька Зайцев стыдился выходить на улицу. Он помнил свое натужное веселье в тот день, когда вернулся в Березовку. И не один, а с этим… С убийцей… Ванька винил себя в гибели деда Ознобина и странницы, себя считал виноватым в том, что тронулась умом девчонка и в том, что оказался у сестры на руках выкормыш Шилова.
Целый день он слонялся по избе из угла в угол, чувствуя, что внутри него творится что-то непонятное, тревожное, освещенное мерцающим светом боли. Боли? Не только. Ваньке и стыдно было, и он готов был проклясть себя за слепоту и беззаботность, с какими шагал по жизни, думая что так и надо, что это, и только это, очень правильно. Ванька шептал про себя длинные речи – и такие складные, такие умные, какие отродясь вслух не говорил: ума не хватало или не приучен был?
Капитолина не раз интересовалась: что с ним, не заболел? Ванька мрачно смотрел на нее, не сразу соображая о чем она спрашивает, и отрицательно крутил головой. Капитолина заставляла его поесть, несколько раз выставляла еду на стол, но Ванька садился к нему, отщипывал кусочек хлеба, долго и бессмысленно жевал и вставал из-за стола, ни к чему больше не притронувшись.
– Ну что с тобой, что? – едва не плакала Капитолина. – Не мучь, скажи.
– Про такое не скажешь, – вздыхал Ванька. – Совесть терзает.
И он опять ходил из угла в угол, замечая как перемещается сноп солнечного света по стене, ползет по полу, взбирается на другую стену, и все тускнеет и тускнеет, все холодней и холодней становится.
В сумерках он пришел к Марии. Племянник спал. Ванька мрачно смотрел на него, и чем больше смотрел, тем яснее видел, как страшно тот похож на отца.
– У, гаденыш! – скрежетнул зубами Ванька.
Мария загородила сына спиной и распростерла руки:
– Он не виноват… Он ни при чем… Успокойся… Успокойся…
Ванька вяло сел на табурет, сделанный Шиловым. Недавней злобы как ни бывало – с тоской и жалостью смотрел Ванька на сестру. Мария, видя, что брат притих, опустила руки, обмякла и тоже с тоской и жалостью смотрела на Ваньку. Несколько минут они молчали, потом рыдания стали трясти тело Марии, и Ванька подбежал к ней, обнял за плечи, неуклюже погладил по голове.
– Ну че ты? Че? – Вот и все слова, которые он нашел в себе, чтобы утешить сестру.
Племянник заворочался, поднял над подушкой голову, с трудом разлепил склеенные сном ресницы, увидел плачущую мать и зашелся ревом.
Плач сына заставил Марию подавить собственные слезы. Она склонилась над ним и, всхлипывая, стала уговаривать, чтобы он успокоился, ложился, засыпал. Ванька опять сел на табурет, сделанный Шиловым, но в сторону сестры и племянника не смотрел – тупо разглядывал половицы, по которым был разлит жирный красноватый свет керосиновой лампы.
Вскоре племянник снова спал. Ванька хмуро продолжал рассматривать половицы.
– Несчастные мы, несчастные, – прикрыв рот ладонью, заголосила Мария. – Одна за другой беды на нас. Хватит уже, хватит! Я спокойно жить хочу! Ой, Ваня, Ваня… Ваня, Ваня… Чем я провинилась перед богом, что он так? Чем, Ваня?
– Да кончай ты ерунду городить, – недовольно сказал Ванька. – Не приплетай бога, я виноватый. Не будь меня, не появился бы этот гад в Березовке. На мне все висит, Мария: и дед Ознобин, и старушка, и твои слезы. А что будет с этим? – кивнул Ванька в сторону племянника. – Ему не жить в Березовке, каждый будет тыкать ему в глаза отцом.
Ванька несколько раз размашисто прошелся по горнице. Тень его, лохматая по краям, металась по стенам и потолку.
– Я должен его найти! – Ванька остановился перед сестрой. – Во что бы то ни стало! Поймаю сволочь – собственными руками придушу.
– Ваня, да ты что? – испуганно задохнулась Мария.
– Ладно, не буду. Я только свяжу его, суку, и куда надо доставлю. Там разберутся, что с ним делать. Смерти ему не миновать. За все получит сполна. Что заслужил, то и получит.
– Ой, Ваня, Ваня… – заскулила Мария. – Ваня, Ваня…
– Муж он тебе, да? – недобро осклабился Ванька. – Жалеешь? Ну, жалей, жалей…
– Да не его я жалею, себя мне жалко до слез. И его, – кивнула головой в сторону спящего сына Мария, как недавно кивал Ванька.
Неожиданно для самого себя, Ванька на цыпочках подошел к племяннику. Тому, видать, было жарко, и мелкие капельки пота выступили у него на лбу. Щеки пацана горели румянцем. Голубые тени лежали вокруг глаз, под подбородком (острым, как у Шилова) и под щекой, на измятой подушке. Ваньке стало жалко ни в чем не повинного ребенка. Хотя тот так страшно походил на Шилова, но в нем ведь и зайцевская кровь текла, он и сыном Марии был. Ванька почувствовал, что может заплакать, и недовольно буркнул про себя: «Этого не хватало!»
Мария внимательно смотрела на брата. Глаза ее успели высохнуть. Только на щеках остались следы от слез.
– Ваня, – тихо сказала Мария, – может, нам уехать из Березовки?
Ванька ответил сразу – видно, думал на эту тему:
– Так лучше всего. Люди всюду живут. На том же языке говорят, что и мы.
– А куда ехать-то? Страшно.
– Ну живи в Березовке, раз страшно. Только…
– Да знаю я, думала уже. Сын ведь, Ваня, ни в чем не виноват. Он-то при чем?
– Ни при чем. Но на чужой роток не набросишь платок. Рано ли, поздно, кто-нибудь скажет ему правду об отце. Поняла, нет?
– Что я там делать буду?
– Жить, елки-палки! Рабочие руки всюду нужны. А руки у тебя есть. С голоду не подохнешь.
– Страшно.
Ванька хмыкнул: что, дескать, на это ответишь?
– Ладно, пошел я, – он приблизился к Марии, собрался еще раз погладить ее по голове, уже протянул руку, чтобы сделать это, но на полпути опустил, резко отвернулся и выбежал из избы.
Мария подошла к окну. Внезапный страх уколол сердце – ей показалось, что кто-то следит за ней с улицы. Она испуганно вскрикнула и заметила, что тот, следящий за ней, тоже в испуганном крике приоткрыл рот, расширил глаза, отшатнулся от окна, пытаясь заслониться растопыренной пятерней. Не сразу Мария поняла, что испугалась собственного отражения. Поняв, принялась разглядывать себя.
За эти дни она очень похудела. Никогда, даже в самые тяжелые времена, глаза ее не наливались такой тягостной печалью. И хоть раньше Мария всерьез не относилась к богу, в эту минуту она повернулась в угол, где когда-то висели иконы, и перекрестилась:
– На все твоя воля, господи. Прости меня, грешную.
Сын что-то пробормотал во сне, освободился из-под старого пальто, которым был накрыт, и привольно раскинулся, беззвучно шевеля губами. Румянец на его щеках поблек. Голубые тени растаяли.
Со слезами на глазах смотрела на сына Мария, но были это слезы радости и умиления.
2
Утром Ваньку вызвали в правление. В председательском кабинете сидели два милиционера из района и кто-то седой, в невзрачном сером пиджаке.
– Известно, зачем вызвали? – спросил один из милиционеров, устало и хмуро.
Ванька ждал, что на него будут кричать, и тихий усталый голос милиционера еще больше насторожил его.
– Не совсем дурак, чай, – сказал второй милиционер, – должен догадываться.
– Должен? – усмехнулся первый. – Так и раскусить, казалось бы, с кем сошелся, тоже должен. А не понял ничего.
Милиционеры говорили друг с другом, словно давая Ваньке возможность опомниться, прийти в себя, хоть чуточку успокоиться, чтобы он мог потом связно и толково отвечать на их вопросы.
– Кстати, Зайцев, – сказал первый милиционер, – ты меня не признаешь? Это я тебя арестовывал, когда ты в магазин залез.
– Напомнили, узнал, – хрипло ответил Ванька.
Мужчина в сером пиджаке молчал, но по редким взглядам, которые бросали на него милиционеры, чувствовалось, что он среди них главный.
– Как считаешь, зачем мы тебя позвали? – спросил второй милиционер.
– Чтоб про Шилова рассказал.
– Ну вот, – с усмешкой повернулся второй милиционер к первому, – башковитый мужик, сразу обо всем догадался.
– А про что еще со мной говорить? Пока не набедокурил, – пожал плечами Ванька.
– Ну тогда давай про Шилова. Все, что знаешь, – постучал костяшками пальцев по подоконнику первый милиционер. – И договоримся – только правду, только правду.
– Скрывать мне нечего, – сказал Ванька, – хотя виноват я, конечно, здорово. Но вы его видели, этого Шилова, нет? Ни за что не подумаешь, что подлюга. Да и работящим был, этого у него не отнимешь.
– После расстрелов он обыкновенно вырезал из липы ложки, – подал голос мужчина в сером пиджаке, – не мог без дела сидеть.
Стало тихо. И милиционеры, и Ванька ждали, что мужчина еще что-нибудь скажет, но тот молчал, исподлобья разглядывая Ваньку.
– Как вы познакомились? Расскажи, – нарушил молчание второй милиционер.
– На целине. Случайно можно сказать. На вокзале. Откровенно говоря, не получился из меня герой – навострил я лыжи оттуда. На вокзале в Павлодаре встретил его. To-се, пятое-десятое, разговорились, выложили все друг перед другом и, вроде бы, понравились один другому. Мне его жалко было очень – он говорил, что у него вся семья в оккупацию пропала и что я напоминаю ему младшего брата.
Мужчина в сером пиджаке начал расхаживать по председательскому кабинету, подошел к шкафу, с которого свисал небольшой сноп сухой пшеницы, прикоснулся к одному из колосьев и сизая пыль запорошила его пальцы. Ванька следил за мужчиной, потеряв нить рассказа.
– Ну а дальше, дальше? – нетерпеливо спросил первый милиционер.
Ванька перевел глаза с мужчины на милиционеров, которые стояли рядом у окна.
– Приехали сюда. Он женился на сеструхе, если можно считать, что женился. По крайней мере, ребеночка сделал. А потом… Потом известно, что случилось…
– Странный народ, русский народ, – вдруг сказал мужчина в сером пиджаке. – Мягкосердечные мы какие-то. До безобразия мягкосердечные. Вот слушаю я вас, Зайцев, и недоумеваю: сейчас-то вы как к нему относитесь? Неужели по-прежнему жалеете? Судя по всему, нет. И все-таки жалостливые нотки проскальзывают. Я вас не осуждаю. Похоже, это наша национальная черта – хорошо относиться даже к закоренелым подлецам, даже убийц жалеть иногда.
– Да, такие мы, – согласился Ванька.
– Плохо это, хорошо? Как думаете?
– Думаю как? До сейчас никак не думал, а теперь надо бы подумать.
– Впрочем, – совсем другим тоном сказал мужчина в сером пиджаке, – мы отвлеклись. Про Шилова давайте. Про Левашова, точнее. На самом деле его фамилия Левашов.
– Все, что знал, сказал.
– Мало ж ты знаешь! – ухмыльнулся второй милиционер.
– А вы больше? – зло спросил Ванька. – Мое дело: знать мало. Чем меньше, тем лучше. Это вам, начальникам, все полагается знать. Я виноват, не спорю, но и вы…
– Зайцев, притормози, – с угрозой сказал второй милиционер. – Не о том рассуждаешь.
Мужчина в сером пиджаке кашлянул, милиционеры, одеревенев, повернулись к нему, и Ваньке еще яснее стало, кто из находящихся в кабинете главный.
– Хорошо, Зайцев, идите, – сказал мужчина. – Но советую забыть нашу беседу. Считайте, ее не было.
Ванька, почувствовавший, что ничто не угрожает ему, с вызовом спросил:
– А мужики станут приставать, что отвечать?
– Скажите, вызывали за прошлое. За магазин, – посоветовал мужчина в сером пиджаке.
– А вообще как мне быть после всего? – с болью спросил Ванька. – У меня же внутри все кричит… Не могу…
– Живи, как жил, – сказал первый милиционер.
– Не получится.
– Точно, не получится, – согласился мужчина в сером пиджаке. – Что-то новое начнется в вашей жизни.
Голос его был бесцветен и печален. Казалось, мужчина не только прекрасно понимает Ваньку, но и сам ощущает то же самое, что и Ванька, а, может быть, сильней и острей, и, может быть, по той же самой причине: винит себя в смерти деда Ознобина и странницы. Именно поэтому, выходя, Ванька внимательно посмотрел на него и решил еще раз поговорить с мужчиной. Но без свидетелей, если получится.
Перед правлением лежали неочищенные от коры сосновые бревна. На них Ванька и сел. Нервничал, достал из кармана помятую пачку папирос, закурил. Шагах в трех от него алели несколько жучков-пожарников, которые, замерев, грелись на солнце.
К Ваньке подошел незнакомый парень:
– Огонек есть?
– Прикуривай, – протянул ему спички Ванька и поинтересовался, кивнув в сторону правления. – С ними приехал?
– Ну? – то ли ответил на вопрос, то ли неласково спросил в ответ парень, – а тебе, собственно, какое дело?
– Этот, в сером пиджаке, кто? – не заметив нежелания парня говорить, задал новый вопрос Ванька.
Парень промолчал.
– Ух, елки-палки, тайна! – засмеялся Ванька.
– Не надо лишних вопросов задавать, спокойней спать будешь, – сказал парень.
В это время на крыльце правления появился мужчина в сером пиджаке. За ним шли милиционеры и неизвестно откуда взявшийся новый председатель колхоза. Ванька торопливо вскочил, вдавил недокуренную папиросу каблуком в землю. Мужчина в сером пиджаке направился к Ваньке. Сопровождающие его двинулись следом, но он легким кивком головы остановил их.
– Поговорить со мной хотите? – спросил мужчина.
– Вы его знали, что ли? – Ванькины губы пересохли от волнения. – Мне так показалось.
– Немного. Почти не знал. Два раза виделись – и все. По-моему, он далеко не ушел, где-нибудь поблизости прячется, пережидает. Может быть, однажды ночью к вам постучится или к вашей сестре. Будьте готовы.
– Пусть стучит, – зло сказал Ванька, – его ждет ласковый прием.
– Но вы… – предостерегающе поднял брови мужчина.
– Понимаю, не маленький. Живым доставлю куда надо. Вот разве убегать станет и морду немного поцарапает. Так в том моей вины нет.
Со скрытой улыбкой они посмотрели друг на друга. И хотя улыбка была, вроде бы, неуместна сейчас, все-таки она появилась, вспыхнув тихим огоньком и сразу погаснув.
– В районе знают, где меня найти, – сказал мужчина в сером пиджаке. – Если что, обращайтесь прямо туда.
Ванька согласно кивнул. Разговор с мужчиной вернул ему спокойствие, которое, правда, не заглушило ни боли, ни сосущего чувства вины в смерти деда Ознобина и безвестной странницы.
Раньше и боль, и вина в смертях были какими-то кипящими, обжигающими Ваньку горячими брызгами изнутри, теперь же они ровным жжением напоминали о себе, и одно только могло погасить это жжение: надо найти Шилова, заломить ему руки за спину, бросить его, униженного, на землю. Если это сделает кто-то другой, жжение станет вечным – до скончания дней нипочем не избавиться Ваньке от боли и вины.
Мужчина в сером пиджаке словно угадал состояние Ваньки, и ни о чем больше говорить не стал, лишь ободряюще прикоснулся к его плечу и решительно зашагал к поджидающей его машине.








