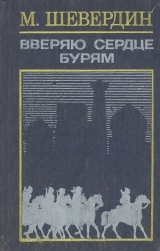
Текст книги "Вверяю сердце бурям"
Автор книги: Михаил Шевердин
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 29 страниц)
«Скупой Мерген» – звали за глаза его, особенно молодые. «Придира. Скряга».
Да, он был бережлив и даже скуп. «Бороду свою в делах побелил». Принимая гостей, разрешал подавать на дастархане немного лепешек. И его за это попрекали. А на самом деле он просто бережно обращался с каждой крошкой, с каждой сухой корочкой. Он знал по себе, как трудно быть пахарем. Хлеб – святыня. «Наломают лепешки, разбросают, затопчут». Потому же и ни одна рисинка от плова не должна попасть на пол или палас. «Мы-то пахали и сеяли, они сбоку припеку из тех, когда небосвод строили, кирпичи носили». Кто не знает, какой нечеловеческий труд тратят рисоводы под знойным полуденным солнцем. Сколько воды и пота надо пролить на рисовых чеках, чтобы вырастить эти нежные, тучные зеленые метелки, дающие белые, прозрачные зерна, такие сытные в плове или молочной каше.
Очень скупо отмеривал он чай для заварки. Скупость шла еще от старых времен, от тех времен, когда чай в Туркестане ценился чуть ли не на вес золота, а в период разрухи и гражданской войны и взаправду шел вместо денег: за пять пачек чая выменивали целого барана, а в калым за юную невесту могли дать и сотни две пачек самого что ни на есть высокосортного байхового «кок-чая». Часто гости могли наблюдать картинку семейного быта – дверь в мехмонхану приоткрывалась, и у порога на циновку нежная в перстнях и браслетах ручка выставляла два-три чайника, и тоненький голосок сухо приказывал: «Берин! Дайте!» Хозяин, кряхтя, поднимался, чуть ворча и шаря в кармане, направлялся к цветастому, обитому пластинками цветной меди сундуку, со звоном поворачивал ключ в замке, вздыхая, отсыпал из мешочка чай, направлялся к чайникам и аккуратно, чуть ли не отсчитывая чаинки, засыпал заварку в каждый чайник. Да, чай ценился. По старой памяти он ценится и сейчас.
А Мерген сохранил привычку скупиться с чаем. Привычка! Экономию, правда, он соблюдал во всем. Оставшиеся после праздничного угощения-тоя в колхозе продукты он брал под свой личный контроль, не доверяя своим завхозам и югурдакам, «которые на деле оставляют зазубрины». Даже оставшийся в котлах плов, как говорится, брался на учет. А уж там вареные куры, баранина, сало, конфеты, фрукты – все аккуратно складывалось в посуду и коробки и отправлялось... Вот тут-то и пилоязычным, и прихлебателям позлословить, назвать председателя «собакой жадности», которая и зернышка проса не упустит – мало ли есть в колхозе обиженных и завистников у председателя, державшего в руках бразды товарищества... Да только у длинноязычных да шлепающих губами сразу же «поток иссякал». К месту, где устраивался только что той, подъезжала шустрая ишак-арба. На нее грузили коробки и кастрюли. Арба быстро исчезала, а так как она обслуживала сиротский интернат, всем оставалось лишь благоразумно попридержать языки.
Все это Мерген называл разумной скупостью. Черта эта являлась неизгладимым следом бедности, когда Мерген жил на горе в своей дымной хижине-полупещере и «делил каждую рисинку на четыре части». Сейчас он распространил скупость на артельное имущество.
Бережливый, Мерген был бережлив не для себя, а для всего товарищества. У него не пропадала коробочка хлопка, колос пшеницы, кисть винограда, литр молока... Он пренебрегал теми, кто его ругал. Щедрый покупает себе хвалу, бережливый заслуживает. И самое удивительное: он никого в своем кишлаке не наказывал, ни на кого не повышал голоса. Председатель сажал провинившегося перед собой и «весь кипящий и в то же время холодный», долго смотрел на него с укоризной. Получалось так, что виновный не дожидался, когда председатель предъявит ему обвинение, а сам заплетающимся языком, в полном расстройстве принимался «объясняться». Потом решалось, может ли человек, не стоящий и одного ячменного зерна, оставаться в своей должности, или продолжать выполнять работу, или вообще оставаться в коллективе. Нечестных в артели не держали. «Надо вести хозяйство, чтобы ни вертел не сгорел, ни шашлык не подгорел».
Правда, скупость председателя порой доходила до смешного. Живя по многу дней в горной хижине, он спал на тоненькой, старенькой курпаче, кипятил чай в допотопном «обджуше», сам чинил старенькие, но столь удобные для хождения по щебенке и камням «мукки». Отправляясь, обычно по заданию командования Красной Армии, в далекий путь по кочевьям и пастбищам туда, где, как поется в старинной песне, «зеркальные озера есть, в тех озерах вода вкуснее сахара-леденца», он никогда не брал из артельной конюшни коня, – хотя это полагалось ему по должности, – а шел пешком до первого кочевья километров за двадцать. После чаепития и деловых и неделовых бесед он говорил: «Да, халат свой я оставлю повисеть _на колышке у вас, а мне дайте тулупчик, да и пешком я дальше не пойду – ноги что-то гудят». Он облачался в тулуп, так хорошо защищавший от горных ледниковых ветров,, садился на подведенного ему коня и отправлялся дальше. Мерген не видел ничего предосудительного в своих поступках. Кроме того, он никогда не брал с собой командировочных, полагаясь на «мехмончилик», и даже искренне бы удивился: «Да что вы? С гостя никто и пять копеек за пищу не возьмет. Да такое горное чудище Гули-Биобон с кишлаками слопает... А потом я ради них же самих тружусь, неделями по горам и оврингам скитаюсь. Чашка кумыса, да сухой кусок лепешки для своего председателя у них всегда найдется». Справедливости ради следует сказать, что он воспрещал по случаю своего прихода в аул резать барашка или устраивать особое угощение, что все знавшие его с горячностью рвались делать. Он не допускал, чтобы «ветер трепал его бороду».
Никто точно не знал, сколько лет Мергену. Его сверстники, его близкие родственники-одногодки покончили с делами земными, но всякий, кто его знал, невольно проникался уважением к нему. Председатель не бросался словами, а забивал их, словно гвозди. Он ездил по ущельям и ледникам на коне с неутомимостью юноши. Глаза Мергена со взглядом орла замечали малейшие перемены в горных селениях и на пастбищах. Горе тому, кто лапой тянулся к мирным пастухам и селянам. «Да что, бараны ваши, что ли?» – впадал в ярость какой-либо попавшийся басмач.
В том-то и дело, что они были не его, а общественные.
Мерген по многу дней скитался на «самом верху» у перевалов.
Когда же в долине Ахангарана и в горах происходил перерыв и в военных операциях, красноармейские части получали роздых, он возвращался отдохнуть к себе на гору. Уходил своим размашистым, величавым шагом. Лишь на крутых подъемах горец забрасывал полы ча-пана на поясницу, закидывал руки с посохом назад и, слегка согнувшись, ритмичным шагом поднимался по крутой тропинке, напрямик вверх, минуя серпантин каменистой дороги, по которой ездили на ишаках и верхом, а иногда даже и на арбе. Дорогу проложили по почину Мергена еще во второй год Советской власти, но не для того, чтобы легче было добраться до мергенового жилища, всем известного под названием Горное убежище, а потому, что за хижиной и перевалом начинались джайляу, где летом тилляусцы выпасали свой скот. То была очень важная отрасль хозяйства селения Тилляу.
Новой дорогой сам Мерген не пользовался. Сильный, могучий, он ходил крутыми тропами и головоломными лестницами из накиданных природой скал и камней.
Ходил Мерген один и жил в своем Горном убежище одиноко.
Для блага мыслей!
Да будет высок холм,
На который мне подниматься,
О, одиночество,
самый дорогой спутник,
И иду я туда,
куда влечет меня Млечный Путь.
Эти поэтические строфы Мерген обычно не декламировал, а напевал на заведомый мотив под тихое позвякивание кобуза, сухое и постукивающее, словно падающие маленькие брусочки дерева. И, закончив, неизменно речитативом объявлял:
– Так сказали вы, о поэт, философ ававитянин Аш Шантара.
И тогда в его глазах читалась мечта и даже нежность мечты. Кто бы мог подумать, что в человеке с таким грубым, побуревшим от горных ветров лицом с хрящеватым носом, сухими скулами, с упрямым подбородком скрывается мечтатель. А Мерген всю жизнь мечтал. Он мечтал с голодного, нищего детства о справедливой светлой жизни. И не только для себя. Для людей.
Мечтал он и теперь, когда часами сидел, любуясь синими горами на пороге своей хижины. Но сейчас к мечтам примешивались удовлетворение и торжество.
Мерген был одинок. Семейная жизнь у него не сложилась. Его детей жизнь разбросала далеко. Но он не чувствовал себя одиноким, ибо его путь шел среди людей. Он воевал за власть народа, за Советы.
Мерген не был тщеславен, но то, что Красная Армия сразу же с первых дней гражданской войны нашла в нем необходимого, полезного проводника, преисполняло его чувством гордости. Все эти годы он был в рядах армии и, как говорилось, на переднем крае – разведчиком.
С началом решающих операций под Бухарой он очутился в самой гуще событий, более того – во дворце эмира.
Когда и как он придумал способ проникнуть в Ситоре-и-Мохасса? Кто знает.
Но способ был идеальным и остроумным. Что угодно мог вообразить эмир, но только не появление разгневанного тестя – отчима Наргис.
Что ж, согласно устоям адата, приходилось принять этого неизвестного ему человека со всей любезностью и вниманием, допустить до своей особы и даже распорядиться оставить их вдвоем наедине для родственного разговора.
Иначе нельзя. Обычай есть обычай. А обычай требует относиться к отцу жены как к своему собственному.
Таким образом, разведчик Красной Армии, горный охотник Мерген проник в летнюю резиденцию эмира, охраняемую и оберегаемую столь тщательно, что, казалось, за стены ее не могла проскользнуть и мышь.
Теперь можно и действовать вместе с сыном и, прежде всего, не дать возможности Сеиду Али мха ну бежать от народного гнева.
XIV
Зло настигает того, кто его совершил.
Арабская пословица
Сон горца чуткий, нервный, даже если старые кости Мергена покоятся не на жесткой соломенной подстилке, а на подлинно эмирских мягких курпачах – тюфячках, подбитых шелком и бархатом. И даже если сновидения тягостные, мутные, вроде того, что кого-то тащат волосяной веревкой за шею с явным намерением отрубить ему голову.
– Тьфу! – бормотал с трудом приходящий в себя Мерген, – в сем эмирате за дурные дела – милосердие без справедливости, за добрые дела – справедливость без милосердия...
– Пред вами, – прозвучал невнятно голос в сумраке расписной мехмонханы, – я... сам... от милости аллаха, то есть, это вы, уважаемый тесть самого халифа, то есть наш тесть... иншалла! Довелось свидеться в такой час тревоги, смятения всеобщего... Не могли встретить достойно отца любимой супруги, цветка красоты Наргис... в отлучке мы... придворные люди получат палок и плетей... Разве так принимают во дворце тестя эмира?.. Эй, люди! Проклятие!.. Все сюда... О боже, какой миг ужасный!..
В мехмонхане едва пробивался сквозь щели ставень длинный голубой луч луны. Зайчиком он колебался на мучнисто-белых щеках и лбу эмира, оставляя черные провалы глазниц и превращая лицо, обрамленное черной бородкой, в лик мертвеца.
Мерген отплевывался, бормотал молитвы. Говоривший с ним человек, судя по всему, сам эмир Сеид Алим-хан, был более похож на призрак, чем на живое существо. И приятный голос прерывался на каждом слове, и фразы превращались в какую-то мешанину из обрывков странных слов.
Что это?
Продолжение сна? Видение? Бред?
– Ох,– забормотал Мерген,– поистине, где я? И неужели...
Все-таки Мерген добился своего. Как ни пытался помешать хитрец дарвазабон, как ни приставляли к груди его копья и сабли стражники, как ни тянул его назад в полном смятении Баба-Калан, но в какой-то момент, пользуясь всеобщей суматохой, Мерген проник во внутренние роскошные покои дворца. В зеркальном, он, отстранив прислужников, уселся по-хозяйски на груду одеял, подложил под локоть бархатную подушку и, все еще задыхаясь от борьбы, проговорил свирепо:
– А ну-ка, шакалы, троньте тестя эмира!
Для наглядности он передвинул вперед на поясе свой узбекский нож в кожаных, дорогого тисненья ножнах.
– Подать чаю... Тестя эмира жажда мучит.... Ну!
Он медленно попивал эмирский высокосортный чай.
Покрикивал на мечущихся суетливыми тенями прислужников, ошалевших, не знающих, что им делать с этим горцем, голос которого приводил их в трепет.
Мерген вызвал много суеты и беготни, казалось, весь дворец жужжал, как растревоженный улей.
Но эмир так и не появлялся. Впрочем, это выяснилось позже: он и не мог появиться. Он отсутствовал – находился в городской своей резиденции – в Арке. Под гул и гром орудий он предпринимал неуверенные попытки заставить что-то делать впавших в панику и смятение советников.
Часа два он просидел в комнате с радиопередатчиком – последней новинкой техники, понукая дрожащим голосом радиотехника-индуса и присутствующих военных советников из зарубежных стран. Радиотехник делал отчаянные попытки связаться с Мешхедом и передать призыв эмира Лиге Наций о помощи. Но телеграмма «Большевики штурмуют стены Бухары»—так и затерялась в пространствах эфира. Передатчик трещал, свистел, хрипел. Аппарат был слишком несовершенным, а радист неопытен. Благовоспитанный англо-индийский юноша запутался в кнопках, проводах, лампах. Он ничего не мог уловить в наушниках и побелевшими губами спрашивал у окружающих: «А комиссары далеко?»
Так или иначе Сеид Алимхан был занят делами, а Мерген свирепел от ярости и голода. Разве он мог притронуться к яствам, поданным на шелковом дастар-хане, пока «их высочество» зять не пригласит «канэ мархамат» – откушать.
Мерген неожиданно заснул на подушках, сломленный усталостью. Он не спал уже трое суток и, вполне естественно, что гнев оскорбленного отца был пересилен крепким, мирным сном.
Поздний час заставил знакомство зятя с тестем скомкать на нет.
Да и сам Мерген не мог спросонья сразу опомниться. Он только гудел басом:
– Господин... их величество... Да что там... Я пришел говорить о дочери моей Наргис. Клянусь, если... Проклятие небес тогда на твою голову, тиран... Требую васику! Требую свидетельство о браке... по закону. Я отец, и мое право...
Бледный череп закружился, заплясал среди таких же черепообразных ликов. Певучий голос Алимхана прозвучал в темноте:
– Наш тесть, о... мы рады... даруем милость... высшую... премного довольны... Эй, назир, приступайте... Свечей...
И тут все закружилось, засуетилось в вихре халатов, чалм, колеблющихся язычков стеариновых свечей, в дыму не то исрыка, не то коптилок и светильников... Какие-то руки натянули на могучий торс Мергена дорогой зеленого сукна халат, затем шелковый, подбитый ватой, затем нестерпимо яркой расцветки, в широченную полосу – розово-оранжево-голубой. И каждый халат препоясывал самолично трясущимися руками поясным платком – бельбагом – сам Алимхан, у которого на белом лбу выступили капли пота.
Какой небывалый почет и уважение! Сам халиф завязывает на животе тестя пояса.
А тут на уже не могущего шевельнуть рукой горца надели – о высшая мера награды! – роскошно поблескивающий и мерцающий золотом и рубинами парчовый халат – эдакую пудовую ризу – и застегнули на животе бархатным поясом в четверть шириной, густо усаженным яхонтами, сапфирами, рубинами, бирюзой.
Из последних сил эмир Алимхан приподнялся на цыпочки и надел, нет, закинул на голову Мергена золототканую тюбетейку стоимостью в целый кишлак Тилляу со всеми домами, мечетями, школой слепых, рисовыми полями и кошами волов.
– Поздравляем.,. Уф, усталость... мучение, – Сеид Алимхан бессильно плюхнулся на курпачи и потянул за собой куль из халатов, в который превратился ошалелый Мерген. Он разевал рот глухо, гудя чтп-то про васику о браке. Но оказавшись в объятиях дорогого, столь обстоятельно гостеприимного тестя, да еще самого правоверного халифа, разве можно протестовать? – Муборак булсин! Поздравляю, – возгласил все так же ласково, певуче Сеид Алимхан... Пожалуйста, угощайтесь! Откушайте... Вас прошу... дорогой тесть мой...
Странный это был свадебный пир. А Мерген – разгневанный, обуреваемый самыми черными мстительными чувствами, – пытался добиться от Сеида Алимхана истины.
А истина эта заключалась, по убеждению Мергена, в том, что падчерица его Наргис делалась не женой, а одной из многочисленных наложниц эмира и что он должен требовать восстановления попранной чести девушки. А Сеид Алимхан всячески уводил разговор в сторону, юлил, дипломатничал. Он, Сеид Алимхан, сам не помнил, был ли заключен брак по шариату, существует ли васика – документ. И сейчас по всему дворцу Ситоре-и-Мохасса и даже в окрестностях разыскивали придворного муфтия, забившегося в какую-то щель от страха.
Проще было отмахнуться от всего, не обращать внимания на Мергена, Но Сеид Алимхан не желал в такой тревожной обстановке скандала и осложнений. Он плохо представлял себе, откуда «на его голову свалился» этот Мерген, кто он такой, но отлично знал нетерпимость своего бухарского народа в делах семейных, болезненную щепетильность в вопросах чести девушки и не хотел создавать лишних осложнений, когда весь порядок в эмирате закачался и затрещал.
И нужно же, чтобы эта история с девушкой Наргис всплыла в такой критический момент, когда сотрясались древние глиняные стены, а трон под эмиром ходил ходуном. Нельзя допускать ни малейшего шума. Люди эмира в покоях дворца говорили шепотом, делали все втихую... Сеид Алимхан готовился к бегству... И надо же!..
Проще всего... было приказать «успокоить» скандального старика. Но что скажет Наргис?
А ведь молодой, прекрасной Наргис было уже отведено место в первой, самой разукрашенной, крытой арбе... И если она узнает, что с ее отцом что-то случилось?.. Сквозь шум в ушах Сеид Алимхан совершенно реально услышал женский визг... ее, прекрасной Наргис. Визг! Вопль. Да такой, что разбудит все спящие тревожным сном окрестности дворца...
А нужна тишина... Полная тишина. Спокойствие...
Но человек оказался несговорчивым. Всякие царские яства Мерген поглощал с завидным аппетитом, но твердил нутряным басом свое:
– Мы не глина. На дожде не размокнем. Вы все говорите: «Я – зять, вы – тесть». Где бумага, где фет-ва с подписями и вашей эмирской печатью? Что я покажу у себя в селении старикам, а? Давайте, эмир, фет-ву. Вон сколько говорите, а фетвы нет. У говоруна ум на кончике языка, но язык не делается умом, а ум не становится острее... Ваши посулы, ваши обещания, эмир, – сто фазанов в кустах, а вы мне в руки дайте одну перепелку – фетву о законной вашей жене по имени Наргис.
И потом ни отличный плов, ни жареный барашек, ни халва, ни шербеты не могли заставить Мергена отказаться от требования позвать в мехмонхану его любимую дочь Наргис. Пусть она скажет своему отцу сама, своим языком, кто она—эмирша или наложница...
Этого еще не хватало. Чтобы шум и скандал поднялся на весь дворец. Сеид Алимхан прислушивался. Нет ли какой возни на женской половине. Там строго-настрого отдан приказ: всем собирать, укладывать свою мягкую рухлядь, грузиться в темном саду на арбы, пригнанные на песчаные дорожки. Все предупреждены: бабе, какая пискнет, – нож в горло.
И прелестная Наргис, разбуженная, поднятая с постели, поеживается от холодного дуновения предутреннего ветерка, натягивая на себя одежды, возится с вещами, идет по кочковатой глине в тьму, залезает в арбу на жесткий помост...
А тут еще Мерген пристал с ножом к горлу: позови ее! У самого Алимхана все внутри вздрагивало от нетерпения и ревности. Они уезжают, бегут из Бухары, а он не может быть рядом с ними, оберегать их от грубых прикосновений.
– Ляббай? Что вы сказали?
А, это голос, как из глиняного хума, этого джинна горных вершин.
– Надоел! Хватит!
Но, аллах велик, осторожно! Надо сдержать себя. Этот надоедливый великан – все же отец жены, с которой он, эмир, не провел еще брачной ночи в дозволенных супружеских наслаждениях.
– Успокойтесь... Фетва! Сейчас я покажу вам фетву. И Наргис? Сейчас... Я приведу вам Наргис, только не кричите... Недостойно здесь кричать...
Господи, он, эмир, унизился до пререканий с каким-то диким горцем... Но что поделать? Стены Ситоре-и-Мохассы низки, а за стенами люди, простолюдины, клевреты, соглядатаи, комиссары, ох! Тише! Спокойнее. Не дадут уйти, уехать! Помешают.
Эмир поднимается, но из неуклюжего куля высовывается рука и хватает за полу эмирского походного камзола.
Да, эмир уже в походной одежде. Он совсем готов к отъезду. Он давно уже скакал бы на коне в ночи и ветер дул бы ему в лицо, если бы не назойливый этот горец со своей болтовней о чести, обиде, мести.
Вот и сейчас:
– Стой! Я не пущу... Не верю! Чтобы уметь быть добрым, надо иметь злость в сердце. Ваши слова, эмир, не умерили моей мести.
– Пустите... Я приду... Она придет... С бумагой...
– А вы обещали сами привести ее. Она придет. На что мне обесчещенная. Вы обманываете. Вы кто? Любитель зла ради зла? Вы облекаете себя в одежды лжи.
– Остановись!.. С кем говоришь?.. С халифом правоверных говоришь... Священный я...
– Вы мулла, который ходит мочиться у стенки своей святой мечети...
– Что-о!
Но тут Мерген допустил какую-то оплошность: он разжал пальцы и кончик подола эмирского одеяния выскользнул из руки.
Вся чреда бледных физиономий с провалами глазниц завертелась вокруг дастархана, по дастархану, по все еще не могущему подняться от тяжести пудовых одежд Мергену.
Все бежали, топтали его, светильники погасли, тьма обрушилась на все. И когда Мергену удалось, барахтаясь и разрывая бельбаги, наконец, подняться, он прыжками устремился к какой-то двери, высвечивающей в противоположной стене светло-желтым четырехугольником.
Вывалился Мерген прямо во двор, слабо освещенный лунным неверным сиянием. Тут метались в странном, даже угрожающем безмолвии люди, кони, верблюды.
Первый, на кого натолкнулся Мерген, был его сын Баба-Калан:
– Где он? – хрипло спросил он.
– Суслик сбежал.
– Суслик?
Баба-Калан сыпал проклятия, когда они с отцом прокладывали себе дорогу в разношерстной толпе, расшвыривая, подобно слонам, челядь.
Безумно пяля глаза, раздирая рты и неестественно сипя перед этими двумя великанами, все разбегались в страхе. В сумраке, под кронами густых деревьев, Мерген и Баба-Калан казались грозными колоссами, а тут еще золотом блестевший халат на горце превращал его в глазах трусов и подхалимов в самого хана.
И нет ничего удивительного, что их никто не посмел остановить и тронуть.
А когда они очутились в чайхане, Баба-Калан зычно позвал своих людей: «Эй, кто в бога верует!» И тут, рядом с ним сразу оказались, выбежав из темноты, и цирюльник, и шашлычник, и мороженщик, и мардикеры, и базарчи, которые еще днем кружились у ворот летнего дворца. И у всех вдруг оказались в руках поблескивающие дулами отличные кавалерийские карабины. Каждый с возгласом: «Мы здесь!» – выбегал на площадь и схватывал под уздцы таинственно появившегося коня.
– По коням! – оглушительно скомандовал Баба-Калан. – За мной! К Самаркандским воротам! Эмир – будь он проклят! – удрал!
Непочтительный сын не отдал своего коня Мергену – так горел желанием самому влезть в схватку, – а только обернулся и крикнул:
– Найдите, отец, коня. Догоняйте!
Довольно долго провозился Мерген, стаскивая с себя золоченый халат, выскочил из чайханы, стянув с лошади беспомощно барахтающегося стражника, отобрал винтовку, легко вскочил в седло и поскакал по пыльной дороге, ворча: «Ну, сынок! Ну и сынок!»
Прислушиваясь к удалявшемуся топоту кавалькады, он погнал коня туда, где в малиновом зареве утренней зари высились черные купола и резные столбы минаретов древнего города.
XV
О, тот, кто вздумал жечь людей
калеными углями,
сам обожжется!
А кто рад несчастью сына своего дяди,
Тот сам испытает его.
Али Мутанби
Его зло вышло ему навстречу,
и он стал пленником своих дел.
Самарканда
О том, что происходило в те дни у древних стен Бухары, уже писали и историки и писатели. Восставший народ и пришедшая по его призыву на помощь Красная Армия штурмовали последний эмирский оплот, и не было такой силы, которая могла бы остановить «джейхун» народного гнева.
О джейхуне писал в момент происходящих событий в своей тетради в бархатном переплете поэт и летописец Али – сын муфтия, находившийся рядом с Мирзой при дворце эмира.
«Бисмилля! Здесь, в райских садах Байсуна, придя в себя на острове тишины и сердечного спокойствия, вдали от штурмующих горную долину волн войны наш слабый калям и не пытается в подробностях описывать то, что мы называем гибелью, несчастьем, бедствием.
Пала твердыня власти. Почему? Нет больше священного оплота религии. Почему? В пыли и прахе белеют птицы чалм. Почему?
Да, все «почему»? По нашему скромному уразумению, причина всех бед в недомыслии и глупости натуры человеческой. Свойственна же эта глупость и великим мира сего даже в большей мере, нежели маленьким человечкам, людям простым и невежественным.
Вот взгляните. Мы здесь заносим события в страницы летописи событий последних дней, а рядом возлежит на гранатовом ковре повод и причина тех событий – сам их высочество эмир Бухарского ханства Сеид Алимхан. Но какой он эмир! Он бывший эмир. Руки у него трясутся, как у лихорадочного больного, пиала выскальзывает из пальцев и чай разливается по дастархану и шелковому одеялу, а рот кривится и брызжет слюной робости, изрыгая слова: «Мы – вождь! Мы – газий! Мы победим!»
Не к лицу говорить о победе тому,
кому набили палками пятки.
А где вы, о господин могущества, были вчера. Сами, вместо того, чтобы собирать силы и укреплять государство, предавались наслаждениям и разврату с луноликими девами. Воображали себя Искандером Македонским и Тимуром Гураганом, потрясали сломанной пикой и грозили покорить весь мир. Вопили, что не боитесь большевиков и всех уничтожите, если вздумают они напасть на священное государство – Бухару. А сами в тиши ночей готовились к трусливому бегству.
Вам предлагали мир и спокойствие. Кто предлагал? Народ. Кто, как не народ, говоривший: оставьте тиранство, будьте справедливы, не обездоливайте сирот и вдов. Будьте мудрым правителем, А вы, эмир, прирезывали мудрых, как баранов, только за то, что советники твои указывали на твои пороки... И терпение народа исчерпалось.
Вы знали, что в вас нет и крошки храбрости и мужества. Вы смирились с мыслью, что потеряете Бухару и золотой трон в Арке. Вы просили ференга Эсертона, английского консула, вывезти в Персию все драгоценности,’ что эмиры сотни лет прятали в подвалах Арка, и хранить их. Богатства, принадлежащие бухарскому народу, вы отправляли караванами в Хорасан в банки проклятых англичан, золото в слитках, серебро, бесценные камни и ожерелья. Говорили, что богатствам там не было числа и что тайно их переправили за границу, и теперь вы тоже говорите, что уедете за границу. Конечно, вы позаботились о себе, эмир, много у вас отложено про черный день. Мы, грешный раб, вам своим калямом, помнится, писали в английское консульство в городе Мешхеде, что сдаете на хранение британским банкам ценности, стоимость которых исчисляется в тридцать пять миллионов фунтов стерлингов, что в переводе на наши деньги равняется четыремстам миллионам рублей. Велик бог, на такие деньги можно жить где угодно набобом. В том письме вы, эмир, писали: «Возьмите, господа, мои богатства на свое попечение до более светлых дней и восстановления нормальных условий».
И теперь, эмир, вы говорите: «Светлые дни наступили. Мы покидаем наш народ, наше священное ханство, дабы оттуда, из-за границы, начать новую борьбу с большевиками и вернуться к управлению нашими любимыми подданными с помощью наших друзей англичан». Проклятие!
Нужен бухарскому народу такой государь? Нет, терпение бухарцев иссякло, как вода в колодцах пустыни. Народ не устрашился ваших увешанных оружием nyui-.тунов-наемников. Против пушек – палки и дубины! Против пулеметов – кулаки. Против ваших молитв – призыв – долой эмира! Всесилен гнев народа.
Что вы теперь? Вы не правитель государства, а вор, обворовавший свой народ и спрятавший уворованное у врагов людей – инглизов. Вот кто вы!
Мы – мирный, тихий писец, книжный червь. Но в дни Страшного суда, когда народ поднялся против тирании, вы, эмир, прячась трусливо за стенами Арка, дали и нам, летописцу, в руки ружье и приказали: «Иди, сражайся!» Стреляй в подлых мятежников. Мы пошли на улицы, где шла война. Ружья стреляли. Пушки грохотали подобно небесной момокалдырак, камни, которые метали простые люди, летели в таком количестве, что тучей затмили солнце.
Но что могли мы, мирный летописец? Повернулись и ушли. Мы сказали эмиру, который лежал под одеялами, согреваясь от озноба, страха и ужаса под двадцатью одеялами: «Пушинку сдуло дыхание народа».
И мы покинули Арк и наложили запрет на мысли об эмире и поспешили заняться тем, что было в нашем сердце. Среди хаоса и смятения мы поспешили тогда в Ситоре-и-Мохасса, где, по имевшимся у нас сведениям, находилась в опасности та, кому мы отдали все свои мысли и стремления.
Роза цветет среди бурь и гроз,
Соловей, распахни крылья и защити розу.
А народ Бухары, мы знаем, точно грозный морской вал, смел с лица земли и воинство эмира, и ширбачей, и миршабов, и наемную гвардию – гордость эмира. И не оказалось никого, кто встал бы еще на защиту тирана и пришлось ему зайцем прыгать по степям и горам до самого Байсуна.
Мы пишем. Калям наш находит путь от чернильницы к бумаге. Сии строчки мы пишем для себя, и глаза их высочества Сеида Алимхана не увидят их.
Да и мы из осторожности выроем яму глубиной в двенадцать локтей и положим на дно наши записи, закопаем, а сверху положим камень в двенадцать батманов.
И мы останемся единственным читателем, который читал написанные им же строки гнева и возмущения. Аминь!»
* * *
Тетрадь в сиреневом бархатном переплете не была захоронена в яме. Поэт и летописец Али, как и все авторы, был влюблен в свое творчество и пожалел свои писания.
XVI
Ушибешь нос – заплачет глаз.
Алаярбек Даниарбек
И нужно же, чтобы чека из колеса выскочила вовремя. Арбы для каравана беглого эмира готовили задолго до дня штурма. Их проверили, отремонтировали, подновили. Готовились в далекий путь. Особо заботливо отнеслись к тем арбам, которые должны были везти не золото, не парчу, не самоцветы, а самое драгоценное – прекрасные благоухающие розы гарема!
Колеса смазали так, чтобы они не скрипели, чтобы не тревожить ушки розовые и нежные, Слоэом...
Словом, не успели проехать арбы и одного фарсанга, огромное колесо соскользнуло с оси, арба накренилась, и красавицы оказались в пыли. Визгов и криков было предостаточно!








