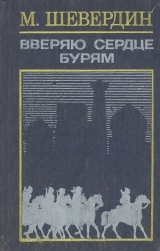
Текст книги "Вверяю сердце бурям"
Автор книги: Михаил Шевердин
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 29 страниц)
Мысли бежали в беспорядке. Малейшая попытка шевельнуться вызывала в груди дикую боль.
И еще теперь Сахиб Джелял понял, что эмир Сеид Алимхан ушел. И что он, Сахиб Джелял, настолько обессилел, что, очевидно, не сможет утром встать, сесть на коня и скакать за ним.
Единственное, что я прощаю аллаху,
Это то, что его нет.
Если бы ты был, о, справедливейший,
Ты бы отдал это чудовище мне на расправу!
Кто не знает из мудрых,
Что эмиры и ханы – мертвецы среди живых.
Мышь приняла ислам, но мусульманкой не стала... Ты мусульманская мышь, Сеид Алимхан! О, господин вождь, у нас, кажется, начинается бред... О, аллах, на кого же ты возложишь бремя мести! Кто же на волосяном аркане приведет за шею в Бухарский Арк эту запаршивевшую гиену?..
XIII
Но она от мира, где наиболее прекрасным созданиям уготована грустная участь.
И она, роза, обречена на жизнь роз – время одного утра.
Мелерв
Никогда не умрет тот, в чьем сердце жизнь.
Хафиз
Сахиб Джелял все-таки, несмотря на ранение, гнался за эмиром. Эмир бежал на Восток, в Кухистан. Сахиб Джелял хотел свести с ним старые счеты. Малочисленный отряд, вступивший в долину Гиссара, выгнал эмира из Каратага, помешал довести до конца чудовищное злодеяние. Но сам Сахиб Джелял оказался в ловушке. Эмирские аскеры опомнились и к утру попытались вернуть Каратаг.
Уличный бой шел уже у самой мечети. Сахиб отдавал команды и сам отстреливался из-за груд одеял и подушек. В затуманенном сознании внезапное появление Дервиша Света – Георгия Ивановича со своим дивизионом среди дыма, столбов пыли и взвизгивающих пуль показалось чудом, хотя в чудеса он мало верил.
– Ассалом алейкум, Дервиш Света, – сказал он, не оборачиваясь и продолжая нажимать спусковой крючок винтовки. – Или сам ангел смерти Азраил послал вас за мной, чтобы отвести меня в рай.
– Нет, в раю я еще не бывал, – усмехнулся командир, в котором лишь старый друг, такой, как Сахиб,. мог узнать Георгия Ивановича, так он изменился за последние дни, так был обсыпан пылью и почернел от порохового дыма и прямых лучей гиссарского солнца. – Что с вами, вы ранены?.. – Мертвенно-бледный под черным загаром, Сахиб Джелял откинулся на подушку, и все поплыло вокруг.
Бой завершил уже Георгий Иванович со своими бойцами. Кроме того, все оставшееся в живых население Каратага поднялось по призыву Дервиша Света. Его вспомнили, и за ним пошли и стар и млад.
Неистовый в бою, он повел красноармейцев и весь народ за собой. И ни один бухарский нукер не ушел из Черного ущелья.
– Эмир удрал, – жаловался Георгий Иванович, заботливо помогая Сахибу Джелялу усаживаться в седле. – Все-таки надеюсь с помощью народа взять тирана за шкирку.
Народ ненавидел эмира, его беков, его чиновников и... боялся. Уже пала твердыня Бухарского эмирата – эмирский Арк. Бухарский эмир явился в горную страну потрепанный, с остатками разгромленных войск. Он метался по кишлакам, ища убежища, а чиновники его хлестали нагайками горцев, отбирали последние деньги – налог за десять лет вперед, забирали сыновей в аскеры, а юных дочерей в гаремы эмира и вельмож.
Беглый правитель Бухары заставлял устраивать пышные той в свою честь, пытаясь изобразить свое трусливое бегство как торжественный объезд могущественным государем горных бекств. Он даже успел отпраздновать три свадьбы. Весь народ в Денау, Регаре, Кабадиане в ярости. Имя эмира произносили с омерзением, на коране клялись убить его.
И все лее, как и в прошлом, гордые горцы гнули спины и отдавали ему непосильный зякет. Все так же содержали бесплатно самого эмира и армию его прожорливых чиновников. Как и прежде, с каждого двора платили натуральный налог: по три барана с трех дворов, кусок домотканого сукна, две пиалы масла, четыре штуки бязевой маты... и мыло, и свечи, и вьючный скот, и все, что представляло хоть какую-то ценность.
Дехкане голодали, месяцами на дастархане и кусочка мяса не видели. И только смотрели, как со двора у них угоняли последнего барана, козу... Бедствовали, роптали, но не решались идти против эмира... Ведь он – халиф всех мусульман.
Отряд Георгия Ивановича шел по горной стране чуть ли не по пятам эмира.
За каких-нибудь пять-шесть дней о походе красноармейского дивизиона во главе с Дервишем Света, Георгием Ивановичем, стало известно всем на Памире и в Каратегине. Дервиш Света знал горы, знал горный народ, не забыл его языка, его нравов. Он со своим отрядом шел по самым головоломным, тропам и оврингам, ужасался при виде этих бедняцких домишек, сложенных из обломков скал, этих клочков Земли, возделанной на склонах гор, этих просвечивающих лохмотьев на полуголых детишках – и призывал горный народ подниматься на последнего мангыта. В каждом селении, пока красноармейцы рыскали по горам под выстрелами сарбазов, он часами беседовал с добродушными черными, ослепительно улыбающимися ему, Дервишу Света, горцами, прячущими под гостеприимной улыбкой вечные свои тревоги, недоверчивость, насреддиновскую хитринку. Он отлично видел страх в их глазах и отчаянно пытался развеять недоверие простых темных людей. Он поднимал старинный бронзовый, еще от согдийских времен, подсвечник, в котором чуть теплилась свеча из горного растения, обмазанного тестом на масле из льняного семени, и вглядывался в глаза собеседников.
Георгий Иванович ответил злом за все то зло, которое эмиры причиняли народу Бухары много веков и, кстати, за зло, которое причинил эмир ему лично и его близким.
В открытом бою, с выхваченной из ножен саблей, на которой было выгравировано: «За храбрость!» – он во главе славных бойцов интернационального дивизиона и батраков-ополченцев разгромил и уничтожил гвардию эмирских сарбазов. И тем самым выполнил то, о чем мечтал его старый друг и товарищ по сибирской каторге – Сахиб Джелял.
Правда, не до конца. И ему пришлось проглотить упрек, сорвавшийся с нежных уст его любимицы Наргис, которую он тоже называл «дочкой-йигитом».
А она еще совсем слабая, болезненно бледная, исхудавшая, похожая на едва оправившегося от смертельного недуга ребенка, резко бросила:
«Упустили зверя... Ужасно жаль! Но не я буду, если не приведу его на веревке в клетку. Или лучше я его убью».
У такого дитя и такая ненависть в глазах!
XIV
Кому судьба соткала
черный ковер,
Его уже невозможно
сделать белым.
Гиасэддин Али
Ты можешь ноги в кровь стереть.
Ты можешь лоб о пол разбить,
Но предначертанной судьбы
Не умолить, не обойти.
Мир Амман
«...Величайшее бедствие для народа и общества людей, отсутствие мудрости и мудреца в правителях. Если не найдется какого-либо мудреца, и город и государства немедленно гибнут».
Так писал известный всему восточному миру историк Ал-Фараби.
Мудреца в Бухарском ханстве не нашлось. На троне в бухарском Арке сидели глупцы. Да и сама структура общества, феодальная, с остатками рабства, средневековая косность порождали подобных корыстолюбивых и глупых эмиров и шахов.
Факт, будто эмира выменяли на девушку, – как рассказывает предание, – сам эмир полностью отрицал.
Дело хорошего – благовоние.
Дело дурного – смрад.
В народе и до сих пор говорят: «Там, где орел рассыпал бы в битве перья, что может сделать муха?» Муха улетела – эмир подобрал полы золоченого своего халата и умчался в Душанбе, а затем на юг, за рубеж, за Гиндукуш в Кабул. Здесь он нашел прибежище в бывшем здании Российского Императорского посольства в местности Кала-и-Фату в тени садов и в прохладе струй фонтанов. Здесь муха будет еще долго жужжать.
Поэт Бобо-и-Тахир сказал:
Трусу не быть храбрецом,
Он сродни шакалу.
Не даст тепла очаг, где нет огня.
Но, увы, даже потухший очаг часто чадит. Смрадный дым еще долго, многие годы будет виться над Кала-и-Фату. Возмездие пришло к эмиру: нет ничего мучительнее переживаний повелителя мира, низринутого с золотого трона в грязь. Трусливо отказавшись от борьбы, Сеид Алимхан отдал себя, свою душу, свое сердце мучительным многолетним терзаниям.
В холодном, липком поту просыпался он по ночам. Ему во сне мерещилась смерть. Нет! Никакие силы не принудят его вернуться в Бухару в Арк. Нет, нет и нет! Впрочем, о каком возвращении речь, когда Бухара во власти босоногих и большевых.
Но особенно его мучило то, что его, властелина из воинственного рода мангытов, выменяли на девчонку. Нет, примириться с этим он не мог. И его обуревали мучительные чувства. Он корчился в ярости.
Сеид Алимхан пытался утешиться мудрыми мыслями Кабуса:
Конечная цель движения – покой.
Предел существующего – перестать быть.
Перестав быть повелителем, он оставался фанфароном, задиристым петухом. И он приказал, сварливо крича, плюясь и бранясь, своему летописцу Али вычеркнуть, вырвать из летописи его жизни даже упоминание
о том, что его выменяли на девушку-красноармейца, его бывшую невесту.
Под страхом смерти он запретил и в разговорах упоминать об этом случае. Ни слова! Ни звука!
О, у него еще достаточно во дворце Кала-и-Фату и власти, и стражников, чтобы покарать за болтовню. И даже палача – болуша – эмир привез с собой из Бухары. Черного палача! Кровавого палача!
Во дворце, заикаясь от ужаса, шептались:
– Глупец сболтнул... Осмелился намекнуть... о каком-то обмене. И глупца уже нет... Пропал...
Летописец Али совсем не хотел пропадать. Он предпочел исчезнуть сам,
«Чтобы я переступил порог дворца его высочества еще хоть раз? Ну, нет».
Верный пес лижет руку хозяину,
пока в ней нет палки.
Али уехал на север, и, когда между ним и эмиром поднялись снеговые хребты Гиндукуша, написал ему верноподданнейшее письмо, полное цветов красноречия и змеиных жал. Он избрал наиболее хитроумный способ уязвить эмира.
«Клянусь, мое перо ничего больше не начертает о том позоре, который пал на вас, когда вам, могущественному эмиру, халифу правоверных, предложили сохранить жизнь ценою спасения жизни девушки Наргис, несравненной розы, но не царственного же рода. О святотатство! Пусть и совершено оно во имя блага и во спасение, но лучше об этом, ваша милость, и не заикаться. Говорится же в книгах:
Он несет свою жизнь в руках
и в надлежащий час
швырнет ее в лицо смерти.
Зачем? Нет такого безумца в подлунном мире, который добровольно подставил бы шею под меч гибели.
Нет, нет и нет! Я не хочу оказаться в положении самонадеянного поэта из притчи царя поэтов Джами. Позвольте, ваше высочество, напомнить о том случае:
«– Что ты делаешь со своими стихами? – спросил почтенный Джами у молодого надоедливого поэта.
– Вывешиваю у городских ворот, – ответил поэт.– Пусть все въезжающие и выезжающие читают и прославляют меня.
– А не повесят ли тебя рядом с твоими стихами?– спросил мудрый Джами».
О, господин мой, ваш покорный раб Али не начинающий поэт и – позвольте вас заверить – мы поднаторели в сфере высокой поэзии и нам незачем вывешивать сладкоречивые плоды нашего пера на какие-нибудь ворота. Пусть этим занимаются рифмоплеты-невежды».
И все же обстоятельства сложились так, что поэт и летописец Али в погоне за своей мечтой оказался у порога эмирской резиденции Кала-и-Фату и предстал пред лицом самого эмира.
Но произошло это много-много позже.

Часть четвёртая
ДЕРЗАНИЕ
I
Жизнь вождя – это жизнь, полная самоотверженности.
Его природе чужды эгоизм, тщеславие, страх так же, как жизнь чужда смерти.
Дхан Мукерджи
– У коней из России легкие гнущиеся копыта. На здешней сплошной гальке кони начинают хромать. На подъемах тяжело дышат. На спусках дрожат всем телом.
Пардабай мог бы чем угодно поклясться, что голос знакомый. Тилляуский сучи – переправщик арб через Чирчик, Ангрен, батрак, впоследствии народный мститель Намаз Пардабай ринулся было к этому стоявшему к нему спиной командиру в офицерской шинели до пят и в островерхой буденовке, но спохватился и заколебался. И был ошеломлен, когда вдруг в круто повернувшемся, чем-то возмущенном комкоре, судя по ромбам в петлицах, узнал старого друга Георгия Ивановича, Дервиша Света.
Пардабай все еще удивлялся, а комкор Георгий Иванович в полный голос поучал военных, сидевших на грубо сколоченных скамьях, за деревянным столом.
– Не учите! Я полководец-самоучка. Военных академий не кончал, хоть военной теорией и занимался. От профессорских речей слишком пахнет словесами, а в кавалерии надо... чтобы порохом и конским навозом. Э, да вот комэск узбек, здешний степняк скажет... Коней для горных операций надо полностью менять на местных карабаиров и текинцев... Что скажете, товарищ комэск?
– Ваша правда! Копыта в коне главное, товарищ Георгий!
– Ба! Кого я вижу?.. Да это вы, Пардабай-Намаз!
Старые друзья крепко обнялись, на глазах их выступили слезы.
Тогда Георгий Иванович повернулся к сидевшим вокруг стола:
– Извините... старого товарища встретил. Садитесь, Пардабай-друг. А вам, товарищ, скажу: много здесь, в Туркестане, надо передумать, пересмотреть. Всем, прибывшим из России, начать с проверки и ремонта конского состава. Театр военных действий у нас – горы, нужны горные кони. Условия! Вот наш штаб. Не смотрите, что жалка халупа. Видать, хозяин лепил себе жилище из глины потеснее, чтобы в нем поменьше было сырости, мух, клещей, комаров... Привычка... И мы терпим, привыкаем к жизни горцев.
Пардабай вспомнил, каким больным был беглый политкаторжанин революционер Георгий Иванович. Как он изменился за годы гражданской войны, стал настоящим командиром-кавалеристом и внешне стал иным; раздался в плечах, стал подтянутым, стройным. Чахоточная бледность сменилась густым,здоровым румянцем, а лихие казачьи усы дополняли впечатление о воинской выправке и здоровье, о самоотверженности и решительности. В бою он был смел, пренебрегая пулями и клинками врага. Не иначе ему везло. За годы походов и сражений у него не было даже легкой царапины. Возможно, так везло ему потому, что он вошел во вкус военной жизни. Порой, полагаясь на свою силу и отвагу, подвергал себя неоправданной опасности.
Его уважали за революционный опыт, за все то, что он перенес, будучи профессиональным революционером и политкаторжанином, и не обижались на его резкость. В походе, в боевой обстановке он был жесток и непреклонен.
«Гнев – плохой советчик красного командира. От одного гнева любой вояка – головой в колодец, а и семь гневов не помогут потом из того колодца выбраться».
А такое сравнение было близко и понятно, потому что в пустыне все знают, что такое колодец. Почти все операции Георгию Ивановичу приходилось проводить в пустыне и в горах.
Жесткая требовательность к себе заставляла его мучительно и постоянно анализировать свои промахи и недостатки, но нетерпимо относиться и к недочетам подчиненных и начальств. Не переносил он подхалимов и интриганов. «Ружье,– говаривал он, – подстрелит одного, а язык – тысячу».
Презирал курбашей, так называемых «дипломатов», которые «разводили антимонии», и заводили переговоры о сдаче, о переходе на сторону Советов, а сами продолжали совершать бандитские налеты. И поэтому он не верил льстивым уверениям курбашей, что они уже «почти советские». «Не бывает у одного барана и шерсть длинная, и курдюк большой, и спина со слоем сала»,– говорил Георгий Иванович, а заключал неизменно одним; «прежде чем идти на переговоры с курбаши, надо все проверить обстоятельно и скрупулезно».
И сегодня, посылая эскадрон особого назначения в горную страну, находившуюся в руках бандитов, ставленников Селима-паши, Георгий Иванович потребовал от командира, многоопытного Пардабая:
– Разведка – в тылу врага. Бой есть бой. Умение владеть клинком, чтобы защитить Советы и свободу, необходимо. А владеть языком все эти матчинские беки и всякие там халбуты умеют преотлично. Уже пять лет бек морочит нам голову. Едва на него поднажмем, он тут же с милой улыбочкой: «Я совсем советский, я хочу сдаться!» А чуть перевалы запорошит снегом, он тут же выскакивает из-за своего природного укрытия и давай убивать, грабить!
Вот почему Георгий Иванович не верил беку и теперь требовал от Пардабая Намазова самых точных сведений: действительно ли Матчинское бекство всерьез готово пойти на сдачу.
С Мергеном Георгий Иванович говорил долго и по душам. И здесь он взвешивал все «за» и «против». Но больше всего он уделял внимания тем сведениям, которые шли от «нашей разведчицы, которая там». Имя ее
Георгий Иванович не назвал вслух, хотя они были только вдвоем.
– Мы с вами, Мерген, должны быть философами. Мы должны думать, а наступит время – и воевать. И за что! За свободу, за счастье народа. Поэтому я, профессиональный революционер, стал также профессиональным военным, в совершенстве владеющим клинком.
И он,.машинально выхватив казацкую шашку, рубанул ею так, что она со свистом рассекла тяжелый, сырой воздух халупы. Мерген даже не вздрогнул. Он только сказал:
– Враг лучше без головы.
– Наверное, так думали философы в прошлом. Великий философ древности Платон, а по-вашему Афло-тун, сражался простым воином в битвах под Танагрой и Коринфом. А полководец Ксенофонт, он же писатель и философ, был прекрасным стратегом и военачальником, когда Греция отстаивала свободу от персидских полчищ. Да что там!.. Когда нежная девушка сражается с оружием в руках... и ходит своими ножками по лезвию басмаческого ножа, нам, мужчинам, и сам бог велел...
– Аллах акбар! Так предначертано... – и этот жесткий с лицом, будто вырезанным из красного дерева, батыр вдруг заморгал, побагровел и вроде слеза покатилась по его щеке. Он, конечно, больше ничего не сказал. Но перед глазами возник образ далекий, недостижимый, образ той, которая носила прекрасное имя– Юлдуз, являясь женой Георгия Ивановича, была для Мергена звездой его жизни. И так получилось в его воображении, наверное, потому, что та, о ком они говорили, сейчас была так похожа на безнадежную любовь горного батыра Мергена.
Георгий Иванович, быть может, и догадывался об этом по тяжелым вздохам горца. Сам он по-прежнему очень любил Юлдуз и мечтал о встрече с ней и сыном.
Поспешив перевести разговор на другое, он хотел, чтобы Мерген понял его намерения и планы.
– Мы на днях в Гиссарской долине разгоним, разнесем всю... эту банду турка-авантюриста Селима-паши. А потом примемся за Матчинское «государство»: мы бросим кость меж двух собак, и они перегрызутся. Вот наш Пардабай и кинет им там, в горах, такую мозговую косточку. А ваше дело пойти туда и сделать так, чтобы собаки разорвали друг друга.
Они распрощались.
– Берегите девочку. При первой возможности она должна оттуда уехать, – сказал Георгий Иванович.
– Будет сделано. Постараюсь спасти свою внучку,– ответил Пардабай.
II
Обман и ложь – отец и мать
Порока, зла и преступления.
Зелили
По оврингу бредет осел.
На теле погонщика ветхое рубище,
Матчинскому беку везут уголь.
Разорены неурожаем люди гор.
Горечь раздирает грудь.
Скачет бек на коме.
В доме ишана готовят плов.
Застыл угольщик от холода,
Подкосились ноги от голода.
А в кишлаке Анзоб съели человека.
Так говорят, великий бек!
Из песни угольщика Матчи
Наргис потопила бы их в слезах своей ненависти...
С каким наслаждением она так бы и сделала. В море ненависти! Наргис ненавидела, но не пассивно, не беспомощно склонив голову перед злым роком. Свою ненависть она адресовала вполне определенным лицам. Прежде всего она ненавидела Мирзу. Он был рядом, и его ненавидеть было проще всего, потому что, едва он появлялся на глазах, Наргис откровенно высказывала ему все, что накопилось у нее на душе. Она ненавидела все: и его лицо, постное, бледное, невыразительное, с синеватыми губами, сжавшимися в ниточку, его вкрадчивый, проникающий куда-то внутрь, до самого желудка, голос.
– Не подходи ко мне!.. Глаза выцарапаю, кухонным ножом зарежу! – говорила она ему.
И Мирза боялся этой непосредственной ярости. Он осознавал, что у нее достаточно причин ненавидеть его. Вот и сейчас – почему она должна испытывать к нему какие-то там приятельские или родственные чувства, если он опять обманным путем увез ее, Наргис, из Самарканда, и в Пянджикенте объявил сквозь решетку боковины арбы (ближе он побоялся подойти), что они вынуждены ехать дальше.
– Что тебе надо в зимних горах?! – крикнула ему Наргис. – И запомни, если ты меня не выпустишь сейчас же, я умру... Умру!
– Успокойтесь!.. Потерпите. Мы выезжаем!
– Куда? Когда? Зачем? Что ты хочешь делать здесь, в горах... Зимой. Здесь только камни, лед и снег.
– Придется потерпеть: другие дороги закрыты.
– Почему надо ехать через хребет? Опять какие-то тайны?
– Я должен навестить в Обурдоне господина бека. И пусть тебе будет известно, что я еду с большими полномочиями иностранных государств.
– Боже мой! Какие могут быть полномочия к тощим козам? Здесь в горах ничего нет, кроме коз.
Так Наргис впервые услышала про Матчинское бекство. Как ни пытался скрыть подлость своих намерений Мирза, Наргис не составляло труда выяснить, очень быстро, что Мирза привез ее в логово басмаческих банд, спрятанное среди горных вершин поднебесных хребтов Страны гор. Еще в ноябре восемнадцатого года матчин-ские баи в сговоре с ишанами, воспользовавшись оторванностью от мира, устроили заговор и убили местного председателя ревкома и пятерых красногвардейцев.
Местный ишан из селения Матча объявил: «Отныне Матчинское бекство – исламское государство, не признающее Советской власти в Ташкенте». Он был ученым, этот ишан, кое-что понимающим в политике. Он немедленно послал двух юношей в Швейцарию, в Лигу Наций с просьбой признать новое государство на карте Азиатского континента. В Великобритании узнали о новом государстве и немедленно «признали» его, послав туда представителя.
– Представитель – это я, – заявил Мирза, приложив руку к сердцу. – Прошу разговаривать со мной уважительно.
– Тоже мне государство! Какое государство – такие в нем и представители! – фыркнула Наргис, точно разговор шел о каком-нибудь захолустном кишлаке. – Это твое государство может растоптать самая обыкновенная муха. Велика честь быть представителем здесь, среди этих мазанок и сугробов.
Конечно, Матча была самым что ни на есть захолустьем. О том, что существует Матчинское бекство, можно было судить по редким дымкам, поднимавшимся к небесам над бесконечными волнообразными снежными пространствами, да строчкам следов на белоснежном снегу, протоптанным редкими горцами, выбиравшимися из-под снежного холма, где прятались их заледеневшие хижины. Ни звука, ни карканья вороны, ни детского смеха. Несколько затерянных в Туркестанском и Зерафском хребтах кишлачков, глубоко зарывшихся в снежных сугробах, несколькими десятками тысяч полунищих горцев-«камнеедов», как их высокомерно нарекали надменные курбаши, проникшие сюда, в недоступные горные убежища, и приведшие своих аскеров. Здесь они образовали довольно многочисленное воинство, хорошо вооруженное, жаждущее грабить и убивать.
И сюда через перевалы, высотой почти с Монблан, пробирались с юга вереницы вьючных животных, везших в новоявленное государство оружие, золото, продукты.
Мирза не счел нужным скрывать, что он причастен к этой грозной контрабанде.
– Ты смеешься, несчастная, глупая! А мы, то есть я, прибыли в Матчинское бекство для проверки и инспектирования поставки оружия и материальных средств. На этих днях прибудет большой караван прямо из англо-индийских владений с пулеметами. Их сопровождает очень важный человек, англичанин... настоящий английский джентльмен и притом мусульманин. Мы с ним обсудим важные вопросы.
Да, действительно вопрос был важный. Оказывается, готовился поход никуда иначе, как на Ташкент.
Сердце защемило у Наргис. Да, она явно недооценивала опасности. Никакая муха не затопчет «матчинского государства». Более того, Мирза показал ей номера газеты «Таймс».
– Прочитай и переведи! Ты же изучала языки.
Она читала длинные статьи и глазам своим не верила. Такая всемирно известная газета, такая деловая и солидная – и вдруг на страницах ее что-то похожее на бред: исторические угрозы большевикам и стране Советов, предупреждения, злобные выкрики...
Не больше не меньше как Матча, то есть «Матчинское мусульманское государство» объявило себя «острием кинжала», направленным в сердце большевизма и в столицу его Москву.
В мехмонхане сыро, холодно. Посреди, в глиняном полу, – очаг. Дрова сырые, трещат, дымят. Писать приходится на низеньком, кое-как сколоченном из арчовых досок столике. Ноги даже в шерстяных особо плотных чулках мерзнут и так хочется засунуть их под одеяло. Но очаг разгорается медленно, а для сандала требуются совсем прогоревшие угли, иначе пойдет такой угар, что голова разболится. Пальцы стынут и деревенеют от холода. Холодом дышат и маленькое залепленное восковой бумагой окно, к тому же присыпанное снегом, и щелястая дверь, и все углы комнаты. Промозглый холод такой, что изо рта вместе с дыханием вырывается облачко пара. Коптит и чадит чираг. Его принес в мехмонхану сам Мирза, чтобы Наргис «не портила себе зрение».
Вообще, надо сказать, что Мирза заботился о Наргис. Он приказал собрать в кишлаке лучшие паласы и сюзане. Нашли даже приличный афганский мохнатый ковер, несколько довольно чистых и не очень заплатанных одеял и подушек. Сделать это было трудно, потому что горцы Матчи совсем обездолены. Уже несколько лет в кишлаках хозяйничают басмачи, и все, что можно было, они отняли у мирных горцев. Ватные одеяла – редкость и в обычное время. Горцы всей семьей спят на грубых кошмах, постланных прямо на земляном полу, и укрываются груботканым паласом. Так что Наргис, по выражению хозяйки дома, живет как кашмирская принцесса-малика в роскоши и довольстве. Хозяйка, сморщенная старушка, очень довольна, что в дом принесли столько одеял и подушек. Быть может, в тайниках своей души она питает надежду: не останутся ли сии предметы роскоши в ее доме, когда уберутся отсюда эти воинственные пришельцы. Правда, с тех пор, как этот вельможа – а он не иначе как визирь какого-нибудь шаха – вторгся в ее нищенское каменное жилище, старушка да и ее внуки забыли, что такое голод, потому что Мирзу опекал сам господин Матчинский бек и слал ему каждодневно и плов, и шашлык, и шурпу да мало ли что – и в таком изобилии, что всегда оставалось и для хозяев.
Старушке также нравилось, что она отныне должна была безотлучно состоять при Наргис-бегим, присматривать за ней, выполнять всякое ее желание. Старушка не вникала в отношения Мирзы и Наргис. Запомнила только слова Мирзы: «Она – жена халифа». Какого халифа? Старушка, да и все обитатели Матчи, на сей счет имели самые туманные представления.
Но в глазах старушки Наргис превращалась теперь в некое божество, тем более, что даже своими старческими глазами она успела разглядеть красоту лица Наргис, ее величественную осанку, ее дорогие одежды.
И сейчас старушка сидела, скромно скорчившись, у закопченной, отполированной до блеска черной стены мехмонханы, набожно перебирая четки и, шевеля губами, следила за ногами в дорогих махсы этого важного визиря. А ноги, пестря зелеными задниками ичигов, быстро и неслышно скользили по коврам и паласам. Мирза непрерывно был в движении, хотя бы для того, чтобы хоть немного согреться. От пронизывающей сырости даже не помогал халат, подбитый куньим мехом.
«Хорошо! Благопристойно! – шептала старушка. – Хорошо, достойно. Визирь никогда не должен посещать супругу халифа наедине... Ох, какой был бы срам!.. Но могу поклясться, на коране и воде перед кем угодно, этот молодой визирь за все время, пока они живут у меня, и одного мгновения не оставался наедине с супругой халифа. Очень благопристойно».
Старушка умилялась вполне уместно. Мирза отлично понимал, что приезд его в Матчу с одинокой молодой женщиной мог вызвать нежелательные сплетни. А ему как полномочному эмиссару британского правительства это никак не пристало.
Однако одинокой жизнь Наргис в мехмонхане старушки нельзя было назвать. Именно то, что никто не приходил к ней, кроме Мирзы, позволяло ей общаться с женщинами кишлака, а кто, как не женщины, знали все и обо всем. Сейчас при жалком свете коптящего и распространяющего запахи горелого кунжутного масла чирага молодая женщина писала и старалась не встречаться с живым, нетерпеливым взглядом хозяйки. А та бесцеремонно и губами, и глазами, и пальцами предлагала: «Да выкинь же этого своего надоедливого визиря! Ходит тут, мельтешит. Да убери его. У меня язык чешется. Столько новостей!»
Но Мирза не уходил: перевод статей ему «вот как нужен». Он хочет показать эти статьи их светлости беку Матчинскому и прибавить ему гордости и уверенности в себе.
Приезд Мирзы в этот дикий край верховьев Зарафшана и, конечно, привезенные обещания, не говоря уж о материальном воспомоществовании, вскружили головы главарям басмачей.
Английское правительство вступило в переговоры с Мирзой. Собственно говоря, даже «не вступило», а продолжило их.
Ведь уже в девятнадцатом году тот же Мирза с целой делегацией басмачей, мулл и ишаков ездили за тридевять земель, а летом вернулись в Матчу.
Было тогда семь раз на семь
Сундуков обещаний и клятв.
От одних сладких посулов
На языке был мед и в глазах – золото.
Нельзя сказать, что позже англичане не помогали. Несмотря на расстояния, несмотря на горные хребты и безводные пустыни в Матчу попадало кое-что. И не в малом количестве: и деньги, и винтовки, и патроны, и даже ручные пулеметы. Но «помощь» шла через руки их высочества господина эмира Бухарского, к тому времени уже сидевшего в Кала-и-Фату близ Кабула, и больше всего заботившегося о том, чтобы набить свою мошну.
Матчинский бек, самонадеянно объявивший себя правителем независимого государства, обрадовался приезду Мирзы из вторичной поездки к «инглизам» и тем более – результатам переговоров. Теперь уж можно было не ограничиваться отдельными вылазками в Туркестанскую республику, грабежом Уратюбинского и Ходжентского уездов или рискованными набегами на Фальгарскую полунищую волость. Теперь он начнет поход на Урсатьевскую и на Ташкент. А там – и Москве придется потерпеть. Вот что пишут друзья «инглизы». «Кинжал прямо в сердце столицы большевиков». Берегитесь!
Бек совсем раздался от спеси. Здесь он чувствовал себя могущественным шахом. И у него были на то основания. Трижды Советы начинали поход против Матчинского бекства, и трижды эти походы оканчивались ничем. На неприступных оврингах и перевалах операции Красной Армии неизменно кончались неудачей.
– Сегодня день больших решений! – сказал Мирза, забирая у Наргис листки с переводами. – Наконец мы вырвемся из этих нор и поедем в теплые страны.








