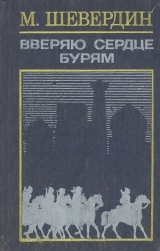
Текст книги "Вверяю сердце бурям"
Автор книги: Михаил Шевердин
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 29 страниц)
И было чему удивляться. Мерген мог прошагать за сутки своими саженными шагами по горам шестьдесят верст и в тот же день уйти обратно. Часто, провожая Мергена до окраины селения, Георгий Иванович оставался стоять на возвышенном месте, откуда далеко видна была горная дорога. Долго, долго он следил за могучим странником, пока его силуэт не сливался с черными скалами и не пропадал в густом тумане горных ущелий. Мысленно Георгий Иванович слал поклон нежной, слабой девушке туда, в страну льда и битв, дочери своей любимой жены Юлдуз, которая по-прежнему ждала вместе с сыном его в кишлаке Тилляу.
Нельзя сказать, что матчинский бек равнодушно взирал на дерзкие дела женщины-комиссара. Помимо постоянно находившегося при нем британского эмиссара Мирзы он сам принимал меры, хотя точно не знал, где может появиться Наргис. Посылал группы басмачей на перевалы на перехват, приказывал искать в селениях.
Но зима еще никак не сдавалась. Держались суровые морозы, свирепствовали вьюги, сообщение между кишлаками становилось мукой-мученической. На бекских людей напала зимняя спячка. Они прятались под теплыми сандалами, зарывались с головой в одеяла и кошмы и совсем деревенели. Все они были южане, и холод действовал на них парализующе. Они не соглашались замерзать в сугробах или получать пулю в лоб из-за какого-либо утеса. Действовали нерешительно и беспомощно. А поход эскадрона Пардабая Намазова продолжался до весны.
Матчинский бек свирепел:
«С дьявольской хитростью, с сатанинской злобой эта женщина-комиссар наводит ужас на Фан-Дарью, Фальгар, Магиан, Фараб. Женщина-комиссар – мусульманка. Она проклята богом как отступница. Убейте ее!»
Приказ шел за приказом, а Наргис принимала участие в рейдах.
Местные жители, озлобленные зверствами басмачей, радушно встречали бойцов Красной Армии, расстилали йа снежных сугробах кошмы и последние одеяла, не боясь, что их порвут тяжелые подковы с шипами, чтобы эскадрон мог пройти через непроходимые перевалы. В продовольствии для красноармейцев и фураже для коней не было отказа. Красный отряд проходил там, где замерзали во льдах басмачи, а басмачи бежали, объятые ужасом при виде островерхих шлемов бойцов Пардабая. Банды басмачей не выходили из состояния панического страха. А продвижение караванов с военным снаряжением для басмачей из Гиссарской долины по фальгарским тропам с приближением весны приостановилось.
Британские уполномоченные потребовали обеспечить безопасность для караванов с оружием, а сделать это Селим-паша был не в состоянии. На всех путях маячила вместе с краснозвездными силами смелая джинья гор или, как тепло ее называли таджики-горцы, – наша Бибигуль или Цветок-Комиссар.
Всякий раз, когда Наргис возвращалась в свою хижину над зарафшанским ущельем, ее ждал «скучный сухой разговор».
Мирза расхаживал по мехмонхане неслышно, вкрадчиво ступая в своем неизменно белом одеянии, – он считал, что белый цвет одежды и чалмы свидетельствует о чистоте и возвышенности его побуждений – и медленно тихим голосом читал нотации, от которых так и несло кораном и шариатом. Мирза отчитывал Наргис за то, что она своими разъездами по гостям роняет себя – жену халифа – в глазах грубых, невежественных жителей гор. Причем он совершенно не касался выступлений девушки перед населением. Тем более он не упоминал о странных'совпадениях действий экспедиционного отряда эскадрона красных кавалеристов и посещений молодой женщиной тех самых пунктов, где подвергались разгрому селимпашинские караваны. Он говорил исключительно о неподобающем поведении столь высокой особы, как эмирша, титулом которой он непременно даже в беседах с глазу на глаз именовал молодую женщину.
А она, скромная, нежная, слабая, сидела в уголке мехмонханы, зябко кутаясь в ватный кашгарский халат, присланный ей в подарок самим Матчинским беком. Щеки нежного лица разгорались пунцовым огнем, глаза горели огнем презрения, таинственно гипнотизируя разглагольствовавшего собеседника. Своим нежным горн тайным голоском Наргис произносила какую-то фразу; отнюдь не в оправдание себя.
«Я свободная женщина. Я не арестантка, а ты, Мирза, не надсмотрщик из эмирской ямы-зиндана, и передай, пожалуйста, благодарность беку. Какой роскошный фиолетового шелка халат он прислал. На меху из куницы. Только жаль, что я не смогу надеть его, когда поеду в гости по кишлакам, ибо погода его попортит».
Но думала Наргис иное. К чему ей красоваться в таком богатом одеянии перед бедняками. Нет уж, в стареньком полушубке да еще под паранджой куда как спокойнее. Ну а то, что «братец» Мирза зудит и зудит, ее не беспокоило: «Собака не может не лаять».
Как далека была Наргис от мысли, что смертельная опасность крадучись бродит за ее спиной и что только защита Мирзой ограждает ее от падения в бездну. Она презирала Мирзу, но совсем не боялась.
Наргис сообщили, что она представлена командованием за Матчинскую операцию к высокой награде. Многоопытный и мудрый дед Пардабай не раз, покачивая головой, предупреждал ее. Он любил свою внучку и боялся за нее.
Мирза был рядом. Опасность прежде всего исходила от него. С лицом, побледневшим до синевы, он ходил по мехмонхане. Огоньки коптящих чирагов то разгорались, то почти потухали от развевающихся пол его халата. Чирагов в мехмонхане горело несколько, что должно было показывать, как внимательно относятся к супруге халифа в Матчинском бекстве.
С потерянным видом Мирза нудно бормотал о том, что «отлучки Наргис неподобающи, неприличны, недопустимы, что бек изволил выразить недовольство, что бек не допустит поношения своей персоны даже со стороны супруги халифа, что...»
Распахнув свои густые ресницы, Наргис с яростью взглядывала на Мирзу:
– Братец, ты несносен. От усталости я еле сижу. Я хочу спать. Уйди, пожалуйста. Тебе и так в темноте нетрудно будет сломать ногу на улице в колдобинах... А твой бек, его правительство, воровское правительство, которое стыдится своей власти, но держится за нее без всякого стыда... Мне нет дела до Матчинского бека!.. Иди же!
Поддерживаемый под локти горцами, спотыкаясь о ледяные кочки, Мирза брел по тропинке и шептал проклятия.
Он понимал, что Наргис ненавидит и его, и его дела. И в то же время он ничего не предпринимал, чтобы остановить Наргис, разоблачить, наказать. Он главный эмиссар британской империи, самый необходимый человек в Матче, собирающий силы для похода против большевиков. Мирза возглавлял поход против большевиков. Отсюда, даже в самые глухие уголки Бухары, Ферганы, Сырдарьи, всего Туркестана проникали его Шпионы.
И в Матче у него вроде было все в порядке; именно к Мирзе стекались доносы из Гиссара, Каратегина, Гузара, Карши, Старой Бухары, Самарканда. Он знал о всех передвижениях дивизионов Красной Армии, готовивших под руководством комкора Георгия Ивановича штурм бекства. Мирза все знал о людях, близких к матчинскому беку, – курбаши начальников. Мирза был вполне достоин своего места главного эмиссара: энергичный, образованный, насквозь пронизанный неиезуитской дипломатией, алчный, властолюбивый.
Он еще только перешагнул порог власти, некоторые ненавистники говорили, – «только занес ногу», как начал убивать малейшее стремление к свободе в народе. Убивать, не убивая. Потому что сам не убил своей рукой никого.
Своей рукой он не ударил ни кошку, ни собаку, ни птичку.
Не смел поднять он руку и на самого опасного своего врага, на вражеского комиссара, на прекрасную Наргис.
Это не значило, что он отступился от Наргис и бездействовал. Мирза держался восточным мудрецом:
Признаю зло необходимым,
если не неизбежным.
Ненавидя Наргис, но, привыкнув держать ее в подчинении и распоряжаться ее судьбой, Мирза не хотел терять это сокровище.
Мирза с нетерпением ждал весну: солнце все сильнее грело скалы. Все больше снега таяло в ущельях и на вершинах.
Вот откроются большие перевалы, и Наргис отправится в далекое путешествие на юг.
И все, такие сложные, вопросы найдут свое решение.
Наргис ничего не подозревала. Она недооценивала способностей своего «братца».
VI
Ослепила молнией своего
взгляда.
Глядя на нее, лишаются рассудка
от ее красоты.
Из «Кырккыз»
Коль волей напрягается тетива, и муравей одолеет льва.
Бедиль
Наргис послала из Матчи вестников, которые, перейдя хребет, пробрались в Уратюбе, на станцию Урсатьевскую, в Ходжент...
И вскоре не кто иной, как командир узбекского эскадрона Пардабай Намазов оказался с наиболее лихими кавалеристами в долине Зарафшана, в окрестностях Обурдона. Как раз в тот день из Фальгара по оврингам и тропам следовала цепочка вьючных лошадей под охраной двух десятков вооруженных. Но они не доехали до Обурдона ни в тот день, ни в другой.
На их пути в маленьком селении, носившем жесткое название Санг-Камень, шел веселый той. Караванщиков пригласили на плов из козленка, сдобренный настойкой из тутовых ягод. Чай заедали лепешками из тутовой муки. Приезжих жители разобрали по домам, потому что в дорожной чайхане стоял мороз тридцать градусов.
А когда утром все протерли глаза, то ни одной вьючной лошади, ни одного вьюка нигде не нашли.
Чтобы на жителей не пал гнев Матчикского бека, чтобы предотвратить кровавую расправу, комэск Пардабай собрал всех участников каравана у мечети и сказал:
– Своих лошадей получите в Уратюбе, когда откроются перевалы. А сейчас, владельцы лошадей, убирайтесь домой и не смейте помогать басмачам, а то останетесь без голов.
А басмачи Селима-паши, охранявшие вьючный караван из Фальгара, были уничтожены красногвардейцами Пардабая,
– Селим-паша шлет оружие и боеприпасы, а Пардабай отдает их тем, кто хочет воевать против Селима-паши, – говорили горцы.
Жители селения Азноб писали:
«Во имя бога и его пророка, помогите! Выражаем желание и полную готовность содействовать Советской власти – покарать кровожадных тиранов – курбашей – и помогать красным воинам пищей и кормом для их коней, везде и сколько потребуется. А также обещаем везде и всегда бить всяких проходимцев и насильников. Но мы, жители гор, не имеем ружей, патронов и пороха, а потому просим госпожу Биби-гуль походатайствовать перед Советской властью выдать нашим доверенным посланцам оружие. А если Советская власть не сможет выдать ружья и пули с порохом, мы в доказательство нашей доброй воли и чистоты намерений возьмем в руки камни и пойдем бить воров, чтобы хоть чем-нибудь разбить воровские банды и расколоть чашу тирании на мелкие черепки и осколки».
Это письмо горцев, как и все другие, отличалось некоторой живописностью слога. Секрет объяснялся просто: эти письма сочинял по поручению безграмотных горцев постоянный спутник Наргис в таких поездках – поэт и летописец Али.
Совершенно неожиданно он появился в домике ясуман и склонился в поклоне перед изумленной Наргис. Она не сочла нужным расспрашивать его о том, как он оставил лагерь Селима-паши, где он, по слухам, состоял в советниках командующего исламской армией, и как он попал в Матчу. Наргис позволила мечтателю и воздыхателю мечтать и воздыхать и... сопровождать ее в тайных поездках.
Поразительно (и, может быть, для него самого), что здесь, в Матче, Али вышел полностью из повиновения Мирзы и истолковал его приказ «охранять жизнь и честь супруги священного халифа» весьма своеобразно. Он бдительно следил, чтобы на Наргис не пал взгляд басмачей, «чтобы и волосок на голове Прекрасной не шевельнулся от «зловонного дуновения» слова какого-либо изверга и мерзавца». Выполняя все прихоти Наргис, Али выполнял и такую прихоть Наргис, как поездки ее по горной стране.
Но Али имел чистую совесть – он не знал и якобы не подозревал, чем занимается Наргис в селениях Кухистана на всех праздничных тоях. Боже мой, его бы хватил удар, если бы он знал про мандат, который имела Наргис. Нет, он не поверил бы своим глазам, если даже прочитал бы текст этого документа.
Комиссар? Наргис – комиссар Советской власти?
Али ничего не знал. А если Несравненная и просила, чтобы он писал этим козлоногим матчинцам письма в Ташкент, чтобы им продали оружие, так это же им было нужно, чтобы охранять свои дома и семьи от воров и разбойников, которых развелось очень много в Кухистане из-за постоянных войн и смятения в соседнем Бухарском ханстве. Да что там рассуждать? Ведь так хочет она, а воля ее для него священна.
О, мюриду остается слушаться
Слепо, образцово, безропотно.
Он же раб, повинующийся ишану!
Своим святым ишаном Али навечно определил для себя Наргис.
Али страшно уставал, разъезжая с Наргис по заснеженным горам. Добравшись до окраины селения в горную мехмонхану, Али вешал на колышек свой маузер, очищал кукурузный вареный початок, выбивал из тыквянки немного зеленого наса и звучно «сербая», пуская слюну, заправлял его в рот.
Жевательным табаком Али отгонял мрачные мысли: что там делает в селении его повелительница? Не наткнется ли она там на людей матчинского бека? Он прислушивался к звукам, доносившимся сюда, в чайхану, состоявшую из шаткого камышового навеса, продуваемого всеми ветрами вершин Зарафшанского и Гиссарского хребтов.
Но нет – все тихо. Пряча замерзший нос в отворот шубы, Али попивал обжигающий губы чай и бормотал:
У каждой должности человек;
У каждого человека – дело.
Он доволен своим делом. Хоть он и сознает: «Слова твои горьки. Их проглотить». А эти горькие слова он слышит от Наргис очень часто:
«Али, вам нечего ездить за мной! Знайте, что жизнь – забава и игра».
«Забава? Игра?» Нет. Для Али жизнь – его мечта. Он верит: наступит час – и он вырвет ее из этого страшного Матчинского бекства. А пока Что:
Выслушиваем мы ее приказания
и повеления
Ухом разума
и слухом души!
VII
О, зло вселенной вечное —
война!
Земля слезами от тебя полна.
Фирдоуси
Георгий Иванович, Пардабай Намазов и Баба-Калан высадились из теплушек с бойцами на станции Урсатьевская. Вдали, на юге, синели горы, новобранцам предстоял путь туда, за эти горы, в Матчинское бекство. Красноармейцы, прибывшие из России, да и командиры-туркестанцы смотрели с перрона на юг, на синие горы. Впрочем, горы не просто синие: тона красок, фиолетово-голубые, ярко подчеркивались белыми снеговыми вершинами, врезавшимися в черные далекие тучи.
– Горы-то синие, – скептически протянул командир эскадрона Пардабай Намазов, – да за синими далями черным-черно.
– В каком отношении, товарищ Намазов? – спросил командир корпуса Георгий Иванович.
– Во всех. Первое – за этими сине-голубыми хребтами Черная Матча. Та самая, которая полюбилась господам чемберленам да черчиллям. Та самая Матча, о которой эта газета «Тимес» (он так и произнес) писала, что Матча, то есть Матчинское бекство – острие кинжала в грудь большевистской России.
– Во-первых, не «Тимес», а «Таймс»... Во-вторых, пусть тучи – трижды черные, они нам не страшны. Мы знаем и прибыли сюда, чтобы их развеять.
Георгий Иванович, Пардабай и Баба-Калан прогуливались по перрону станции Урсатьевской. Кроме красноармейцев, тут же, на перроне, толпились пассажиры.
Они заботливо и в то же время немного скептически поглядывали на бойцов с красными потными лицами, суетившихся у вагонов. Все на бойцах было по форме, за исключением... Да, на ногах красноармейцев, прибывших эшелоном из центральной России; были не сапоги, а плетенные из лыка лапти.
Как бы оправдываясь, командир, сопровождавший эшелон из России, сказал:
– Чтоб этих интендантов разорвало, чтоб их...—и выругался и покраснел под взглядом Георгия Ивановича: «не буду, не буду!»—В приказе сказано не выражаться, значит, не буду, хотя послать кое-кого... и подальше не мешало бы. Как мы полезем на эти синие со снегом горы, когда все без сапог? Сказали в Самаре – кожи в Туркестане—завались! Сапоги даже на верблюдов шьют. А новобранцев в эшелоны погрузили вот так... вот в этих самых... Вы говорите – утром выступать. Что, так в лаптях и пойдем штурмовать перевал Шахристан? Говорят, он высотой с этот... как его... еще в географии... Монблан. Здорово! Британскую цитадель будет крушить воинство в лаптях.
– И сокрушит... Ребята один к одному, боевые. Не знаю, как стреляют, а вот драться мастаки. – Георгий Иванович посмотрел на горы. – Придется туго. Перевалы закрыты. Видишь, все бело, все в снегу... Сейчас и ишак там не пройдет. Мы ударим внезапно. Пока нас не ждут. В прошлые разы... промедлили. Так ни с чем из-под Обурдона и возвратились... Если теперь неудача – Халбута окончательно задерет нос.
– И без носа останется,– мрачно сказал командир. Кому, как не ему, было знать о трудностях операции. Он разглядывал бойцов. В их глазах, в их бойких, размашистых движениях было столько оптимизма и энергии! Все это были восемнадцати-девятнадцатилетние юноши, почти мальчики, – батраки, бедняцкие сыны, рабочие-подмастерья: по сути дела первый призыв в Красную Армию. Мобилизованные почитали за честь идти сражаться под Красным знаменем за свободу народов Востока.
Кого ни спроси из этих безусых пареньков, что он думает сейчас здесь, на перроне степной станции Урсатьевская, находясь в трех тысячах пятистах верстах от своего родного Тамбова или Харькова, и каждый, даже не слишком грамотный, а то и вовсе неграмотный, сразу же бойко отрапортует:
– Сражаюсь за Октябрьскую революцию! Долой белогвардейскую сволочь! Долой буржуев и капиталистов!
Когда разгрузка эшелона закончилась, паровоз еще долго свистел, прежде чем угнать состав. Машинист салютовал бойцам-«лапотникам», готовящимся к походу в горные дебри.
– Ну, господин бек, почтеннейший Саид Ахмад-ходжа, ну, господин Халбута, на сей раз вам – каюк. Накормим вас по самое горло, – заметил Георгий Иванович. Он смотрел на синие пирамиды гор, на снежные вершины, которые особенно четко вырисовывались на фоне свинцово-черных туч. – Быть непогоде. Даже ураганам. Но на этот раз вы, господа, не высидите. Никакие английские империалисты вам не помогут. Никакая погодка вас не оградит от красноармейского штыка.
На сей раз их старый знакомец ханжа и хитрец матчинский бек Саид Ахмад-ходжа и Халбута, безусловно,. попались. Стало известно, что окруженные конниками 32-й бригады одиннадцатой кавдивизии и прижатые со своими пятьюстами аскерами в районе кишлака Аучи, они бежали через перевал Обурдон в верховьях Зараф-шана в страну горных вершин Матчу. Здесь, среди гор, ледников и скал, басмачи делили в захваченных мирных уратюбинских кишлаках награбленное имущество, девушек и женщин. Забравшись под ватные одеяла и кошмы, обогреваясь огнем очагов, питаясь очень плотно пловом и шурпой из мяса захваченных в Хаватской степи баранов, наслаждаясь прелестями полонянок, курбаши со своими бандитами спокойно зимовали в расчете на будущие походы. Комкор Георгий Иванович знал от беглых чернобородых, огненноглазых матчинцев даже о том, что господин превосходительный бек Саид Ахмад-ходжа и его главнокомандующий Халбута на большом плове совещались о будущем походе и похвалялись: «Что из того, что народ в Матче бедный. Мы опять в Хавает пойдем, в Бегават, Заамин. Земля там богатая: закопай узбек рваный сапог – десять пар лаковых вырастет.
– Что из того, что мы ушли из Хаваста, – сказал Саид Ахмад-ходжа, хотя он едва унес ноги под ударами клинков красных кавалеристов,– Мы люди, угодные богу, удачливые. Мы такую добычу привезем! Мы здесь, в Матче, в безопасности – никто сюда не пройдет зимой. Разве мужик полезет на горы? Мужик привык к равнине. Мы – горные люди, мы где угодно пройдем».
По самым скромным планам Саида Ахмада-ходжи летом будущего года он во главе непобедимой исламской армии победоносно вступит в Ташкент и покончит с большевиками в Туркестане.
– Сколько у меня воинов! – ударяя себя в грудь кулаком, восклицал Саид Ахмад-ходжа, красный от возбуждения и мусалласа. – Сколько у нас патронов и новых винтовок! Друзья англичане не забывают нас. Красные кавалеристы смотрят только вперед меж ушей своих лошадей и не видят, что через горные перевалы, по тайным тропам, нам везут оружие. Да у меня столько винтовок, что можно вооружить сотню тюменей. Со священным возгласом «бисмилло!» пойдем против ташкентских большевиков и победим. А до весны отдохнем. Будем на соколиную охоту ездить, перепелиное пение слушать, жен ласкать...
Командующий Халбута и молчаливый, весьма мрачный эмиссар британцев Мирза всегда были вместе. Неутомимо, вдвоем с небольшой охраной они рыскали по заснеженным перевалам и обледенелым оврингам, неутомимо карабкаясь из одной горной «дехи» в другую, пробирались в занесенные по крышу каменные хижины, расталкивая пребывающих в зимней спячке заросших, почерневших лицами матчинцев, толковали с ними, иногда выгоняя их из жизни и заставляя чистить и смазывать оружие, повторять воинские приемы. Но где уж там было думать о воинской дисциплине, когда снег завалил улочки и каменные хижины так, что кишлак можно было найти среди сугробов лишь по синим дымкам да по замерзшим экскрементам и пятнам желтой мочи, когда мороз убивал на лету птиц, когда на овринге деревянные бревна превратились в сосульки, когда в стоящей колом тишине вдруг вздрогнешь до замирания сердца от грохота лавины, обрушивающей в ущелье миллионы и миллионы пудов снега и камня.
Молчаливо ездил Мирза вместе с Халбутой по таким горам, тщательно кутаясь в лисью шубу и глубоко насунув на уши и лоб свою лисью шапку. Но как мерзли ноги! Холод проникал до мозга костей, и Мирза был готов выть от боли, так пронизывал его мороз. Иногда, не выдерживая молчания, преодолевая свое презрение к дикарю, каким он считал командующего исламским воинством Халбуту, он снисходил до разговора с ним. Мирза, воспитанный в лучших медресе Стамбула, почитал и уважал в себе аристократизм и имел самые изысканные привычки. Он любил утонченное обращение и восточный комфорт. И ему претили грубые слова из пасти курбаши Халбуты, неотесанного горца, его грубое рыканье и густые кислые запахи, исходившие от его шубы. Но жизнь есть жизнь. Судьба заставила интеллигента Мирзу жить рядом с «дикарем» и даже жаловаться ему на судьбу и превозносить себя.
– Судьба! Мы, наверное, с вами герои, героизм которых превышает геройство великих батыров прошлого!
– Почему? – простодушно бросил Халбута.
Говорили и он и Мирза с трудом. Ветер с Зарафшанского ледника дул прямо в лицо, швырял острые, колючие снежинки, слепил, леденил губы и пробирал до костей даже через лисью шубу Мирзы.
Но Мирза не удостоил Халбуту ответом, а сам думал, что он, сколачивая воинство по указанию и инструкциям своих хозяев британцев и проповедуя высокие взгляды и идеи о великом исламе и создании тюркской империи, получает за это настоящими фунтами стерлингов и золотыми гинеями. Такие мысли согревали ему душу: ведь у него на лицевом счету в одном банке, в некоем государстве лежит сумма... Боже, но как страшно на овринге, по которому он плетется, ведя под уздцы облепленного мокрым снегом коня. Халбута только что смахнул с глаз коня снежные пробки и сам плетется, едва переставляя одеревеневшие от мороза ноги, стараясь осторожно, с ужасом в душе, ставить подошвы на скользкие жерди, в прорехи меж которыми, далеко-далеко в пропасти, бешено крутятся какие-то белые звери, лохматые, бешеные. И даже не слышен рев воды, так далеко внизу мчится Фан-Дарья. И может в одно мгновение умчать Мирзу, и его идеалы, и его банковский продажный счет.
Воистину, стремясь к славе,
мужчина сам убивает себя.
Достаточно одного неверного движения, достаточно обледеневшему сучку подломиться, достаточно неловко непослушным телом зацепиться за заледеневшую каменную стену и... Все может рухнуть в бездну, в мрак... И ради чего! Ради высоких цёлей! Ради идеалов! Какие там цели и идеалы? Не пора ли перед лицом смерти отдать себе отчет в том, что ты никакой не великий герой, не спаситель ислама и страны тюрок, а просто продажный наемник, пошедший на все эти мучения, страхи, бесконечные лишения за пригоршню золота. И в тот момент, когда жерди зловеще трещали под ногами, а буран слепил глаза так, что не видно было, куда поставить ногу, Мирза, забыв, что он герой и борец за великие идеалы, что ему хорошо платят, ругал себя за то, что полез в эту авантюру.
Он готов был все отдать, лишь бы избавиться от гнусного, липкого страха на этом ужасном овринге.
...О том, что Мирза в Матче, что он состоит эмиссаром англичан при беке Саиде Ахмаде-ходже, что он является главным идейным вдохновителем независимости Матчинского бекства, Георгий Иванович знал из писем и устных «депеш» Наргис, принесенных ему матчинцами.
Георгий Иванович знал, что Мирза – опасный враг. Именно потому Георгий Иванович и получил назначение сюда, в Матчинскую экспедицию. Наряду с лозунгом: «Даешь Матчу!» – у комкора в душе был свой лозунг: «Даешь Мирзу!»
Нет, решил комкор: на этот раз Мирза не уйдет. С юга, со стороны Душанбе, дороги закрыты. Через ледники на западе, через Каратегин в Фергану не пробраться. Да, «мрачный гений интриг» наконец попался.
Но чтобы добраться до Мирзы, предстояла сложная военная операция в неприступных горах.
– Никто не ходит в это время в Матчу, никто не выходит из Матчи, – сказал Баба-Калан. – В год черепахи, когда от землетрясения упал купол малого маза-ра, мой отец Мерген прошел через Обурдон, и то не ехал, а держал коня на поводу. Шел неделю пешком, когда летом там можно пройти за день.
Сам Баба-Калан всего месяц назад, когда в горах и на перевалах еще настоящая зима, ходил в Матчу по заданию командования. Он носил письмо беку Матчин-скому Саиду Ахмаду-ходже, – ультиматум, в котором беку предлагалось выдать курбаши Халбуту (Халбуту должны были судить за зверства во время его разбойничьих набегов) и английского лазутчика и эмиссара Мирзу.
Баба-Калан один пешком перебрался через горные хребты, блуждал по горам в тумане. Выдержал снежный буран. Чуть не замерз, но отсиделся под снегом, питаясь сухой ячменной лепешкой, ссохшейся в камень, пробрался в кишлак, к Саиду Ахмаду-ходже и смело встретился с ним, хотя, по словам Баба-Калана, – воскуривать благовония для кучи дерьма бесполезно и безумно смело, потому что матчинский бек, чувствуя полную безнаказанность, попросту приказывал перерезать глотку всем парламентерам. Но молодой командир Баба-Калан был очень уважаемым человеком в селениях на северных склонах Туркестанского хребта, его знали и в Ташкенте, и в Фергане, и в Самарканде. И поэтому ни Саид Ахмад-ходжа, ни владетельный бек, ни Халбута, командующий исламской армией не посмели пальцем тронуть Баба-Калана. Они понимали: «старый вол топора не боится». Саид Ахмад-ходжа и Халбута, усадив этого могучего батыра, с тревогой и даже со страхом смотрели на него. Они написали ответ, грубый, наглый, и отпустили Баба-Калана, надеясь на то, что он погибнет в какой-нибудь пропасти или расщелине ледника. Но Баба-Калан вернулся гордый, окрыленный тем, что выполнил задание командования Красной Армии. Баба-Калану повезло: Мирзы в кишлаке не было.
Мирза не посчитался бы с такими пустяками, как законы гостеприимства. Он не дал бы Баба-Калану уйти целым и невредимым, хотя бы потому, что поход его через снега и ледники Туркестанского хребта показывал командованию Красной Армии, что такой человек, как Баба-Калан, пройти может. А там, где пройдет один, – пройдут и тысячи.
С Мирзой Баба-Калан не встретился, а вот с сестрицей, как это ни невероятно, – повидался.
...Из Ташкента, с высокого места, в хорошую погоду, виден перевал Обурдон. Синие Туркестанские горы стоят стеной. За стеной Матча, а к югу от нее за неприступными горами столица Таджикистана Душанбе. Мат-чинское «независимое» бекство по территории с небольшой старый уезд с малочисленным населением. У бека Саида Ахмада-ходжи вдруг оказались не только золотые червонцы, а целый арсенал отличного, новейших систем оружия, и «армия» отборных воинов, и главнокомандующий, бойкий пронырливый Халбута, отъявленный бандит.
На счету Халбуты и его аскеров – налет на окрестности Уратюбе, где они растерзали бригадира Хаватского сельского кооператива за то, что он осмелился сеять хлопок, увод в плен двух несовершеннолетних девушек и разграбленный кооператив.
Шайка поплатилась за свои преступления, В бою Халбута был разбит и бежал в Заамин. Там он устроил поджог хлопкозаготовительного пункта, убил старика, работавшего тридцать лет приемщиком хлопка и приказал воткнуть его голову на шест у ворот сельсовета. Подоспевший из Джизака эскадрон Пардабая вступил в бой с шайкой.
Бросив пятнадцать убитых, четыре лошади, шесть винтовок, Халбута бежал со своими басмачами в Матчу. Этот набег в своих воззваниях и листовках Мирза изобразил как торжество исламского оружия.
Не будем забывать, что в 1922 году вся Восточная Бухара оказалась в руках басмачей, что в январе командование Красной Армии вынуждено было вывести гарнизон из Душанбе и что пришлось отводить с боями воинские части до Байсуна. Упорные бои велись всю дорогу. Обстановка осложнилась тем, что в районе Бухары появился курбаши Абдукагар с большой шайкой. Вот почему, несмотря на серьезные неудачи, Халбута задирал нос, а Мирза сочинял победные реляции.
Но тяжелый 1922 год прошел. Красная Армия ликвидировала Энвера. Душанбе был вновь в руках Красной Армии. И Матчинское бекство оказалось в окружении.
Солнце в тот день сделалось шафрановым, а небо яхонтового цвета, и Баба-Калан счел это хорошей приметой для начавшегося похода.
Выступили в поход. Проводником был крепкий старик уратюбинский, у которого Халбута украл и опозорил дочь.
– Убью Халбуту! Убью опозоренную дочь! – время от времени, сжимая винтовку, восклицал старик.
– Кончать надо с басмачами! Поможем Красной Армии, чтобы ни один негодяй не ушел из ловушки! – заключил Баба-Калан.
– Но там целое бекство! Там войско ислама! – заговорил шагавший рядом с Баба-Каланом приземистый чернобородый крестьянин, тоже доброволец. Мирный из мирных дехкан Заамина, он еще никогда не испытывал свою храбрость. И потому Баба-Калан старался его поддержать:
– Подумаешь, бек Саид Ахмад-ходжа! Он блоха на теле слона. Красная Армия свергла такого могущественного бека, как эмир Бухары, и ни одна собака не тявкнула, а тут!..
Баба-Калан поддерживал в бойцах бодрость на трудных горных тропах. Поход затягивался: враг прятался. Не произошло ни одной стычки, не прогремело ни одного выстрела среди чудесных весенних сине-зеленых долин. А командир жаждал боя.
В бою один шаг равен ста годам пути.
Российские новобранцы шли по крутым каменистым тропам все выше в горы.
VIII
Твоя пасть пахнет кровью
твоих жертв,








