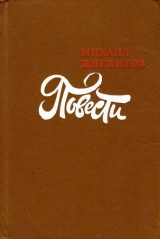
Текст книги "Повести"
Автор книги: Михаил Жигжитов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 22 страниц)
ЗА УЩЕЛЬЕМ СЕМИ ВОЛКОВ
ГЛАВА 1
Самагир узнал это место, поросшее молодым кедрачом-колотовником[29]29
Кедрач-колотовник – молодые плодоносящие кедры.
[Закрыть], над которым кое-где возвышались коренастые великаны. Узнал и могучее дерево с горбатым седловидным корнем. Под этим кедром меткая пуля Чимиты прошлась по волосам, точно погладила.
То было тревожное время Одинокого Волка, и песня смерти для него была не нова.
Самагир сел на середину корня, запалил свою черную трубку и глянул вверх. С крутых плеч Баян-Ульского гольца быстро сползла туча и накрыла кедровник. В лесу стало сумрачно и неуютно, бесшумно посыпались беленькие бусиночки пороши. Дятел бросил долбить рябой ствол сухостоя, покрутил головой, поежился и улетел к речке Духмяной. Медленно нарастал шум. Тонконогие ели начали лениво раскачиваться и длиннолапыми руками сбрасывать с подружек заузжалый старый снег. С макушки соседнего дерева, обламывая сухие сучья, понеслась увесистая кухта – и тяжелая снеговая шапка бухнулась у ног Самагира. Осип словно бы вновь услышал сухой треск выстрела.
Тот выстрел и задержал Одинокого Волка в здешней тайге. По темному, с глубокими морщинами лицу Осипа промелькнула усмешка и спряталась в сивых усах.
Оська перестал быть Одиноким Волком, нашел свою новую тропу: стал честным охотником, про свои старые воровские волчьи тропы в заповеднике и вспоминать больше не хотел.
А что их, в самом деле, вспоминать? У него теперь, как у всех добрых мужиков, была ладная баба, работящая, смелая, куда лучше?
Все бы хорошо, да вот тоска… тоска по родному Подлеморью, по Малютке-Марикан, точно червь, разъедает душу.
Еще до этого в Подлеморье от Антона, охотника, он слышал, что вместо царя Миколки теперь сидит на золотой скамейке во дворце простой мужик Ленин Владимир, значит, Ильич – умом и душой батыр, шибко жалеет черный люд, а таких, как бедные тунгусы, – тем паче. Изо всех сил старается, чтобы у простых охотников была хорошая жизнь.
«Раз жалеет черный люд, пожалеет и меня, вернет мне Малютку-Марикан, – подумал Оська. – Дал же я зарок не хитить больше соболей в заповеднике и сыскать себе новую правильную Тропу. А то спросит Ленин: «Где, Оська, промышляешь?» Как ответить, ежели своего слова не исполнил? От стыда сгоришь. Не обманывать же Ленина, сроду никому не врал. Это самое пропащее дело, когда человек ложные слова говорит. Давно бы надо было покинуть Малютку-Марикан, только, вишь, духу не хватало. Ежели сам Ленин дозволит промышлять в тех местах, тогда другое дело».
Вот так, выходит, и оказался Оська Самагир за ущельем Семи Волков. Здесь он промышлял белку, соболя в Баян-Уле не было. Для заядлого соболятника такая охота одна морока. Как тут быть? Оська и надумал: добыл для подарка черно-бурую лису и пошел искать батыра Ленина.
Для этого он и разыскал Антона-охотника. Тот уже забросил охоту и сидел начальником в бывшем волостном управлении. Так у него жизнь повернулась при новых порядках.
Антон – бывалый человек. Воевал, помогал Большому батыру Ленину забрать у Миколки-царя его каменный чум. Миколку судили, отправили в Страну предков, в Нижнюю Землю[30]30
По шаманской вере считалось три земли: верхняя – обитель богов, средняя – колыбель людей, нижняя – обитель мертвых.
[Закрыть]. Туда ему и черная тропа с колючками, так ему и надо.
Антон поведал Оське много дивного, Ленин, мол, дай бог ему здоровья в Стране предков, на Нижней земле, написал бумагу, чтобы люди хранили от разора тайгу и всю живность, чтобы не поганили всякой нечистью реки и озера, нерестилища. А нашего баргузинского соболька велел расплодить и расселить по всей сибирской тайге.
– Значит, и за ущельем Семи Волков будет соболь? – недоверчиво спросил Оська у Антона.
Антон твердо ответил:
– Будет, братуха.
Правду, видать, говорил Антон: через несколько лет Зенон Сватош со своими стражниками Егоршей Скосырским и Бимбой Бадмаевым привезли отловленных в заповеднике двадцать подлеморских собольков и отпустили их за ущельем Семи Волков. Плодитесь, мол.
На следующую осень, в покров, Оська увидел на пушистой снежной переновке много собольих сечек. В тот год был богатый урожай кедровых орехов, поэтому зверьки жировали в кедровнике. Следы были разные. Одни «двоили», другие «троили» – здесь пробежал «мужичок», а это напятнала «маточка».
Собаки, набежав на розовый соболий следок, подвизгивая в азарте, понеслись вдогонку за зверьком. И уже где-то там, на синем перевале, раздался их яростный лай. Кое-как добравшись до собак, Самагир брал их, рычащих, на поводок, тащил в сторону. Псы изо всех сил упирались, удивленно косили налитыми глазами на хозяина, мотали головами, отказывались понимать этот его поступок.
А у Осипа огнем горела душа – хотелось, как бывало раньше, добыть искрящегося на солнце черного красавца, громко запеть на радостях древнюю песню охотника.
Так бы он прежде и сделал, но теперь не то: хозяин этой богатой тайги нынче не Одинокий Волк, а Оська Самагир. А Осип, известно, понимающий хозяин; с большим трудом, но все же подавил в себе острое желание упромыслить соболька.
Уж кто-кто, а Самагир-то хорошо знал, каких трудов стоит добыть живого соболя, сохранить в пути, во время перевозки. Своими глазами видел, как Зенон Сватош выпускал их из клеток. Никому не доверял, все делал своими руками. В каждом ключе отпускал «мужичка» и «маточку», да чтобы были характером схожи, не то разбегутся. И на каждого соболя писал бумагу. Знал свое дело Сватош, с умом работал.
Как наяву видел Самагир добродушное лицо Зенона Францевича с ласковыми светлыми глазами.
– Слышь, Осип, ежели обережешь собольков – после будешь промышлять не хуже, чем по Малютке-Марикан, – сказал тогда Сватош, покидая Баян-Улу.
Однако, правду баил мужик.
А было время – между Самагиром и Сватошем была большая вражда. И все из-за Малютки-Марикан. Вспомнить стыдно… Сколько раз Одинокий Волк собирался убить Сватоша, но слава Миколке-богу, он отводил от греха.
Осип сидел у старого кедра, вспоминал свою жизнь. Ему было о чем вспомнить.
Старый бабай ушел в Страну предков, и в Баян-Уле, отрезанные от мира высокими горами, Оська с Чимитой жили вдвоем. Чимита продолжала ждать белых казаков и не расставалась со своей винтовкой. Управившись с домашней работой, она чистила ружье и уходила в ущелье Семи Волков.
Сначала она бесшумно, темной тенью плыла от дерева к дереву, достигнув ущелья, ныряла в колючий кустарник и ужом ползла к завалу.
У завала осторожно просматривала тропу, нюхала воздух и прислушивалась к звукам тайги.
– Сестра, здесь были злые люди?.. Нет?.. – шепотом спрашивала Чимита у любимой березки.
– Не-е, – качала головой березка.
Прислонив к завалу винтовку, Чимита долго смотрела в синеющую даль, где дремала степь, где дымились бурятские юрты.
«Ма-ма-а!» – разносился по ущелью стонущий зов.
«Ма-ма-а!» – передразнивали угрюмые скалы и сердито морщили свои каменные щеки.
Самагир, как мог, успокаивал ее и уводил домой.
Мирно текли воды Духмяной. Шло время. С каждым годом соболей становилось все больше. И пришло время, когда Самагиру дали вдруг пять каких-то бумаг с мудреным именем «лицензия». Он этакого слова отродясь не слыхивал… По каждой той бумаге дозволялось ему упромыслить одного соболя. Пять, значит, тебе бумаг, добывай, Осип, пять соболей. Самагир сгреб бумаги, заспешил к своему чуму. После с ухмылкой показал своим собакам вот, дескать, какая нынче мудреность.
Не откладывая, снарядился в тайгу. У речки Духмяной, в ельнике, собаки взбудили на жирах соболя. Зверек кинулся в сивер, в самую гущу ерника, багула и ольхи. Да куда денешься! Собачки свое дело знают: забрали след в середку и, не выпутывая хитрые петли, понеслись напрямую. Не успел Самагир пробежать и версту, даже упреть как следует не успел, на гриве раздался веселый, радостный лай. Осип подходил к лиственнице, на которой притаился соболь, точно там его поджидала любимая девка. Его вдруг даже бросило в жар. Перед выстрелом, по старой привычке, воззвал к Великому Мани и Миколе-чудотворцу.
Долго не спал в ту ночь Самагир. Не мог всласть налюбоваться своей удачей – черным головным соболем. Ведь сколько до того не держал в руках мягкой шелковистой шкурки… Встряхнул – словно искры посыпались. Прижал к щеке – и почудилось, что сердце его слышит нежную песню любви. А как же иначе, соболь-то был настоящий, «баргузинский», из родного, значит, Подлеморья, может, с Малютки-Марикан – вон откуда!
С тех пор Оська Самагир вроде бы стал постепенно отходить, оттаивать, что ли, все меньше тосковал по своей Малютке-Марикан. Прямо удивительно! А все потому, что сбылась его мечта – горы Баян-Улы по обе стороны ущелья Семи Волков теперь густо и навсегда заселились соболями.
Хорошо зажил Осип Самагир. Чимита родила ему сына Володьку. Имя сыну дал не пьяный шаман, а Антон, и записал Володьку Самагира в толстую книгу. Туда теперь всех ребятишек записывают.
Вечером, когда справляли «крестины», Антон пояснил Самагиру: «Слышь, братуха, сам Ленин носил это имя».
Оська сначала спужался: такое можно ли?
А потом запела его душа песню радости. Сам Большой батыр Ленин так прозывался. Это же понять-разуметь надо, какого человека доброе имя!
Жизнь Осипа потекла полноводной рекой. Светлее стало в чуме. Слышится в нем детский смех, забавный говорок. И Чимиту будто подменили. Стала разговорчивей, порой вовсе удивление – глянешь, а у нее улыбка на лице!
Быстро летели годы. При сытой жизни – ночь, говорят, коротка, теплее день.
Пришло время Володьке учиться, увезли парня к Антону. Там, у мамки Домны научился он баить на языке бледнолицых братьев, одолел грамоту.
В ту пору люди объединили скот и начали работать вместе, вроде бы одной семьей. Править большим хозяйством поставили Антона. И Осип с Чимитой не отстали от других. Скоро в Баян-Улу пригнали много скота: хозяйствуйте, эвенкийские люди, вместе с бурятами и русскими! Построили русские дома, скотине словно родня. Тут Чимита совсем выздоровела, перестала чуждаться людей. Только сильно скучала по сыну: он уже закончил в деревне школу, уехал в Улан-Удэ, обещал вернуться домой учителем. А что? При новой-то власти, при счастливой жизни такое неслыханное прежде дело совсем простым стало.
Пришла и поселилась радость в доме Самагира. Но ненадолго пришла… Наступил черный год войны.
Когда сын Володя ушел на фронт, Осип сразу сдал, сгорбился, почернел, сильно тосковал по сыну, сильно тревожился. Трясущимися руками набьет, бывало, трубку, жадно затянется и вдруг испуганно оглядится вокруг, будто ему почудится что-то страшное.
Вот как это было, вот что вспомнил Самагир, сидя на горбатом корневище старого кедра.
В ожидании приближающейся весны тихо дремала тайга. Сверху, сквозь зеленые кроны деревьев, смотрело холодное синее небо. Легкий ветерок гибкими пальцами ласково трогал лоб и щеки Осипа, вроде бы успокаивал. Да разве успокоишь израненное, осиротевшее отцовское сердце? Как сегодняшний день, помнит Осип весну сорок четвертого года. В хмурый день пришла худая бумага. Дочь соседки кое-как прочитала:
«…Ваш сын Владимир Осипович Самагир пал смертью храбрых в бою при защите Родины…»
Осип тогда еще ниже склонил свою сивую голову. В наболевшую душу старого таежника ворвалась колкая снежная метель и запела, нет, завыла протяжную песню печали. Никогда до этого дня не плакал старый эвенк…
Осип сидел, низко опустив сивую голову. Из густого тумана, из глухих заповедных воспоминаний всплыл перед глазами молодцеватый военный. На погонах блестят две звездочки.
– Эх, сынок, сынок! – с трудом выдохнул Самагир.
А рядом с Володей стоит старый вояка Антон, который тоже не вернулся с фронта.
– Эх, Антоха, друг мой! Говорят, ты комиссаром был, пошто не сберег ни Володьку, ни себя… А еще я слышал от Бимбы Бадмаева, который возвернулся домой, што вы с Володькой завсегда впереди всех шли в бой, – по таежной привычке вслух разговаривает Осип. В печальном голосе старика слышатся горделивые нотки.
Долго сидел старый Осип, а над ним с ветки на ветку тихо порхала кедровка. Наконец,, не вытерпела, зашумела, сердито заверещала:
– Уходи, че-че-ловек, я жрать хочу! Жрать-жрать-жрать!
– Тише, не реви, дура, уже пойду домой…
– Жрать-жрать-жрать! – не унималась птица.
– О-бой, – вдруг понимающе усмехнулся старик, – наверно, под корнем орешки схоронила… то-то и ревешь. Ладно, пойду уж.
ГЛАВА 2
На кромке крутого калтуса у Самагира стояли три капкана на соболя и один на лису.
Лисенок тот был отменно хитер. Не доходя до собольей ловушки метров восемь-десять, он начинал копать в снегу глубокую канаву, таким образом, хитрый зверек добирался до привады на соболя, отбрасывая капкан и пожирал вкусную приманку.
Но сколько лисенок не хитрил, а беды не миновал – попался в ловушку охотника. Самагир сунул его в куль и притянул сыромятным ремнем к поняге.
«Вот и сезону конец, не заметил, как прошло время большого мороза», – подумал эвенк.
На перевале в Баян-Улу раздался глухой выстрел, затем, один за другим, еще два.
Самагир вздрогнул. «Этими добили», – промелькнула мысль. В глазах тревога и растерянность.
– Уши!.. отгрыз бы вас медведь! Оглохнуть бы Оське, – прерывисто заговорил Осип, – поди загубили мою Чолбон.
– Ш-шкрлы! При чем тут уши? – шепелявит старая сосна.
Самагир сердито отмахнулся.
– Не ной, воронье гнездо! – воскликнул эвенк.
Яркое февральское солнце клонится к закату. Густая синь неба окрасила молочно-белый снег нежно-голубым цветом. Деревья, одетые в снежные тулупы, тоже стали голубоватыми и празднично приосанились друг перед другом.
Одинокая фигурка эвенка, издали похожая на пень, растерянно топчется между двумя кедрами.
– Може, не в нее пуляли, а? – спросил Самагир у тайги.
– Чего трясешь штанами, сивый черт, топай быстрей! – властно каркнула ворона и улетела на перевал.
– Эй, черная! Кость те в глотку, штоб подавилась! – сердито крикнул Самагир вслед улетающей злой вещунье.
Осип, не оглядываясь, быстро зашагал в сторону перевала, а вслед ему надсадным хриплым голосом шепелявит старая сосна:
– Ш-шпеши, ш-штарик! Шпеши, ш-штарик!
Самагир сердито плюнул и пригрозил ей на ходу:
– Доскулишь, воронье гнездо, срублю на дрова!
На перевале Самагир остановился у белой известняковой скалы. Вокруг нее весь снег был утоптан острыми копытцами, но следы были старые. Чтоб немного успокоиться, сел на камень и закурил.
«Моя Чолбон на этой бойче[31]31
Бойча – скала.
[Закрыть] спасалась от волчьей стаи. А здешние места, считай, самые кормистые в Баян-Уле. Бывало, когда наступит время больших морозов, Чолбон спускалась к Духмяной и ела из моей копны… Ха, зачем же ей покидать родные места?..» – рассуждал сам с собой Осип.
Охотник повсюду встречал следы изюбрихи, но они были старые.
Наконец, на склоне горы у густой кучки берез и кедростлани Самагир обнаружил свежее лежбище. По застывшему вчерашнему калу он заключил, что здесь жировала матка.
«Стреляли где-то в этих местах… меня, паря, не проведешь… Если Чолбон не прибежит на мой зов… значит…» – У Самагира опустились плечи, он весь съежился. Смуглое лицо стало бледно-желтым и покрылось глубокими морщинами. Во власти тяжелого предчувствия, он долго стоял с опущенной головой. Потом снял рукавицы и бросил их под ноги. Вытянул губы и приложил трубу, сложенную из ладошек. Над тайгой раздался протяжный призывный звук. Самагир поворачивается в разные стороны и ревет, подражая изюбру. Где бы ни паслась Чолбон, на зов Осипа всегда бежала сломя голову.
А сегодня ее нет.
Осип прислушался. Тишина. Звенит в ушах.
– Поди, ушла далеко?.. Замешкалась?.. – спрашивает он у Баян-Улы.
– Ухлопали, паря, твою Чолбон, – тихо прошептала тайга.
Пьяно переплетая ноги, Самагир поплелся вниз к Духмяной. В полугоре в нос ударил запах крови и внутренностей. Повернул на дух. В нескольких шагах от охотника сквозь деревья заалели цветы саранки.
«Зимой-то пошто цветут?» – мелькнула мысль.
Шаг за шагом вышел на кровавый пятачок, где были разбросаны внутренности и голова.
Самагир опустился на колени и повернул к себе мертвую голову. На него уставились пустые глазницы.
– Успел выклевать… окаянный… – со стоном выдавил эвенк.
Усевшись на старую лиственницу, ворона каркает с высоты:
– Каррашо! Каррашо! Карр-хы-хы!
Но Осип уже не спорит с глупой самодовольной птицей. Он ничего не слышит и не видит. Дрожащей рукой снял шапчонку, долго утирал ею лицо.
Рано утром зашел сосед Андрейка.
– Мэндэ, Осип-бабай!
– Мэндэ, Ондре, – буркнул Самагир и спрятал глаза.
Сосед удивленно посмотрел на Осипа, молча вынул из куля большой кусок свежего звериного мяса и положил на стол.
– Осип-бабай, тятя отправил меня с гостинцем. Он ходил с Кехой на перевал. Помог ему вывезти оттуда мясо.
Самагир поморщился, хотел забросать соседа злыми словами, но спохватился, стало смешно: «При чем же этот маленький мужичонка?» Уже мягко спросил у парнишки:
– Пошто, Ондрюха, не в школе? По маме соскучился?
– Не-е, шибко болел, отпустили отдохнуть.
– А-а… вон оно што, а как учишься-то?
– Да-а мне-то кажется ладно…
– А учителю как кажется?
– Когда как, – неопределенно протянул Андрейка. Черные с хитринкой глаза маленького соседа наполнились веселыми озорными огоньками.
На крыльце загремели ведра, послышался бодрый женский голос.
В избу вошла Чимита. Поставила рядом с кровянистым мясом подойник.
– Амар сайн, Андрейка! Ранний гость да еще с гостинцем, спасибо, спасибо, сынок. – Осмотрев мясо, добавила: – Зиме подходит конец, а зверь-то какой сытый. Ужо поджарю.
– Не надо, Чимита, не жарь… в горле застрянет.
– С ума спятил, старик, ты-то делишься же.
– Делюсь… мы все делимся… Я-то промышляю с бумагой, с ведома начальства.
– Зверь-то плодится для человека, а его волки пусть давят.
– Так-то оно так, но и сосед наш связался с добрым «волком»… Эту матку-изюбриху на перевале столько лет сберегал… Она сосунком привыкла ко мне, а нынче должна была отелиться. Не пожалел, паршивец.
Чимита молча положила в куль мясо и сунула его Андрейке.
Сосед покраснел и попятился к двери.
– Э, паря, садись-ка рядом, будем чай пить да разговор мужской поведем.
Андрейка облегченно вздохнул и сел на скамейку.
Самагир улыбнулся соседу, закурил и, окинув строгим взглядом Чимиту, заговорил каким-то глухим простуженным голосом. Он всеми силами старался подавить в себе горькое чувство утраты и кипящую злобу на браконьера.
– Вот у нас, Ондре, у эвенков, большой грех бить брюхатых маток.
– То-то и прозвали тебя Одиноким Волком, поди, таежную живность по голове гладил, – съязвила Чимита.
Самагир сердито крякнул.
– Волком был – хищничал в заповеднике… Тогда и человека отправить в Страну предков мог, а копытных бил с разбором – брюхатых маток обходил.
– Сам баил мне, неделями голодал. Попадись тебе в ту пору…
– При чем тут голод?.. Не-е, старуха, у эвенка всегда сидит в нутре совесть, всегда.
Осип запалил потухшую трубку и окинул суровым взглядом своих собеседников.
– Вот, Ондре, слухай, што будет тебе баить старый Самагир, може, и сгодится в жизни. Один раз я пошел с приезжими людьми на голец Двух Близнецов. Тропу показывал им. Привел, куда надо было. Смотрю на них и не узнаю. Глаза разгорелись. Жадно разбивают молотками камни и что-то пишут и пишут. Про еду забыли. Вечером я разыскал старшего начальника и говорю ему: «Уговор наш помнишь? Однако, Самагир пойдет домой?» Он согласился, похлопал меня на плечу и сказал: «Как же, помню уговор-то, помню! Спасибо, отец, к большим богатствам ты нас привел». Распрощался я и начал спускаться с гольца. Но вот беда – в пути занемог. То ли осерчал Горный Хозяин на меня за то, што его богатства выказал ученым людям, и вселил в тело хворобу, то ли простуда вкралась, не знаю. Хворь-то так сильно крутнула меня, што вся сила ушла, осталось одно дерьмо. Ноги отказали, ползу, как червяк. Долго тянулся к дому или нет – не помню. И вот, дополз я до крутого взлобка и понял, што не одолею его. Нет сил моих. А чую, што там вершина горы, вниз-то можно и боком скатиться… «Пропал Оська, тут тебе и сгнить суждено, – думаю. – Ужо закурю, пока пальцы держат спичку с коробком, а то без курева как душе улетать в Страну предков, тоскливо будет». Долго мучился, пока зажег спичку, и задымила моя трубка. Отлегло на душе.
Взглянул вверх, а надо мной, совсем рядом, стоит изюбренок. Подумал я, что злой дух оборотился в зверушку и хочет заманить Оську в свой грешный чум. Стал молитвы читать – не помогает. Ущипнул себя, протер глаза – нет, никакой не оборотень, а живая зверушка.
Кто-то шепчет мне: «Оська, чего мешкаешь, кровь-то изюбра одолеет твою хворобу».
Я послушался. Кое-как поднял ружье и приловчился пальнуть. Дело такое страшное: чуть ружьем не достаю зверушку, а она доверчиво смотрит на меня и большими влажными глазами заглядывает в мою душу. Опустились руки: лучше самому издохнуть.
Долго я лежал после этого. Набрался силы, поднял голову, а изюбренок тут же стоит. Присмотрелся – вроде как глазами манит меня, зовет к себе наверх. Подвинулся я на локоть вперед – изюбренок подался назад, а по глазам видать, доволен, бодрит меня, «так, мол, так». Я снова подался, зверюшка отпрыгнула и уже веселее смотрит на меня. Откуда-то взялась у меня сила – заполз на взлобок, одолел окаянную гору. Изюбренок мой отскочил в сторону на седловину горы, а вниз ни шагу.
Лежу, отпыхиваюсь. Проклинаю свою хворобу и немочь, распекаю на чем белый свет стоит всех злых и добрых духов и даже до самого Горного Хозяина добрался. Это все Антона – друга наука. Он всю дорогу мне толмачил: «Нет ни духов, ни «хозяев», все выдумали шаманы». Знамо дело, я и сам убедился в этом, но все же, когда смерть-то стоит за затылком, понятно, и молитву вспомнишь по старой привычке.
Малость отлегло, я поднялся на локти, огляделся кругом. Вижу, мой изюбренок насторожился и смотрит под гору. По всему видать, чего-то боится. Э-хе, думаю, не зря липнешь к человеку. Зарядил берданку боевым патроном и ползу вниз. Изюбренок мой не отходит от меня. Большими ушами поводит, а в глазах страх горит. Сполз, значит, я в ключ, тут меня и обдало дурным духом. Мне стало все понятно – медведь задрал матку, а теперь мясо душнит, чтоб для него слаще да мягче оно стало.
Подполз к большому дереву и стал осторожно осматривать колодник. Знаю повадку черного зверя, заколдуй его шаман, любит лежать под колодой, где сыростью да холодком веет. «Или хитрит, или дрыхнет обжора», – думаю я.
Вдруг ветер повернул. «Теперь набросит человечий дух на зверя, а он, так и знай, из-за мяса налетит драться», – только успел подумать, как из-за черной колоды показалась большелобая голова. Зверь вздыбился над колодой и взревел страшным голосом, сердитые глаза сверкают огнем – хотят увидеть супротивника.
Самагир достал свою трубку и не спеша начал очищать ее от нагара. Потом набил табаком и запалил. Любит старик делать паузу в самом интересном месте своего рассказа. Чимита знала эту манеру Осипа и потому молча продолжала мять шкурку ондатры. А Андрейка нетерпеливо заерзал на скамейке. Старик ухмыльнулся и продолжал свой рассказ:
– Дьявол его задери! Мешкать-то некогда, взял да и бабахнул в грудь. Завалило дымом. Смотрю, показалась колода, а зверя нет. Знаю его, чертяку, на обман шибко мастер, прикинется дохлым, а чуть сунься к нему, залапает, загрызет.
Нож в зубы и ползу к колоде. Прислушался. Приподнялся над колодой, заглянул: лежит. Пырнул ножом. Не тут-то было, всю силенку проклятая хворь отняла. Кое-как перегрыз горло и напился горячей крови.
Потом навалилась на меня дремота, давит, окаянная, удержу нет, чую, как проваливаюсь в мягкую утробу медведя, кто-то вертит меня и окутывает темным медвежьим пухом…
Долго я спал. Шибко долго. Проснулся на другой день. Лежу рядом с медведем. Небо надо мной смеется. Деревья тихо шепчут, уговаривают Оську, штоб он не умирал. Птицы весело поют – хвалу возносят солнцу, дающему тепло, изобилие и любовь.
На соседнем дереве бельчиха-мать распекает свою детвору, велит им сидеть в гнезде-гайне. Догадываюсь, соболь привалил к мясу. Говорю шумливой матери: «Не бойсь, сестра, соболько изюбрятины нажрался, не тронет твоих бельчат».
Тут и самого потянуло на еду. С трудом распорол зверю брюхо и добрался до нутра. Рву по-волчьи зубами, глотаю, давлюсь. Такого жору у меня, кажись, никогда не было, нет, не припомню.
Обжору всегда гнет на сон. Я снова спать. Так со мной было дня три. Утром на четвертый день встал на ноги. Кружится голова, тошнит, как с перепою. Подумалось: «Надо водицы испить и умыться, все будет легче». Дошел до Духмяной, наклонился над речкой, а из воды смотрит какой-то страшный зверь – лохматый, черный. «Злой дух пужат… эка, нашел время», – думаю я. Попятился, он – тоже. Тут я раскумекал. Стыдно стало, спужался самого себя. Осмотрелся кругом, вижу, ко мне наклонилась горбатая береза, бодрит меня и тихо смеется. Стало легче. Чую, кто-то подошел сзади и следит за мной. Я оглянулся. Из-за куста черемухи на меня смотрит мой изюбренок. Знамо дело, старые приятели, улыбнулись друг другу. Говорю:
– Ожил Оська-то, теперь держись возле меня, в обиде не будешь.
Привел я зверушку на перевал к скалам-бойчам, штоб знала глупышка место, где можно схорониться от хищников. Тут и собачки разыскали меня. Бросились чертяки на изюбрушку, но я взревел на них, унял. А изюбренок скок, скок с камня на камень, заскочил на бойчу-отстой и дразнит оттуда собачек.
– Теперь здесь и спасай свой живот, места тут кормистые, а придет время большого мороза, подкормлю тебя сенцом, – баю зверушке, а она смотрит на меня большими своими глазами, ушами хлоп-хлоп, дескать, все понятно, благодарствую, человек. Вот так и завелась у нас с Чолбон дружба. Иду на охоту – она встретит и проводит, с охоты плетусь – тоже.
В Медвежьем Ключе рассолил солонец, без соли-то зверю тоже худо. Там же есть полянка с мою шинель, в сенокосное время копешечку сенца ей сгоношу. И до чего же понятлива зверушка, до прихода времени большого мороза не подходит к сену, значит, бережет. Вот хитруха!
Самагир многозначительно посмотрел на Андрейку, набил трубку новой порцией самосада, запалил и опустил седую голову.
Не утерпел Андрейка, спросил у старого:
– А собаки-то как? Наверно, гоняли Чолбон?
– Э, паря, собачки-то с понятием народец! Ни-ни, даже наоборот, оберегали ее.
– От кого же, Осип-бабай, охраняли-то ее?
– Знамо, от волкоты да рысей.
– Но-о?! – неожиданно вырвалось у Андрейки, и он с недоверием посмотрел на Самагира. «Наверно, шутит старый бабай», – подумал он.
– Вот тебе и но-о… Как-то ночью собаки мои подняли шумиху на дворе, пришлось подниматься с постели. Оделся, обулся, выхожу на крыльцо. Псы мои гавкают в сторону перевала. Взглянули на меня и махнули в горы.
Утром старуха кликнула собачек к корму, а двор-то пустой. Пришлось брать берданку да шагать по их следам. Следы-то привели на перевал к Белым скалам. Смотрю вверх, на своей бойче стоит моя Чолбон, а по соседству с ней на выступе скалы притаилась матерая рысь, такую я отродясь не видывал. Собачкам, видать, надоело гавкать, лежат под бойчой и следят за хищником. О, паря, тут мешкать не будешь, пальнул, и рысь долой с бойчи. А моя Чолбон прыг, прыг ко мне, радехонька кружится вокруг меня, и собачки тоже ластятся, дескать, хвали нас, твою Чолбонку выручили. Так-то мне стало хорошо, будто грузную понягу с мозольных плеч сбросил.
Самагир закрыл глаза и задумался.
– И от волков тоже отбивали? – спросил Андрейка.
– И от волчья выручали… А вот от человека-то не сумели уберечь… Не вернешь теперь Чолбон… Куда пойду?.. Кому буду жаловаться?..
– Знамо, куда надо идти, только все боишься, што назовут тебя доносчиком, в худые люди попадешь, – сверкая черными глазами, укорила Чимита.
Самагир закрыл заскорузлыми пальцами лицо и еще ниже склонил седую голову.
Андрейка, не попрощавшись, выскочил на двор и мелькнул мимо окон.









