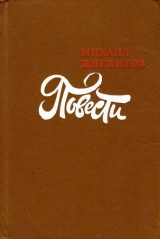
Текст книги "Повести"
Автор книги: Михаил Жигжитов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 22 страниц)
Повести
МОЯ МАЛЮТКА-МАРИКАН
ГЛАВА 1
Наконец Хабель добрался до Орлиного гнезда. Отдышавшись, сердито оглянулся назад. Темными косматыми копнами неслись с Байкала тучи и липли к гольцам. Сквозь просветы, далеко-далеко внизу чернел кедровник, в котором петляли по его чумнице[1]1
Чумница – лыжня.
[Закрыть] стражники.
На суровом лице появилась злорадная улыбка: «Хотели Хабеля взять!..» Таежник, освободив от юкс[2]2
Юксы – охотничья обувь.
[Закрыть] онемевшие ноги, уселся на лыжи.
Только здесь, на огромной высоте, находясь вне опасности, Хабель почувствовал страшную усталость. Такую усталость, когда человеку бывает трудно пошевелить даже, пальцем. В ушах шумит, сами собой закрываются веки. Хочется лечь на лыжи и заснуть.
Двое суток без сна, почти без пищи, он уходил от настырных стражников.
Вторая трубка крепкого самосада лишь на короткий миг взбодрила его. После этого наступила непреодолимая слабость, и Хабель, не в силах больше сопротивляться, свалился на бок.
Сон пришел сразу же, словно окутав таежника темным медвежьим пухом.
А в это время со стороны Баргузинской долины медленно поднимался человек. За спиной у него тяжелая поняга[3]3
Поняга – носилка на спину.
[Закрыть]. Он часто останавливается и поправляет широкие, из сыромятной кожи лямки.
Голец, покрытый многометровой толщей снега, похож на огромное яйцо диковинной гигантской птицы.
Преодолев последний взлобок, человек в нерешительности попятился назад. На темно-бронзовом обмороженном лице выразился испуг. Руки судорожно сжали винтовку. Оглянувшись вокруг, он согнулся и поспешно скатился назад. Остановившись, прислушался. Безмолвие. От напряжения звенит в ушах. «Кто там лежит?.. Почему без огня?.. Добрый?.. Худой?.. Жив ли он?.. – пронеслись тревожные мысли. – А вдруг это стражник прикинулся больным?! Что же делать?.. А?.. Убежать без оглядки… Нет, худо будет… Горный хозяин рассердится… Закон тайги не велит бросать попавшего в беду человека»…
Осторожно подойдя к лежащему, взглянул в лицо. Из груди вырвался вздох облегчения: «Петрован Хабель!.. С ума спятил… вздумал спать на таком морозе без огня…»
– О-бой, Хабель!.. Хабель!.. Пожальста, кончай спать! Уй!.. – таежник в отчаянии затряс товарища. Наконец ему удалось кое-как разбудить спящего. Хабель бессмысленно замычал, стараясь выдавить какое-то слово. Красные воспаленные глаза словно ослепли и, ничего не выражая, тупо блуждали по лицу эвенка.
После долгой тряски Хабель немного согрелся, и к нему вернулся дар речи, ожили острые, живые глаза.
– Ха… паря… Остяк… Здорово, друг… – вырвались с хрипом слова.
– Здоров, здоров, Хабель! Однако, болела шибко?..
– Нет… спать захотел… устал… Помоги подняться. – Хабель с помощью Остяка встал на ноги и тут же со стоном опустился на лыжи.
– О-бой! Однако, тебе шибко худо есть!.. Сиди на лыжах, я тебя тащить будем…
С трудом добравшись с тяжелою ношей до соскового бора, Остяк быстро срубил сухое смолистое дерево и разжег жаркий костер. Через четверть часа Хабель, обжигаясь, жадно глотал горячий чай. Отогревшись, глухим простуженным голосом рассказал, с каким трудом ему удалось уйти от стражников. «Одни-то стражники в первый же день махнули бы рукой… А то с ними сам Сватош ходит… Ох и настырный же проклятый чех… даже ночь его не держит…» – закончил Хабель свое печальное повествование.
– Шибко будет гонять – стрелять нада… – с твердой решимостью заявил Остяк.
– Где бы подобрать скалу повыше да спихнуть его, чтоб косточку ворон не нашел… – Петрован хотел еще что-то сказать, но, навалившись на колоду, заснул.
Всю ночь сидит у огня угрюмый эвенк. Свою теплую козью безрукавку отдал Хабелю, а поэтому самому приходится часто-часто греть то спину, то грудь, двигаться беспрестанно. Бросая на товарища озабоченный взгляд, бормочет на родном языке: «Пусть отсыпается друг, а я как-нибудь прокоротаю ночь… Дело привычно…» Много трубок крепчайшего самосада искурил он, много дум передумал. Откуда-то из глубины души приходят беспокойные мысли. «Подлеморье-то наша земля… тунгусская… Великого Самагирского рода… Мои-то предки жили и промышляли по подлеморским рекам. Там и сейчас могилы ихние, в темных кедровниках прячутся от любопытных глаз русских людей… А почему Остяку нельзя промышлять зверя тут, рядом, у могил его предков?.. Видал, заповедник какой-то придумали. Черного соболя бить запрещают».
А Петрован стонет во сне, скрежещет зубами, выкрикивает несвязные слова брани. Он и во сне убегает от стражников.
Мало кто помнил, что фамилия этого охотника – Молчанов. Все его звали по прозвищу «Хабель». (От искаженного кобе́ль).
Остяк, взглянув на товарища, тяжело вздыхает, заботливо поправляет на нем козлинку. По таежной привычке опять начинает разговаривать вслух сам с собой: «О-бой, Хабельку загоняли, как добрые собаки сохатого… Чуть не пропал мужик… А такого лыжника ни у эвенков, ни у бурят, ни у русских больше не найдешь… Недаром его зовут «крылатым лыжником»… Крылатый и есть… С таких крутиков прыгает, что другого и за тысячи соболей не заставишь. Ослепнуть мне, если вру…» Эвенкийские слова, забавно переплетаясь с русскими, разлетаются во все стороны и тут же тонут в кустах, в колючей хвое ельника и сосняка. А когда Хабель, застонав, начал во сне звать Остяка на помощь, на грубом лице эвенка выразилась боль сострадания, и в темных глазах засверкали сердитые огоньки; он вскочил на ноги и, схватив таган, изо всей силы ударил по полусгнившей колоде. Пустая колода гулко ухнула. Уж насколько крепко спал Петрован и то вскочил на ноги.
– А!.. Эй-эй!.. Оська!.. В кого стрелял?!
– Колода стрелял, – усмехнулся эвенк, – я думал, Хабель бояться нету.
– Аха, боюсь!.. Это я-то?.. С одного места семь медведей убил… в Малых Черемшанах… было дело… А в человека стрелять – грязное дело… не буду и тебе не велю.
– О-бой, Хабель, худой дерево рубить можно. Закон тайги так велит.
– Но ведь Сватош-то не худой человек… Люди его хвалят.
– Он худо сделал мне… много худо… Малютку-Марикан забрала себе… Мою Малютку-Марикан… Остяк хочет промышлять…
– Тетку Марью любить! – смеясь, перебил эвенка Хабель. – Соболя ей дарить!.. Она-то тебя хошь целует аль нет? А то нынче болтали люди – подарки-то Машка берет, а ухажера пинкарем потчует! Ха-ха-ха!
– Тьфу, черна Хабель! Болтать-болтать, дурной язык, как худой баба! – отплевывается Остяк.
– Не сердись, Оська, смехом все баю… Надо же хоть малость какую сердцу растаять… А то на душе холодина стоит… Э-ах, друг, темным-темна наша тропинка… На каждом шагу смерть облизывается… Вечор, если бы не ты, дык весной харч медведю был бы… Поминай тогдысь Петруху Хабеля… А про Малютку-Марикан и не бай много.
– Сватош шибко худо делал. Сватош-то смотрель-смотрель Подлеморье. Видит: шибко богата есть… смотрель мою Малютку-Марикан… Жадный глаз все видел – богата, красива, соболь черный! Вот забрала себе все, а тут бедный тунгус долой гоняли… Стрелять буду!.. Убить буду!..
– Будя, Оська. Эвон светать начинает, надо чай пить да убираться восвояси.
Далеко-далеко на востоке, за благодатной долиной Баргузина, где небо подперли своими исполинскими плечами Иккат и его братья, кто-то завесил часть неба розовым шелком. От этого макушки могучих деревьев и белозубый голец Орлиное гнездо окрасились бледно-розовым светом, а предрассветная серая муть, словно растворяясь в молоке, поспешно исчезла.
Позавтракав, приятели молча закурили. Над их головами закурчавился жиденький дымок. Тишину нарушало лишь ленивое потрескивание умирающего костра.
– Петрован, долго ходить в Баргузин будешь?
– Скоро вернусь, Ося, чо там делать-то… А где, паря, тебя искать буду?
– Малютка-Марикан ходи.
– Ладно… У нее можно поживиться кое-чем… Верно, стражники у Марикан нас и караулят… Знают, черти, где Оськина любовь таится… Знают, что и меня ты туды же тянешь за собой… Э-э, чо там думать! Тонуть, дак в Байкале, падать, дак с гольца!.. Прийду, братуха, жди со спиртом… Я ж ведь с промыслом… до-ообренького добыл!
В узких черных глазах засверкали искорки. Эвенк чмокнул и облизнулся.
– Таскай-таскай спирт! Хозяина тайги угощать нада… Малютку-Марикан поить будем… Она любить будет… Соболь давать будет. Чо-о-орна соболь… саму головку… Тунгус все знает…
– Малютке-Марикан только капельку нальешь – остально сам сожрешь, – усмехнулся Хабель.
Остяк поднялся первым. Встав на лыжи, ловкими привычными движениями вдел ноги в юксы, взвалил понягу и, кивком головы попрощавшись с Хабелем, исчез за заснеженными деревьями.
Когда затих шорох широких охотничьих лыж, Петрован вынул из грязного продымленного куля черную тряпочку и трясущимися руками начал осторожно развертывать ее. При виде темного клубочка меха зрачки серых глаз лихорадочно заметались. Покрытое рыжеватой щетиной лицо расплылось в улыбке. Он дунул на ворс. Ворсинки заметались, заискрились солнечной радугой. Расправив шкурку, охотник тряхнул ею, и чудесный мех весь загорелся мельчайшими огоньками, чернотой соперничая с крылом вещего ворона. «Ух ты! Душа-голубка, красота-то, красота!..» – зашептали обветренные губы. Таежник осторожно провел мехом по грязной обмороженной щеке. Прикосновение нежного шелковистого меха заставило его зажмуриться. Как в чудесной сказке, перед Хабелем всплыли безмятежные дни молодости, и словно наяву почувствовал он ласковое прикосновение девичьей щеки.
– Головной-то соболь, кажись, еще не вывелся, – вслух проронил охотник и перекрестился, – слава богу, спасибо Миколе-чудотворцу, благодетелю и заступнику нашему.
Глубоко, где-то в лохмотьях грязной запазухи, спрятал он драгоценную шкурку, надел лыжи и скатился на крохотную полянку. Огляделся. Тихо-тихо кругом. Морозно. А долина Баргузина окуталась тонкой кисеей.
– Внизу кыча[4]4
Кыча – изморозь (местное баргузинское выражение).
[Закрыть] идет… там теплее, – сказал Хабель малюсенькой елинке[5]5
Елинка – елочка.
[Закрыть], – катись со мной, дуреха, чем тута мерзнуть на ветру.
Оглядываться назад ему не хотелось. А тем более думать о последних днях страшной погони, когда стражники, подменяя один другого, гнались и гнались за ним. Его спасла виртуозная техника ходьбы на охотничьих лыжах. Несколько раз он приводил своих преследователей к головокружительным кручам и, помахав им, бросался вниз. Пока они обходили этот опасный спуск, Хабель успевал напиться чаю и отдохнуть. Но все равно он еле-еле сумел избежать ареста.
Охотник облегченно вздохнул: «Еще раз удрал от Зенона Сватоша… Черт бы его побрал!» Уже потеплевшими глазами взглянул на долину, где стесненный крутыми скалистыми горами и гранитными порогами беснуется голубой Баргузин. Здесь стоит извечный гомон – спор реки с Шаман-горой. А чуть повыше, на высоком сухом берегу, приютилось старинное село, которое местные старожилы именуют городом. Там, у Банной речки, охотника ожидает старенькая, с низким потолком изба, о которой ходит дурная слава, и называют ее «Бабьи слезы». В этом «заведении» даже стены пропитались спиртом и изо всех углов тянет горьким водочным перегаром.
А выйдя из тайги с добычей, Хабелю, да и всем его дружкам просто грех обойти этот дом. Лишь перешагни грязный порог – неделя пролетит в нем, как одна кошмарная ночь. От соболька и хвостика не останется.
– Ничё, пропьем, а по миру не пойдем!.. Собольков Зенон расплодил… – кому-то вслух сказал Хабель в подтверждение своих мыслей. Проверив юксы, подтянул кушак, туже нахлобучил свою обгоревшую, оборванную шапчонку. Набрав полную грудь воздуха, бросился вниз по крутому склону.
ГЛАВА 2
Из мрачного ущелья диким галопом вылетает шумливая речка. Очумев от буйного бега, она сначала ничего не может понять, но потом, чуть приостыв при виде Байкала, тихо журча, бросается в объятия моря.
Речку эту зовут Кудалды, от слова «худалдан», что означает «торговля». С незапамятных времен по устьям подлеморских рек жили эвенки Самагирского рода. А в устье Кудалды находилась резиденция вождя самагиров. В определенное время в свое родовое управление съезжались все члены рода. Везли черных соболей для оплаты ясака – подати. Везли и другие дары богатой природы. Сюда же съезжались и соседи: буряты, русские. На празднике открывался торг. Вот и прозвали шумливую речку торговой.
У самого берега на крепких опорах возвышается маяк. Немного подальше – дом маячника. А еще выше – добротное здание с большими светлыми окнами. Видать, дом рубили отличные мастера. И для долговечности покрыли железной крышей.
До тысяча девятьсот шестнадцатого года в этом доме находилась канцелярия родового управления.
А в тысяча девятьсот шестнадцатом, в самый разгар первой мировой войны, по решению царского сената эвенков переселили в устье реки Томпа, а здесь был организован соболиный заповедник.
В январе 1926 года декретом СНК РСФСР был учрежден Государственный Баргузинский заповедник, основной задачей которого являлось сохранение и увеличение запасов ценного баргузинского соболя.
Охрана заповедника имела целый штат лесников, которые еще долго именовались по старинке стражниками.
В доме бывшего родового управления теперь находились канцелярия заповедника и квартира директора.
В крайнюю избенку вошел высокий молодой стражник. Голубые глаза его встретились с лучистым детским взглядом.
– Ну как, «от хвостика грудинка», давно проснулся? – спросил он своего сына, сидящего на лавке.
– Я уж чай пил… с сахаром.
– Вот и молодец; а почему без штанов-то?
– Завтра мама их стирала.
– Вот тебе на: «завтра». Говори: «вчера». А мать-то где?
В сенцах послышались чьи то шаги. Отец с сыном оглянулись. В распахнувшейся двери показалась высокая стройная женщина. Мороз разрумянил белое лицо. Темно-синие глаза искрились счастьем.
– Куда, Витя, ходил?
– К Зенону Францевичу.
– Снова в обход идете?
– В этот раз далеко пойдем… В верховьях Лунной речки появились хищники. Надо их поймать…
– Тятя, они страшные?.. Рога есть?..
– Аха, сынок, бодаются, как дедушкин бык, смотри не бегай к морю. Раз-два, и посадят тебя на рога, а потом уволокут к себе в море. Вот…
У ребенка расширились глаза. От страха и удивления раскрылся ротик.
Отец рассмеялся и, схватив сына, прижал к широкой груди.
Валентина, поставив подойник с молоком на стол, подошла к мужу и погладила широкое плечо, тихо, почти шепотом сказала:
– Какой ты ласковый, милый Витя!.. Ты… ты уж, Витенька, стерегись… ладно?.. Добра-то от них не жди… Начнут огрызаться… а стрельнуть-та им, каторжным, ничего не стоит…
– А ишо чо будешь баить?
– Каждый раз сердце ноет… пойми…
– Эх, Валюша, ты снова за старую песню. Лучше собери-ка харчишки, а я схожу к Бимбе.
В синем небе висит зимнее солнце. Пусть оно не греет, но зато по-забайкальски щедро освещает ледяное поле Байкала.
Две человеческие фигурки скоро уже поравняются с Громотухой. Валентина до боли в глазах всматривается в сверкающую даль, где едва заметными точечками то исчезнут за торосом, то снова появятся Бимба с Виктором.
И вот путники, еще раз показавшись на гребне громадного тороса, нырнули вниз и совсем исчезли из виду. Валентина долго еще всматривалась вдаль в надежде увидеть их, но, так и не дождавшись, тяжело вздохнула и медленно пошла домой.
У малюсенькой хатенки она увидела подметающую снежную порошу пожилую рослую бурятку, которая украдкой нет-нет да взглядывала вслед ушедшим стражникам и бормотала какую-то молитву, в которой часто-часто упоминались лама[6]6
Лама – буддийский священник.
[Закрыть] и бурхан.
– Тетка Цицик, пойдем ко мне чай пить.
– Пасиба, Валя, чичас пила.
– Ну хошь так посиди со мной.
– Ладна, пойдем, девка, курить буду, а ты чай пей… Печаль делать худо, бурхан не любит, талан[7]7
Талан – фарт, счастье.
[Закрыть] не дает… шибка худа, о-ёй-ёй…
Виктор и Бимба по-охотничьи споро шагали вперед. Несмотря на молодость, Виктор считался опытным стражником. Зенон Францевич ценил его за исполнительность, смелость и находчивость, товарищи уважали за веселый, незлобивый характер.
А Бимба еще совсем зеленый стражник. Он слабо ходил на лыжах, и головокружительные спуски с гольцов и крутых гор давались ему мучительно трудно. «Вверх-то идти на лыжах могу до самого небожителя Будды, а вниз боюсь, – башка может долой отлететь…» – жаловался он товарищам.
Во время каждого обхода заповедника он падал столько раз, что не сосчитать. И как подтверждение тому домой в Кудалды заявлялся с шишками на бритой голове, синяками и расцарапанным лицом. Тетка Цицик, критически окинув сердитым взглядом, качала головой и ворчала:
– Баран тебе пасти в Барагхане, а не по поднебесным святым горам ходить… Сколько отговаривала тебя, непутевого. Одно затолмил: «Дал слово Зенону, пойду работать у него…» Эх, Бимба, Бимба!
Однажды во время очередной поездки по торосистому мерю лошадь Сватоша провалилась в полынью. Он в отчаянии бегал вокруг полыньи с черной, зловещей, бездонной водой, не зная, как помочь бедному животному. По щекам текли непривычные слезы.
В это время откуда-то из-за торосов вынырнул человек в белом халате и с волосяными наколенниками[8]8
Волосяные наколенники плетутся из конского хвоста.
[Закрыть], темные защитные окуляры, за которыми прятались глаза незнакомца, делали его злым, таинственным. «Нерповщик[9]9
Нерповщик – охотник за тюленем.
[Закрыть], – мелькнула мысль, – этот знает, что делать». Сватош всегда верил в силу и ловкость байкальского человека.
– Помоги, дорогой товарищ!
– Чичас ходить будет на лед, – уверенно сказал незнакомец. Движения у него были быстрые, точные. На конце толстой возовой веревки он сделал затяжную петлю и надел ее на шею лошади. Затем, туго затянув чересседельником концы оглоблей, закинул между ними веревку и приказал Сватошу тянуть за нее что есть силы. А сам схватился за хвост лошади. Через минуту мокрый, охваченный лихорадочной тряской конь был на льду. Чех с восторгом и благодарностью смотрел на спасителя. Толстая веревка, свившись змеей, лежала у его ног.
А незнакомец уже впряг в сани дрожавшего коня и сердито окрикнул: «Чо стоишь, колода, коня греть надо!..»
Сватош, поспешно схватив веревку, свалился в кошевку[10]10
Кошевка – сани.
[Закрыть]. Мчались они меж высоких торосов. Так мчались, что захватывало дух. Бедный Зенон Францевич, засунув руки в рукава собачьей дохи, беспомощно, словно круглая чурка, катался из стороны в сторону в просторной кошевке, а незнакомец, ловко правя лошадью, выкрикивал какие-то дикие гортанные звуки.
Наконец, остановив лошадь, нерповщик обошел ее, по-хозяйски похлопал, погладил, осмотрел сбрую, подтянул чересседельник.
– Эй ты, больше одна в море не ходи, худо будет – тонуть будешь…
– Спасибо за совет, друг! Давай познакомимся, так-то грех расставаться… Ты же спас мне коня, да и самого тоже.
Голубоглазый, среднего роста, крепкий человек подошел к нерповщику и пожал руку.
– Меня зовут Зенон Сватош… Живу в Кудалдах. Заезжай ко мне в любое время, гостем будешь.
– Я Бимба из Барагхана… Тоже ходи к нам… Гость будешь… Баран резать будем, араку пить, – улыбнулся бурят.
– Буду у тебя обязательно. Ты мне понравился, Я люблю смелых и находчивых. И правильно назвал меня колодой. Ко-ло-да! Ха-ха-ха!
Бимба тоже рассмеялся.
– Сердцу скажи, Зенон, пусть зла нет на мои худы слова. Сердита был я, коня жалел…
Во время нерповки в следующую весновку, спасая тонувшего нерповщика, Бимба сам накупался и простудился. Его привезли в Кудалды. Как за ребенком, ухаживали супруги Сватош за Бимбой. Сильный организм преодолел недуг. Целый месяц пришлось Бимбе ждать, пока море освободится ото льда и в Сосновскую губу заглянет «Ангара»[11]11
Пассажирский пароход-ледокол.
[Закрыть].
Непоседливый охотник пилил дрова, столярничал, помогал ремонтировать лодки. Частенько заглядывал и в питомник. Притаившись где-нибудь в сторонке, подолгу любовался черными соболями, удивляясь их крутому нраву. «Шибко сердита зверь… Была бы с собаку, людей много давил бы», – говорил он, качая головой.
А в свободное время они со Сватошем уходили в тайгу и там беседовали. Зенон Францевич рассказывал о дальних странах, теплых и холодных морях, о людях и зверях, живущих в тех местах. Но больше всего они говорили, конечно, о заповеднике. Окинув потеплевшими глазами тайгу, Сватош уверенно говорил: «Соболя так много расплодится, что он расселится по всему Забайкалью. А потом его будут отлавливать живым и развозить в другие края, где растет лес».
Бимба молча и внимательно слушал Сватоша, порой не верил, но не подавал виду. А однажды в конце беседы все же не вытерпел и укорил хозяина:
– Эх, Зенфран (он не мог выговорить полностью имя и отчество Сватоша), много соболей сохранила ты, а жене воротник из кошки делал.
От души смеялся Сватош над замечанием своего друга, а потом серьезно сказал:
– Нельзя, батенька мой, за-по-ведник! Понимаешь, Бим, лучше дам отрубить себе руку, чем позволю убить соболя. Да!
Понял Бимба, что такое заповедник и какая огромная польза от него людям. А когда пришло время расставаться, крепко пожав руки супругам Сватош, потоптался на одном месте и прерывистым голосом спросил: «Зенфран… друг мой… Однако, ходить буду Кудалды… жить… работать… Тебе помогать…»
Так степняк Бимба стал стражником заповедника. Он не обращал внимания ни на трудности, ни на свои синяки и шишки, ни на ворчливые нарекания тетки Цицик.
…В обед стражники дошли до скалистой Лунной речки. Вот и охотничья юрта, чуть выглядывающая из-под снега. Ее можно принять и за муравейник, укрытый толстым слоем снега. У этого жалкого жилья два отверстия. В одно ползком влезли друг за другом Виктор и Бимба, а из другого скоро повалил дым. В юрте было душно. Дым спирал дыхание, до слез щипал глаза и нос.
Пообедав, Виктор с Бимбой выбрались из юрты, пошли вверх по крутой, ухабистой Лунной речке. Она даже под ледяным покровом грозно шумела на своих бесчисленных порогах. Свежая пороша тоненьким слоем покрыла старую чумницу, и широкие охотничьи лыжи, подбитые лосиным камусом[12]12
Камус лосиный – шкура, содранная с ног лося.
[Закрыть], скользили, как по маслу. Тишину тайги нарушал лишь скрип лыж, да изредка кто-нибудь из двоих стукнет своей ангурой. Шли молча, зорко всматриваясь в подозрительные предметы.
Во время первого перекура Виктор, внимательно осмотрев свой новенький карабин, протер затвор и зарядил.
– А у тебя, Бим, палка или боевое оружие?.. В порядок надо привести. Тот раз в Сватоша стреляли, а сейчас в нас могут пальнуть. Тоже мне стра-а-ажники! – голубые глаза осуждающе оглядели беспечного бурята.
– Ха, Зенфрана стреляли… хотели пугать… Думали, больше тайга ходи не будет…
– Эх, Бим, они знают, что Зенон Францевич не из заячьей породы… Хотели ухлопать его. Вот и все.
– Ладна, паря, Бимбушка, верно, дурак есть… Толмач[13]13
Толмач – переводчик.
[Закрыть] совсем мало… – Зарядив свой карабин, Бимба закурил трубку и крепко задумался. Он никак не мог понять, почему некоторые люди, рискуя попасть в тюрьму, идут воровать соболя в заповедник. И мало того, – еще и считают Зенфрана своим врагом. Хотят непременно убить его. Эх, какие непонятливые люди, как можно сердиться на Зенфрана? Ца-ца-ца! Совсем дурные эти бра-ка… бра-ко… тьфу! Язык не может выговорить, как их называют… Гнать их надо! Тюрьму садить надо!
Громко кашлянув, мотнул головой, одобряя свои мысли, и толкнул в бок товарища.
– Витька, ты бы стала харабчить (воровать) соболей в заповеднике? А?.. Зенфрана стрелять, как те бараны?
– Ха, сказал тоже! А вот эти «бараны»-то согнут тебя в бараний рог, только попадись на их улице… Это мы с тобой здесь в заповеднике хозяева. Тут-то мы можем арестовать браконьеров, и вся игра.
– Это как рога загнуть?.. Барану рога бурхан дарил… у Бимбушки нету!
– Ха-ха-ха-ха! Не беспокойся, Бим, женишься, баба наставит тебе рога! Только бы твой бурхан послал тебе шуструю… Знаешь, бывают такие… Эх, держись только! Отвернешься чуток – рога с ходу прирастут… белые, черные, всякие…
Бимба, часто моргая, смотрел на Виктора, который, смеясь, говорил про какие-то рога, которые наставит ему будущая жена… Не-ет, тут что-то не то!
– Эх-хе-хе! Витька-Витька! Много болтать толк нету… Шибко пустой слова есть… Э-эх, тала!.. – качает головой обиженный Бимба, – лучше ходить нада.
– И верно. Пора уж.
И опять осторожно пошли друзья по затвердевшей чумнице, а зимнее солнце уже клонилось к закату. Чумницу нет-нет да пересечет след соболя. Хитрым кружевным сплетением уходит он в мягкую тень кедровника.
– С каждым годом все больше и больше собольих стежек… Недаром, Бим, проливаем пот в этой тайге. Недаром!.. – в голосе Виктора послышались горделивые нотки.
В самом прижимистом месте, где гранитная скала очень напоминает уродливую человечью голову, нависшую над речкой, непослушные лыжи Бимбы, воткнувшись в цепкие ветки ольхи, сбросили лыжника. Бимба больно стукнулся головой о выступ скалы и до крови расцарапал лицо. Весь в снегу, он с трудом встал на лыжи, подтянул ослабевшие юксы и поспешил вдогонку за товарищем.
За крутым поворотом Бимба увидел Виктора, наклонившегося над чем-то. Подойдя к товарищу, Бимба увидел совсем свежую чумницу, которая накрест пересекла старую и, петляя меж стволов вековых сосен, скрылась в густом ельнике.
Виктор, при виде браконьерской чумницы, словно соболевая лайка, почуявшая парной[14]14
Парной – свежий.
[Закрыть] след зверька, готов был тут же в погоню, но его вовремя сдержал холодный расчетливый навык, полученный от Сватоша, – определить время, когда прошли нарушители, количество их, вооружение.
– Бимба, не затаптывай следы… Сейчас узнаем, сколько этих сволочей…
Стражники прошли сотню метров и остановились.
– Знаешь, Бим, их двое… видишь кедринку, один след слева, второй справа.
– Верно, паря, баишь… Однако, один русска мужик… много хлеба ела… его лыжи глубоко в снег уходят, а вторая совсем поверху ходит – это, наверна, тунгус, – заключил Бимба.
– Ого, Бим, у тебя нюх есть… из тебя должен получиться добрый стражник… – Виктор одобрительно взглянул на бурята. – Только вот одна загвоздка… На лыжах ходишь хуже моей Вальки. – Помолчав, Виктор уже серьезно добавил: – Ладно, братуха, проверим ружья, и айда догонять. Не уйдут от нас! Только рази Хабель с Остяком сумеют утянуть, черти…
Широко, с накатом зашагал Виктор. Бимба, стараясь изо всех сил не отстать, с завистью наблюдал, как гибкие лыжи Виктора жадно лижут сметану переновки[15]15
Переновка – первая пороша.
[Закрыть]. Временами в спешке правая лыжа Бимбы то и дело норовила свернуть с чумницы и воткнуться носком в рыхлый снег или зацепиться за какую-нибудь ветку. Все же лыжа взяла свое – воткнулась! Бимба, споткнувшись, перевернулся через голову, быстро поднялся и, поправив юксы, снова побежал за скрывшимся из виду товарищем. Много ли прошли, а пот катился ручьем, заливая глаза. «Ох, горе бедному Бимбушке! Ох, горе!..» – горевал про себя молодой стражник.
А Виктору хоть бы что! Идет себе спокойненько, движения у него размеренные, ловкие, без усилий. Чего ему потеть!.. Такие же ровные, четкие движения, Бимба видел, делает кругленькая медная чашечка на часах, висящих в доме Зенфрана. «Идет на лыжах – будто плывет на лодке вниз по Баргузину… с ветерком… Эх, хорошо! Мне бы так научиться – всем браконьерам бы пришел конец, – подумал Бимба. – Ох, однако, он шибко мастер… А еще, говорят, есть Хабель, есть Остяк… Против них нет на белом свете лыжников. Те, говорят, летают со скалы на своих шаманских лыжах. Умеют заманивать стражников под снежный обвал. Наверно, эти люди – шаманы. Черные мысли заставляют их воровать соболей в заповеднике, а мы мучаемся из-за них. Зенфран говорит – придет время, стражников не надо будет – люди перестанут браконьерить… Ой-ёй, однако, этому не бывать… Ох, когда же переведутся худые люди… Хара шубун[16]16
Хара шубун – черная птица.
[Закрыть] – их отец, а мать из змеиного рода… попробуй изведи их…»
Бимба, взглянув вперед, увидел лишь одни толстые стволы хвойных деревьев, а Виктор ушел уже далеко. «У-у-у, бохолдой[17]17
Бохолдой – черт.
[Закрыть], однако; много отстал!..» Бежит Бимба, падает, отряхнувшись снова бежит. Вот и солнце закатилось. Быстро сгущаются сумерки. Тревожно на сердце у Бимбы. Он еще быстрее старается бежать. «Эх, худой я стражник. Верно тетка ругает меня. Баран мне пасти надо, а не браконьеров ловить… Шкуру свою оставлю где-нибудь на сосне… Дурак-дурак».
Наконец между деревьями сверкнул огонек. «Витька уже чай сварил, а я ползу, червяк несчастный», – ругает себя Бимба.
Подойдя к огню, он снял лыжи и виновато глянул на товарища. Встретив приветливую улыбку, облегченно вздохнул.
– У-у-у, кое-как догнал тебя.
– Чо, умаялся, горемыка? Снимай понягу-то… Вывязывай куль, доставай свою большую чашку и грей брюхо чайником, а спина согреется от огня.
– О, это я мастер! Чай пить, дрова рубить. Бимбушка может.
– Эвон срубил, пока было светло, две сушины; отдохнем, да надо раскряжить их.
– Аха, паря, ночь будет холодная… дрова много жрет огонь…
Мало спал Бимба в ту ночь. Через час-другой подбросит дров, нарубленных двухметровыми сутунками[18]18
Сутунки – расколотые пополам бревна.
[Закрыть], закурит, чуть-чуть вздремнет и снова кочегарит. «Пусть Витька спит. Силы будет больше, хищников догонит, – рассуждал он, заботливо посматривая на спящего товарища. – А я-то уж…» Бимба, тяжело вздыхая, качал головой. Живые карие глаза печально глядели на яркий огонь.
Когда над темным горизонтом неба начало чуть-чуть отбеливать, а утренняя звезда, весело подмигивая, сообщила о близком конце холодной, бесконечно долгой ночи, Виктор приподнялся и сонными глазами окинул Стог. Разглядев ссутулившуюся у костра фигуру Бимбы, спросил:
– Ты, паря, спал ночь-то?
– Спала хорошо. Пей чай, да ходить будем.
– Ты уж и чайку сварил?.. Вот молодчина!
К обеду второго дня стражники подошли к крутой скалистой горе. У небольшого незамерзающего родничка они обнаружили тлеющий костер. Браконьеры, видимо почуяв неладное, собирались очень поспешно. Об этом свидетельствовала глубокая зеленовато-желтая воронка в снегу от вылитого горячего чая. Валялось несколько кусков сухарей, про которые в тайге уважительно говорили «сухарики-сударики», и упаси бог, бросаться ими – великий грех. А тут как прижало – голову потеряли.
– Э-э-эх, черт возьми, улизнули! – Виктор от великой досады неистово зацарапал затылок. Затем, подумав, решительно тряхнул кудрями.
Внимательно осмотрев лыжи Бимбы, сбросил свою понягу.
– Бим, вижу, твои лыжи добротные… да и сам ты крепкий парень. Бери мою понягу и иди не спеша по их чумнице… Поди справишься с двумя-то понягами?
– Ха! Четыре поняги тащить буду! Сила е!
– Вот и молодчина! А я без поняги-то мигом догоню их. Дергану через утес и свалюсь им прямо на плечи. Понял?!
– Поняла-поняла! Только смотри… От худых людей худой дело жди… Хитрить нада мала-мала…
– Не бойся, братуха!..
Их двое. Рыжий и черный. У рыжего единственный, зеленый с крапинками, кошачий глаз прячется за лохматой бровью. Руки в собачьих рукавицах трясутся мелкой дрожью. Виновато сердце. Страх сжимает его до боли.
Второй – маленький, щупленький, с хитрыми узенькими глазками. Покрытое грязью бронзовое лицо плотно замкнуто – не прочтешь, что на его душонке творится.
Уже с соседнего склона прошумели чьи-то лыжи. Неизвестный лыжник с поразительным упорством и быстротой настигал двоих.
«Похоже, летит сам Хабель… Нешто Сватош сманил его к себе? – проносится в голове рыжего. – Да кто бы ни был, стукну – и вся игра…»










