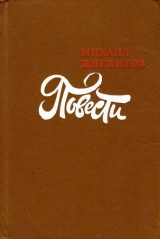
Текст книги "Повести"
Автор книги: Михаил Жигжитов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 22 страниц)
ГЛАВА 5
Самагир выплыл из густого красноватого тумана. Пошевелился. Заскрипела кровать. Он понял, что выплыл из сна. Сон был тяжелый и сколько продолжался, Оська не помнит. В груди горел медленный огонь. Он обжигал сердце и легкие, затруднял дыхание и причинял боль. Хотелось пить.
Осип начал поворачиваться на бок, кольнуло острым шилом, и он громко застонал.
Рядом шепотом заговорили женщины:
– Кажется, проснулся.
– Тише, возможно, еще спит.
Самагир открыл глаза. Видит синевато-снежный колпак, из-под которого кое-где выглядывают мягкие русые волосы, белый лоб и крутые дуги тонких бровей. «Вот эта бледнолицая женщина вчера наладила руку, – вспомнил он. – Молода, а уже дохтур…»
– Ну, как, дедушка, чувствуете себя?
– Весь грудь огнем горит.
– А рука беспокоит?
– Рука будто нет… совсем чужой.
– Ну, ничего, вылечим! – сказала врач уверенным голосом и ободряюще улыбнулась темно-серыми глазами.
От ласкового взгляда и уверенных слов врача у Самагира потеплело на душе и даже нудная боль на время куда-то исчезла.
Врача позвали по какому-то срочному делу, и она, кивнув Самагиру, легкими неслышными шагами вышла в коридор.
С соседней койки на Самагира смотрели большие глаза, седеющие кудри сползли на брови и закрыли уши.
– А как, батенька мой, дела, очухался? – бойко, с цыганским акцентом спросил сосед.
– Худо, паря… однако, пропаль охотник…
– Э, батенька, не горюй! Сиди на печке, а старуха жратву притащит.
– Не-е, пошто так… Бабе дома сидеть нада… Э-э, там на ферме коров доить, скотишко обихаживать мала-мала…
– А на то, батенька мой, она и баба, чтоб кормила мужика! На ядрену мать держать ее тогды! – цыган весело рассмеялся, цокнул языком и попросил закурить.
– Ук-ты-ы, кака веселый, – подавая кисет, улыбнулся Самагир. – Что болит-то?
– Нога, батенька… нога замучила, гниет, окаянная. Эх-ха, стерва! – глотнув дыму, цыган спрятал самокрутку под одеяло, взял больную ногу и начал раскачивать ее, как ребенка. – Гангрена, чухашь, батенька, чем пахнет дело-то… дохтурша сказала, что оттяпает ее. Отплясал Игнашка Золотарь, и все тут! – Цыган снова затянулся и, взглянув на Самагира погрустневшими глазами, опустил кудрявую голову. – Отплясал, батенька, – чуть слышно прошептал он.
– Где работаль?
– Тружусь, батенька мой… слесарничаю в гараже леспромхоза.
– О-бой, шибко ладный ты мужик. Я думаль, ты ездиль туды-сюды… шаляй-валяй, как медведь-шатун.
– Не-е! Теперь я не кочую, хватит мерить белый свет.
После завтрака Самагир задремал. Кто-то осторожно погладил одеяло. Открыв глаза, Осип увидел Андрейку.
– Ты, Ондре, когда приехал?! – обрадованно спросил старик.
– Сегодня утром… был в школе. Наш класс занимается с обеда.
– Шибко отстал?
– Догоню. – Живые черные глаза тревожно скользят по исхудавшему лицу, по толстой руке в гипсе.
– Скоро, Ондре, снова пойдем в тайгу, – заметив тревогу в глазах мальчика, успокоенно сказал старик.
– Вот и хорошо. Бабай, я еще раз ходил к пещере Покойников.
– Пошто?
– Там я обронил книжку из библиотеки.
– Нашел?
– Нашел.
– Вот и хорошо.
– Бабай… Это Кеха свалил на тебя…
– Чо свалил? Какой Кеха?
– Который у нас жил… Он столкнул на тебя снежную глыбу.
– Ты чо баишь, паря!
– Он… Я снова был на скале, там за дерево привязана веревка… Он за нее держался, а ногой столкнул снег… Следы-то остались на кромке снега, все видать.
– О-бой! Сын барсука и вонькой росомахи! Убил мою Чолбонку и меня хотел отправить в Страну Духов, в Нижнюю землю.
– Бабай, я сразу понял, что Кеха обманул меня.
– Как обманул?
– Он после обвала обежал вокруг пещеры и сказал мне, что человек успел уйти, а когда я искал тебя, то никаких следов не было.
Самагир сурово нахмурил седые брови. Темно-медное лицо стало сердитым и упрямым. Задумался. Зачем-то потер небольшой с горбинкой нос. Черные глаза стали жесткими, заискрились злыми огоньками.
– На-ка, Ондре, трубку, запали-ка ее.
Мальчик быстро раскурил трубку и подал Самагиру.. Осип несколько раз затянулся и немного успокоился.
– Ондре, сынок, тебе ведомо, где милиция?
– Знаю, бабай.
– Вот, молодец. Там найдешь моево талу Воронцова. Скажи ему, што Оська Самагир лежит в больнице. Он шибко хочет с тобой баить. Пусть не мешкает, а то у Оськи дело худо. Раскумекал, чо сказать-то?
– Понял. Я, бабай, мигом добегу, – сказал Андрейка, собираясь уходить, потом спохватился, достал из кармана плитку шоколада: – Вот, бабай, с чаем покушаешь.
– О-бой, сынок, ты меня совсем маленьким хубунчиком сделал. Ешь сам… усладись вкусным камнем.
– Шоколад едят только больные. Разве ты, бабай, не слыхал про это? Спроси-ка у врача, – улыбаясь, сказал Андрейка и юркнул в дверь.
Через несколько минут запыхавшийся Андрейка остановился у здания милиции. Навстречу ему с высокого крыльца спускалась ярко разодетая девушка и, улыбаясь, рассматривала новенький паспорт.
На крыльце мальчик чуть задержался и про себя повторил поручение Самагира. Затем, открыв тугую дверь, оказался в небольшой комнате, где за столом сидел знакомый милиционер и разговаривал с мужчиной в нерпичьей шубе. Андрейка облегченно вздохнул. Сержант милиции Разуваев жил рядом со школьным интернатом. Он был очень веселым и общительным человеком, играл с ребятами в лапту, рассказывал смешные анекдоты и устраивал борьбу.
Вдруг распахнулась дверь соседней комнаты и оттуда вышел в сверкающих сапогах красивый лейтенант и позвал мужчину в нерпичьей шубе. «Сапоги-то как блестят!» – подумал Андрейка и вспомнил воспитательницу интерната Марью Алексеевну, которая часто бранила их за грязные ботинки.
– Здорово, сосед! Что случилось в нашем интернате?
– Здрасте, дядька Разуваев!.. Я… мне… меня послал дедушка Самагир… Велел позвать его талу Воронцова.
– Какой Самагир? А почему он сам не пришел сюда?
– Он лежит в больнице. Ему плохо, понял?
– Лейтенант Воронцов занят. Подожди, – сухо, по-военному, ответил Разуваев.
Зазвенел телефон.
– Дежурный по отделению сержант Разуваев. Вам кого нужно?.. А кто говорит?.. Хорошо, доложу… Нет. Он скоро придет.
Положив трубку, сержант потянулся и весело подмигнул. Теперь он походил на игривого соседа, а то был какой-то неузнаваемый, сухой, строгий.
– Ну, што, Андрюха, как дела-то?! – в голубых глазах забегали озорные бесенята. – Это ты с какой девчонкой вчера ходил в кино? А?! Уже одиннадцать, а ты с ней тары-бары у ворот!
– Ха, сказал тоже, вчера!.. Я только сегодня утром из дома.
– Фьюить! Верно, паря, я давно тебя не вижу.
– Болел гриппом.
– У-у, это плохо. Много пропустил?
– Две недели. Но я дома все время занимался, догоню.
Сержант закурил и загадочно улыбнулся.
«Сейчас что-нибудь выкинет! Уж я-то знаю дядьку Разувая!» – весело подумал Андрейка.
Милиционер взял лист бумаги и быстро написал несколько слов.
– Утром, Андрюха, я был на реке. Там обнаружил труп и составил вот этот акт. Прочитай-ка, товарищ, и скажи свои соображения. Проверим твою наблюдательность. – Андрейка взял лист и начал читать.
– Читать быстро и без промедления обнаружить мою ошибку. Ну!
– Ха! тебя тоже называют семейским, а бороды-то нет.
– Ну, допустим, а еще что?
– Вай-вай! Ха-ха-ха! Пол неизвестен, а по бороде!.. Ха-ха-ха! Раз борода – то, значит, пол мужской! Ха-ха-ха!
Андрейка услышал позади себя шаги.
– О, у вас, товарищ, как на концерте Аркадия Райкина!
Веселое лицо Разуваева сразу стало сухим и строгим.
– К вам, товарищ лейтенант, по срочному делу, – милиционер кивнул на Андрейку.
В доме Буина сегодня большая радость. Буин привез из больницы жену с дочкой. Новорожденную нарекли Чимитой.
Бабка Чимита по-соседски домовничала у Буина и за эти дни вымоталась основательно. И сейчас, освободившись от тяжкого труда домохозяйки двух домов, она блаженно чаевничала.
– Значит, Осип-бабай в другой больнице лежит? – еще раз переспросила старуха.
– В другой, бабка Чимита, – убаюкивая дочку, ответила Ханда.
– Я-то уж разыскал бы его. Тайком бы и бутылку «московской» занес, – добавил Буин.
– Там, поди, Андрейка около бабая вертится… Вот уж дружба-то у них! Бедняжка, намытарился с Осипом, сколь страху принял.
– А виновница-то вот где! Твоя тезка! – приподняв ребенка, счастливо рассмеялась Ханда.
– Верно Ханда говорит. Тогдысь как было?.. Помните?.. Ханда свалилась на кровать и давай реветь, а бабка Чимита с ухватом наскочила на меня: «Пьянчужка, такой-сякой, запрягай скорей свою клячу!» Вот и забыли мы про Осипа с Андрейкой.
Взглянув в окно, бабка Чимита сердито отвернулась.
– Опять леший несет этого дьявола.
– Ты, Буин, не связывайся с ним… не давай ему коня, – робко попросила Ханда мужа.
– Ладно, не ной! – сердито огрызнулся Буин.
Расплывшись в широкой улыбке, ввалился Иннокентий.
– Здрасте, добрые люди. С прибылью вас. Дай бог здоровья Ханде и… как нарекли дочку-то?
– Чимита. Теперь у нас две Чимиты, – с гордостью сказал Буин.
Старуха сердито буркнула что-то, окинула неприязненным взглядом Кеху и пошла к выходу.
– Гони, Буин, этого, – старуха кивнула на Иннокентия, – эту рыжую собаку, душа у него черная, – сурово взглянула на соседа и вышла из дома.
Кеха был слаб в бурятском языке, но понял, что старуха крепко ненавидит его и велит не связываться с ним.
– И пошто она злится на меня? – Кеха состроил жалкую гримасу.
– Она не велит, штоб ты ходил к нам. Шибко ругает меня, – виновато качает Буин головой.
– Махай на этих старух. В девках они ангелы, а под старость чистые ведьмы.
– Не-е, Кеха, ты пошто такое болтаешь? Бабка Чимита у нас самый почетный человек. Она, паря, в молодости такой «ангел» была, охо-хо! В ущелье Семи Волков одна отбилась от белых солдат… Знаешь Чимитину скалу? Вот там она сидела, а тропа – только одному ходить. Один показался – она хлоп, второй вышел – его хлоп… Стрелять близко, ловко, беляки как на ладошке, а она на высокой скале – не достать ни рукой, ни пулей. …Э, паря, орел-девка была! Вот какая наша бабка Чимита, а ты – «ведьма»! – Буин сердито сплюнул.
– Ладно, Буин, не сердись. Была, значит, была, а теперь одна тень от былого.
– Не-е, Кеха, не болтай зря.
Мужики молча закурили. Кеха тихонько толкнул Буина и показал горлышко бутылки. Буин нахмурил брови и замотал головой.
Иннокентий удивленно поднял рыжие брови.
– Да ты што, Буин?! Девку-то надо обмыть… Хошь по старинке, хошь по-новому, все одно без водки не положено в мир вводить… Как-никак радость. У нас теперя на поминках упьются и песни играют, и в пляс пускаются… Там-то все-таки горе. А тут радость!
Буин угрюмо бросил:
– Сами сделаем. Ханда мала-мала поправится, – взглянув на Кеху, улыбнулся и продолжал: – Осипа-бабая из больницы привезем домой. Тогдысь барана резать буду, вина целый ящик куплю… Всех в гости! И ты, Кеха, приходи.
– Хы, паря, тебя не узнать, от бутылки попятился назад.
– Нет, дела много, трезва голова нада.
– Не хошь, как хошь… Буин, дай коня вывезти мясо… Чую, што сусед твой заявит в милицию.
Буин отрицательно трясет косматой головой.
– Сена нету, дров нету… коня самому нада.
– Мне же ненадолго. Вывезу мясо к ущелью Семи Волков и булькну его в Духмяную, пусть ищут… А потом достану и уволоку домой.
– Татэ-э, кака хитра!
– Небось будешь хитрым, когда прижимают тебя, как волка.
– Хэ, паря, дед Самагир-то, когда был молодой, тоже ходил Одиноким Волком, потом понял и сказал себе: «Неладно хожу по тайге». И стал самым честным охотником.
– Ну ево к лешему… со своей честностью – ни на себе, ни перед собой… Я накоплю деньги и куплю «Волгу». Посажу свою Мотю и пропылю по улице, пусть завидуют черти.
– Не-е, Кеха, мой Самбу надежней. Запрягу в сани и – чу, пошел! А твоя «Волга», глёзка, как налим… пока копишь деньгу, можно в тюрьму ходить. Не-е, паря, мой Самбу самый надежный машина, хе-хе!
– Чудак ты, Буин, ни черта не кумекаешь в жизни. Дык дашь конягу-то али нет?
– Нет, сама поеду. Сено нада тащить.
– Э-эх, испортился мужик… Ладно, на себе перетаскаю, – водянистые глаза Кехи загорелись злыми огоньками, стали сухими и даже красивыми.
Кеха завязал в понягу заднее стегно сохатого, огляделся кругом и покачал головой. «За два дня не перетаскать… Ничего, зато загребу кучу денег». При выходе из пещеры он увидел двух милиционеров, побледнел и, заикаясь, опустился на каменный пол.
– При-при-приветик… ка-жись, влопался…
– Нет, не кажется, а точно, – на суровом лице лейтенанта Воронцова появилась презрительная усмешка. – Что, струсил? А ну, веди-ка нас в свою нору.
Трясущимися руками Кеха достал из кармана пачку «Беломора», сунул папироску в рот табачной стороной и стал зажигать мундштук.
– Поверни папироску-то, кажись, очумел, – заметил сержант.
– О-очумеешь с вами, в такой дыре и то нашли.
Качаясь, словно пьяный, Кеха вошел в пещеру.
– Фьюить! – удивленно свистнул сержант Разуваев. – Вот это накромсал мяска, можно зимовать!
– Пра-правильно, мо-можно, – с надеждой в голосе проговорил Иннокентий, – а што если заберете половину мяса себе… Я – ящик водки поставлю, и по-мирному разойдемся. Ведь тайга…
– Ах ты, гад! Ты нас за кого признаешь? – в бешенстве повернулся Воронцов.
– Свои па-парни, а как волки, – простонал Кеха.
– Ты-то вот настоящий волчина, сколько зверей сгубил, подлец! – лейтенант закурил и кивнул Кехе: – Идем наверх, а ты, Коля, хорошенько прошарь все углы.
«Ох, господи, я ж забыл веревку-то снять!» – полоснула Иннокентия страшная мысль.
– Идем! – приказал милиционер.
– А там-то что делать, одни камни.
– Идем, идем!
Когда поднялись на скалу, Кеха заплакал.
– Сгу-сгубить со-собрались… Все ви-вижу…
– Вот что, гражданин Ерошкин, мы все знаем, и вам придется рассказать обо всем, не отпираясь. Сами видите, вы влипли так, что лучше некуда: все вещественные доказательства налицо… Мясо… вот эта веревка, за которую вы держались, чтоб не свалиться вместе со снежной глыбой. Снегопада не было, и ваши следы все тут. А ну, примерим.
Кеха безнадежно махнул рукой и опустил голову.
– Не надо. Все равно тюрьма.
– Да, придется отвечать.
«Кап, кап, кап»… – капают капели.
«Вот уж и марту приходит конец… У нас в Баян-Уле на маряне[35]35
Марян – поляна на солнечной стороне таежной горы.
[Закрыть] растаял снег и там пасутся козы и изюбры. Наверно, Чимита уже посматривает в окно. Ондре вчера написал ей письмо, штоб, значит, готовила мясо на позы и пельмени. Сенца-то, наверно, Буин подвез… И зачем только эмчи-бацаган[36]36
Эмчи-бацаган – девушка-врач.
[Закрыть] держит меня в больнице. Кто бы знал, до чего надоели Оське эти белые стены, потолки, болезный люд и порченый воздух. На таком воздухе эвенку одна погибель. Нет, надо баить с эмчи-бацаган, не отпустишь, мол, добром, Оська, сбежит. Эвенк врать не будет», – размышляет Самагир.
– Дедушка Самагир, вас приглашает Елена Васильевна.
– Она где?
– У себя в кабинете.
«О-бой! Однако, шибко серчать буду, если не отпустит», – решил старик.
Осип торопливо прошагал по коридору и, не постучавшись, вошел к хирургу.
– Мендэ, эмчи! Чо, однако, звала?
– Здравствуйте, дедушка Самагир! Присаживайтесь, пожалуйста… Как себя чувствуем?
– Пасибо. Совсем здорова.
– Вот и прекрасно. Вы уж давно проситесь домой, – Елена Васильевна добродушно улыбнулась, – покажите-ка руку. Так… так… Ну что ж, придется отпустить вас. Только обязательно приезжайте через две недели, тогда снимем гипс. А сейчас – идите к Варваре Куприяновне и переоденьтесь в свою одежду.
– Пасиба, эмчи, шибко буду помнить тебя, шибко пасиба! – Осип весело заулыбался, засуетился и, поклонившись, вышел в коридор.
Через четверть часа, одетый в свою теплую зимнюю одежду, Самагир предстал перед Еленой Васильевной.
– О-бой, эмчи Лена Васильевна, ты стала – как родня. Будь добра, летом ездить к нам в Баян-Улу, ладна, а?..
– Постараюсь… обязательно приеду! Я люблю тайгу. Ведь мой папа тоже охотник, как и вы.
– Вот-вот! Зови его в Баян-Улу. Вместе ходите.
Прощаясь, Самагир легонько, чтоб не причинить боль, пожал маленькую ручку Елены Васильевны, низко склонил седую голову, болезненно сморщил лицо и виновато проговорил:
– Оська-то… отдуй ево бичом Игнашка Золотарь, хотель сердито баить, если не пустишь в Баян-Улу. Вот ведь какой тунгус!..
Елена Васильевна весело рассмеялась.
Выйдя из больницы, Самагир долго стоял посреди улицы, любовался далекими гольцами и с наслаждением дышал чистым свежим воздухом. «Давно ли я легонько переваливал через эти гольцы, а теперь… Коротка же тропа человека. – Наплыли невеселые мысли: – Э-эх, пошто так рано ушли в Страну предков Антон с Домной… Не успел бы перешагнуть через порог дома, как у Домны зашумел самовар… А Антон бы поставил бутылку!.. Э-эх, почему хорошие люди так по малу живут на этом свете, вроде бы сами спешат скорее уйти на Нижнюю землю… В ихнем доме живут незнакомые люди… Как зайдешь?..»
Горестно махнул рукой, ссутулился и шатко поплелся вдоль улицы в поисках попутной машины.
Повезло старику. Остановился «газик» с будкой. Из кабины высунулась черная кудрявая голова.
– Ты, дед, куда?
– В Баян-Улу нада.
– Садись в будку. Только я заеду в Глушман на лесосеку.
– Ладна.
Лихой шофер попался. Самагир выглянул в окошечко, и ему стало не по себе. Мелькают и кружатся деревья, ветхая будочка трясется, словно в лихорадке. Машина была загружена кормовой солью. «Груз-то дешевенький и такой же попутный старичонка сидит, вот и катит сломя голову, – думает Осип. – Какой уж там оленю, пуле не догнать. Ладно, пусть несется быстрее ветра, скорей довезет. Удалый парень попался, веселый. Скорей увижу свою Чимиту. Хороший чай она сварит, и мы долго будем пить: молча, степенно, не спеша будем пить. Хорошо будет! А потом попрошу ее сготовить позы или пельмени. Позову соседей и угощу «огненной водой»… А как встретит меня Тумурка?.. Будет скакать, лаять на меня. «Где пропадал, старый шатун?» – спросит он. О-бой, хорошо у нас в Баян-Уле!»
Долго трясся Самагир. То ли от качки, то ли от бессонной ночи – он крепко заснул.
Машина резко остановилась. Больно стукнувшись об перекладину, Осип проснулся. В окошечко он разглядел голую гору. «Шофер-то сказал, что заедет в Глушман. А это? Там же почти сплошной кедрач, днем солнца не увидишь», – недоумевал Самагир. Он, кряхтя, спустился на землю и подошел к кабине. Оттуда высунулась кудрявая голова, и на солнце блеснули ровные чистые зубы.
– Ну как, дед, здорово пропылили?
– Кака там пыль, одна соль, – не поняв смысла слов шофера, сердито ответил Осип.
– Ты, дед, покури, а я отвезу эту даму с ребенком в барак и вернусь. Потом сядешь ко мне в кабину, здесь мягко и тепло, как в Крыму.
– Ладна, будем курить.
– Вишь, дорога-то – одни ухабы, затрясет тебя.
– Ладна, ладна… Э, паря, ты баил в Глушман заедем?
– А это што?.. Разве не Глушман? Вот речка Глушман. Вот тайга Глушман.
– Эта… эта Глушман?.. А где тайга-то?.. И речки-то нету.
– А это што?! – шофер показал на голые горы, заваленные сучьями и обломками деревьев, дал газу и понесся куда-то в гору.
– Ты – Глушман? Пошто тебя не узнать? – по стародавней привычке вслух спросил у тайги Самагир.
И так же вслух ответил:
– Это Ерноуль искромсал мой душмяный кедровник!
– Где та говоруха-речка с проворным хариусом?
– Вот я, – чуть слышно прошептал грязный ручеек.
Не веря своим глазам, Самагир топтался на одном месте.
С грохотом подошел лесовоз и остановился у мостика. Из кабины выскочил молодой паренек, деловито осмотрел машину и покачал головой.
– Дотянем, нет? – спросил он у кого-то.
– Дотянем! – ответил сам и весело посмотрел на Самагира.
– Садись, отец, подвезу.
– Пасиба, мне в Баян-Улу нада.
– А-а, значит, не попутчик.
Лесовоз с грохотом умчался вдаль, и Самагир снова остался наедине с тайгой. Его внимание привлекла прилепившаяся к подножию горы белая, как церковь, известняковая скала.
«Лопни мои глаза, если это не та скала!.. Под ней ключик. А рядом стояла юрта Антона». Спотыкаясь о пни и обломки деревьев, старик поспешил к скале.
– Верно, паря, кажись, – прошептал старик.
У скалы стояла полусгнившая юрта.
Тяжело дыша, раскачиваясь, словно пьяный, Осип подошел к развалюхе. Через дыру в крыше заглянул внутрь юрты и на передней стенке разглядел вырезанное ножом клеймо: «А. С».
– Это талы Антона знак. Два дерева по краям, а в середине его имя.
Из далекого прошлого, словно из густых облаков, выплыл образ друга: русые волосы, широкое полнокровное лицо, из-под густых насупленных бровей твердо смотрят смелые глаза.
– Вот, тала, что сотворили с твоим Глушманом, – громко проговорил эвенк. – Мотри-ка, мотри-ка, паря.
Антон укоризненно покачал русой головой и снова исчез в густых облаках, несущихся на юг.
За горой стоял сплошной гул. Там валили лес.
Старик поднялся на бугорок и посмотрел на окрестность.
Искалеченная тайга умоляла Самагира прогнать жестоких лесорубов.
– Глаза мои, закройтесь, чтоб не видеть эту беду! – беззвучно воскликнул эвенк.
По темно-медным морщинистым щекам старика текли слезы.
Крепко спится после дальнего пути.
«Пусть отдыхает. Столько бед свалилось на плечи старика… Но теперь он дома, слава бурхану…» – шепчет Чимита. Осторожно, чтоб не звякнула ручка, старуха взяла подойник и бесшумно вышла на двор.
А Самагир спит себе и видит сон. Сидит он на вершине гольца Двух Близнецов и любуется тайгой.
Лучи сентябрьского солнца мягким теплом окутали таежную землю. Нежно-зеленая, убегая вдаль, она покрылась прозрачной голубизной, а там, далеко-далеко, где едва маячат горы, ее одела сочная синь.
Листья на деревьях походят на драгоценные камни, ласково перешептываясь в любовном трепете, весело сверкают зеленью, золотом и жарким багрянцем.
Под сентябрьским солнцем тайга, разнаряженная драгоценными камнями, радуется счастливому бытию и поет веселые песни.
Обласканная, она блаженно улыбается и снизу доверху наполнена светлой легендой.
Причудливыми изгибами вьется по тайге тропинка. Она начинается далеко за пределами здешнего леса, где горбатые горы своими могучими плечами подпирают небосвод и почти круглый год сверкают снежными шапками. С горы на гору, с холма на холм она торопливо бежит в долину Великих Солонцов – Мигдельгун. Знаменит Мигдельгун. До сорока изюбров приходят сюда на ночь лизать соленую землю.
Тропинка протоптана большими и маленькими копытами зверей, ходивших ею на солонцы с незапамятных времен.
Вон величаво шагает сохатый, а там дальше, грациозно, словно пританцовывая, бежит изюбр, стремительно несется напуганная кем-то коза. А за ними крадучись скользит по тропинке хищная рысь, чуть приотстал неторопливый медведь. Вокруг желтого калтуса воровато трусит волк, а по осиннику бесшумной поступью идет гадкая росомаха.
Но тайга чем-то встревожена. Она с волнением смотрит на юг и юго-запад, где стонет соседний лес, откуда разгоряченный воздух приносит волны едкого дыма. Там человек пускает пожары, там сплошь вырубают леса.
Вдруг появилась черновина, потом вторая, третья… Их так много, что не перечесть: как муравьи, они идут на тайгу. Все ближе, ближе. Да это же тот лесовоз с молодым веселым пареньком, который приглашал Самагира ехать с ним. А позади много-много лесовозов и тракторов.
– Ох, горе мне, горе! – запричитала тайга. Вначале такая празднично-веселая и прекрасная, вдруг она нахмурилась и окуталась свинцовыми тучами, и первые капли дождя рассыпавшимися дробинками ударились по сухим листьям деревьев, зашуршали в хвое. Посыпал мелкий осенний дождь. Тайга стала серой, морщинистой, неуютной. Зашатались, загудели лесные великаны.
Проснулся Самагир с тревогой в сердце и вспомнил, что сталось с Глушманом.
– Пошто рубят без оглядки?.. Брали бы зрелый лес, а молодняку давали бы подрасти: ущерба тогдысь не будет… Эх-ха, худо делают, – вслух ворчит Осип. – Слава богу, што Сватош мою Малютку-Марикан сделал заповедником. Теперь там даже траву не дают топтать, а не только срубить палку. – Заповедник! Добрую штуку выдумали люди.
По темно-медному лицу Осипа расплылась довольная улыбка. Он вспомнил, что батыр Ленин оставил бумагу, на которой своей рукой написал, чтобы люди хранили от разора тайгу и всю живность, чтоб не поганили всякой нечистью реки и озера…
– Не-е, не порубят наш лес! – уверенно сказал он и подошел к окну.
Спотыкаясь о камни, Духмяная стремилась вниз к Байкалу. А за рекой спала крепким сном безмятежной юности его любимая тайга.









