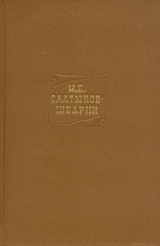
Текст книги "Том 1. Проза, рецензии, стихотворения 1840-1849"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 36 страниц)
Но, казалось, в моих словах было слишком много непривычного для нее равнодушия и холодности, потому что на глазах ее навернулись слезы.
– Странный вы, право, ребенок! – сказал я, взяв ее за руки.
Но она ничего не отвечала мне и весь вечер была печальна и задумчива. Мне самому теперь кажется, что я слишком круто приступил к ней; но дело уже сделано, а раскаяние – смертный грех! Тем не менее из этого разговора вы видите, что отношения мои к дочери Крошина принимают несколько дружественный характер и что первый шаг уже сделан.
Итак, вот вам весь мой внутренний домашний быт. Надеюсь, что я был в этом письме разнообразен и многоразличен и что вы не в претензии на меня.
Отрывки из дневника ТаниКажется, все те же вокруг меня люди, кажется, и любят, и ласкают меня, и не на что бы мне жаловаться, а все как будто чего-то недостает, как будто пусто, как будто вымерло все вокруг меня, и я одна в этой пустыне. Сама не могу себе представить это что-то, чего просит душа моя, а между тем чувствую, что неполно, холодно мне…
Мне страшно иногда за себя становится, что я так задумываюсь, что слезы без всякой причины навертываются на глазах и какая-то темная тоска сосет мое сердце… Посмотрю я на других – или резвятся, или делом занимаются; одна я, как будто отверженная, дичусь и чуждаюсь людей, и нет мне дела до их веселья, и никакое занятие на мысль нейдет, сижу от всех в стороне, точно связанная, скованная…
И некому мне открыться, некому успокоить, ободрить меня… я одна! Какое кому дело, что ноет, плачет мое бедное сердце; кто возьмется растолковать мне мое горе? всякий живет для себя, у всякого свой интерес, у всякого свое дело, гораздо важнее пустых бредней мечтательной девчонки!
Да если б они и хотели, то не могли бы пособить мне: жизнь-то их такая странная, чувство-то в них так зачахло, так глубоко спряталось за ежедневными мелкими заботами, что как-то боится оно света божьего, и не обчистить его от налетевшей на него пыли!
Ты бы одна поняла, ты бы одна утешила меня, милая, добрая мама; на твоей груди могла бы я выплакать свое неотвязное горе… Была бы я и весела и счастлива, да нет тебя со мною… прошло мое время, прошло навсегда! Видишь ли ты, по крайней мере, слезы мои? молишься ли, помнишь ли обо мне в своем чудном далеке? А я бы так любила, так лелеяла тебя, добрая мама, и как полно, как тепло было бы у меня на сердце, когда бы ты была со мною! И теперь одно только воспоминание о тебе поддерживает мое бедное сердце, и теперь те лучшие минуты моей жизни, которые провожу я на могиле твоей. Стоят две березы над забытою могилкою и целый день шумят и шепчут о чем-то так грустно, так уныло… Рассказали ли они тебе мое горе, донесли ли они до тебя весточку о твоей дочери? Тяжело мне, мама, страшно сиротке твоей одной на свете!..
И наступают иногда для меня минуты тяжкого страдания, и я желаю смерти, и я прошу у бога, чтоб взял он меня скорее к себе. О, как бы счастлива, как рада бы я была, как легко и вольно понеслась бы душа моя навстречу к тебе, милая мама! Быть с тобою, дышать твоим дыханием, сбросить с себя, наконец, эти тяжелые цепи, которые приковывают меня к земле, и всей превратиться в одно вечное, неиссякаемое чувство восторга… и нет этой вечности конца, и нет пределов!.. Боже мой! боже мой! от одной этой мысли голова у меня кружится, неизъяснимая сладость сходит в мою грудь, и я дышу свободнее и вся преображаюсь, как будто невидимые крылья поднимают и несут меня далеко, далеко, туда, где вечно сияет небо в неизменной красоте своей, где вечно греет и животворит веселое солнышко!.. Но тем печальнее, тем обиднее мне, когда я пробуждаюсь от роскошного сна своего, и невыносимо-несносны и малы кажутся мне все эти интересы, которые движут и шевелят вокруг меня пеструю массу людей…
Уж как же я рада, что наступает наконец лето! Тянулась, тянулась эта скучная зима, конца ей не было! Да зато и обрадовалась же я, когда проглянуло ко мне в комнату солнышко и пахнуло на меня свежим воздухом весны! Ведь вот оно хоть тусклое, хоть и серенькое теперь у нас небо, хоть и невесело и как будто бы нехотя смотрит солнце, а все как-то теплее, легче на сердце, и глядит-то все на тебя как будто о празднике, и все чему-то рада, сама не знаешь чему, а рада… Зимой все мертво, все прячется и спешит скорее в душную комнату, поближе к огню, и способности все сжаты, и вся жизнь-то какая-то неестественная, насильственная жизнь… нет, не люблю я зимы! то ли дело лето! А как вспомнишь бывалое время, то время, когда была еще у меня моя добрая мама – боже мой! сколько минут невыразимого блаженства доставляло мне это чудное летнее время! Бывало, чуть забрезжится свет и сверкнет на востоке огненная полоса, скорее бежишь вон из постели – и в сад; и все забудешь: и ворчанье старой няньки, и сладкий детский сон, и в голове так свежо и полно силы, и сердце так трепетно бьется, как будто вылететь из груди хочет! И что за чудное утро в саду! весь мир, кажется, притих и притаил дыхание, как будто объятый сладким очарованием; только где-где в кустах зашумит и защебечет ранняя малиновка, почуяв близкий восход солнца, и больше ни звука, ни шелеста, так что, кажется, слышишь самое незаметное дыхание ночного ветерка… И с полчаса, бывало, стоишь на одном месте неподвижно, как будто боишься осквернить неуместным движением это глубокое торжественное спокойствие, покуда не пахнет в самые глаза свежий ветер, предвестник солнечного восхода… И встрепенешься вдруг, как будто от сна, и с изумлением глядишь вокруг себя, а на небе огненной полосы уж и следа нет; весь восток залит огнем, снопы нестерпимого блеска порываются там и сям через разорванную тучу… вон уж осветилась и темная верхушка соснового леса; вон и соловей загремел свою чудную песню, и цветы развернули и подняли кверху свои чашечки, и воздух наполнился упоительным ароматом… Э-ге! да не пора ли разбудить Вареньку! Вставай, Варенька, вставай! пора: уж солнышко на небе! А Варенька и не слышит, только губками лепечет во сне что-то невнятное, да глазки откроет на минуту, да и опять завернется поскорее в теплое одеяло. Оно и не мудрено! ведь она под утро только заснула, бедная, а то всю ночь глаз не смыкала: всё снились ей страшные люди, про которых рассказывала нам накануне старая няня!.. И выйдешь, бывало, на балкон, а солнышко уж высоко; вон и пастух выгнал стадо и ведет его к реке, и выпорхнула из высокого тростника испуганная стая диких уток, издалека заслышав топот бегущего стада; вон и крестьяне идут гурьбой с косами на плечах; вон и кузнечик затрещал в высокой траве; шум, говор, стук… Боже ты, боже мой! что это как весело, жизненно в сердце! чувствуешь, как закипело все вокруг тебя деятельностью, как все кишит, и движется, и суетится, куда ни обрати глаза свои! и сама как-то ощущаешь в себе необыкновенную деятельность, и бегаешь, и резвишься, и смеешься таким веселым и звонким хохотом, как будто все существо наводнило и переполнило радостью, как будто места ей нет в груди!..
И скорее, бывало, спешишь после чая протвердить заданный урок, такой длинный и скучный, и все кажется, что конца не будет этому классу! А выйдешь в сад: погода чудесная, воздух знойный, небо такое синее-синее и так далеко раскинулось, и нигде ни облачка! И сладко задремлешь, и забудешься под убаюкивающее веянье густой душистой черемухи, в чаду восторженных нестройных грез; и видится то далекий, неведомый город, то звездное небо, то ангелы с радужными крылами, а сладостная дремота, как вор, так и подкрадывается к отяжелевшим векам, покуда резвый хохот подруг не выведет из этого сладкого полусна.
И опять шум, и опять смех, а вечером купаться, в горелки играть, кататься по озеру… Боже мой, боже мой! да где же, наконец, ты, веселое мое время? Куда же исчезла, куда скрылась ты, моя радость? Или никогда не видать мне тебя, пли вечно быть мне покинутою, оставленною сиротою?.. Мама!.. Мама!..
…Лицо ее было всегда задумчиво и до того бледно, что можно было скорее принять его за восковое, чем за лицо живого существа; никогда никто не видал на губах ее веселой улыбки или чего-нибудь подобного; но тогда я была еще так мала, что мне не казалось это странным. Помню, что каждый день сажала она меня и покойную сестру около себя и спрашивала у нас заданные уроки, и мы наперерыв старались отличиться друг перед другом, чтоб утешить, развеселить нашу добрую маму… Однажды утром, когда мы, по обыкновению, собрались в класс, к нам пришла старая няня и сказала, чтоб мы не шумели, потому что мама нездорова; мы поплакали, но, впрочем, тут же забыли обо всем, побежали в сад и целый день бегали и резвились, как ни в чем не бывало. Но вечером нас позвали домой. Когда мы пришли в комнату мамы, я едва могла узнать ее: так переменилась она в один день; худая и бледная, едва могла дышать она, едва могла сказать нам несколько слов; но вообще не жаловалась и не роптала, только изредка, когда страдания ее, по-видимому, возрастали, она едва внятно говорила: «Господи! умереть!.. и так рано, так рано!» Мы обе бросились к ней и жадно целовали ее бледные руки. «Я вас давно жду, дети мои, – сказала она своим ласковым голосом, – подите сюда, ко мне… поближе, вот так… ведь это, может быть, в последний раз…» И когда мы рыданиями своими прервали слова ее, —
– Полно, полно, – продолжала она, сама едва удерживаясь от слез, – зачем огорчаться и плакать? Правда, мне жалко оставить вас, я вас так любила… и вы тоже любите меня, дети мои, мои милые дети? Не правда ли, ведь вы мои дети?..
И она слабою рукою прижимала нас к груди своей; но в особенности меня целовала она горячо, называла своею милою дочерью, фавориткой и просила не забывать своей матери.
Около часа пробыли мы в ее комнате; вдруг она застонала, но так жалобно и странно, что все мы вздрогнули, и села на постели, как здоровая, и начала разговаривать с какими-то видениями, а потом опять легла на постель и стала звать нас.
Но видно было, что она уж угасала: взор ее делался все более и более неподвижным; губы шептали какие-то отрывистые, бессвязные слова; дыхание становилось труднее и труднее…
Наконец уж и ничего не стало слышно! Нам велели стать на колени и молиться, а через час она лежала на столе, вся одетая в белом…
Помню, когда ее похоронили, я целый день ходила из угла в угол, ничего не чувствуя, ничего не понимая, и есть ничего не хотела, и только спрашивала у всех, долго ли будет почивать моя маменька, и когда мне отвечали, что маменька уж не придет никогда, я долго не хотела верить и каждый день просила няню пустить меня к моей доброй, милой маме…
Да! это был страшный день в моей жизни, и вечно останется он памятен мне!
Говорит он, что любви нет, что мы, как дети, только обманываем ею себя, что жизнь наша пуста – вот мы для того, чтоб хоть чем-нибудь наполнить ее, и выдумали себе игрушку, и играем в любовь… И многое говорит он, и все в этом же тоне. Не знаю, отчего мне становится и грустно и холодно, когда я с ним; в словах его слышится какая-то неограниченная вера в самого себя, как будто он все уже разрешил, все определил себе и не осталось в душе его ни тени сомнения… После разговора с ним чувствуешь себя как-то необыкновенно спокойно… да спокойствие-то это как будто могильное… По его, не должно ни увлекаться, ни любить, ни даже чувствовать: все яркое, все, что выходит из обыкновенной, будничной жизни, для него не существует и исчезает в какой-то страшной пустоте, которую он называет… «гармоническим равновесием» * .
Как будто человек из того только и бьется, из того только и хлопочет, чтобы прийти к смерти!
Нет, надобно много страдать, много быть обмануту жизнью, чтобы дойти до такого грустного результата! Я как-то заметила ему это мимоходом, но он отвечал, что я напрасно так думаю, что обманут он никем не бывал, а жизнью доволен, потому что убежден, что все в мире существует вследствие известных причин и, следовательно, все хорошо и необходимо… Доволен жизнью, потому что убежден, что существующий порядок вещей необходим! Есть же люди, которые могут представлять подобные оправдания!
Что касается до меня, я бы лучше желала поболее юношеского избытка сил и поменее веры в свой рассудок. Еще когда он только что приехал к нам, сердце мое невольно сжалось; темное чувство страха овладело мною, когда я взглянула на это худощавое, никогда не смеющееся лицо, на этот бледный, высокий лоб, этот холодный взор, который, кажется, хочет проникнуть в самую душу… Помню, еще в детстве я как-то особенно была к нему привязана, и ребенком он никогда не хотел ничего делать, не обдумав, не разобрав наперед малейшего поступка своего; но теперь эта осторожность, эта обдуманность действий сделалась в нем какою-то особенною страстью, похожею на неизлечимую болезнь, и жалко смотреть на него, как взвешивает он каждый шаг свой, как сам неотступно стоит над собою, следит за малейшим своим движением… Бедный! он не понимает, что сам создает себе призраки * , которые мешают ему свободно дышать и наслаждаться жизнью! А еще смеется, называет глупыми идеалистами тех, которые выдумали себе какую-то небывалую свободу воли, небывалую силу самоотвержения!..
Сегодня после обеда сидела я у окна в гостиной и вышивала по канве; братья были в этой же комнате и проходили свои уроки; Нагибин подошел ко мне.
– Вы вышиваете? – спросил он.
– Кажется, да, – отвечала я, – а впрочем, не знаю: смотрите сами…
– Да; вопрос был несколько глуп с моей стороны, извините… что-нибудь для папеньки? к дню ангела? сюрприз?
– Ни то, ни другое, ни третье…
– Ну, так для маменьки?
– Вы знаете, что маменька моя умерла?
– Ах, да, я и забыл… ну, как же вы проводите время в деревне?.. наслаждаетесь природой, скучаете?..
Я не отвечала.
– Ну вот, вы и рассердились!.. Ну, скажите же, – верно, наслаждаетесь природой?..
– И, помилуйте, Андрей Павлыч, что вам за охота такой вздор говорить? ведь я знаю, что вы хотите посмеяться надо мной.
– Отчего же вздор? природа большое утешение для сердец нежных и любящих… Но вот, вы опять сердитесь! да что же я сказал такого?
– То, что вы сами не понимаете, что говорите… И что за радость над всем и всегда смеяться?
– Над всем и всегда! сохрани боже! что вы это, Татьяна Игнатьевна! Пожалуйста, не говорите этого при других, а то – чего доброго – как раз прозовут меня волтерьянцем и дебоширом…
– Пожалуйста, переменимте разговор, Андрей Павлыч.
– Над всем и всегда! – повторил он медленно. – Вы ошибаетесь, Татьяна Игнатьевна: «над весьма немногим и весьма редко», – это будет гораздо справедливее.
– Как редко? да не вы ли смеялись надо мною, что я до сих пор еще не могу забыть покойную маменьку?
– Смеялся?.. Ну, не совсем чтоб смеялся…
– Не совсем! то есть, вы говорили, что не понимаете этой странной привязанности к прошедшему, что она обнаруживает недостаток жизненности, отсутствие понимания действительности… А знаете ли что? ведь все это что-то очень похоже на присутствие глупости… не так ли? ведь вы это хотели сказать?
– Я весьма сожалею, что мои слова перетолковываются вами в такую сторону… Послушайте, Татьяна Игнатьевна, вы не поняли меня; я хотел только сказать, что воспитание ваше дало ложное развитие вашим силам, сделало вас наклонною к мечтательности.
– И, помилуйте, Андрей Павлыч, зачем же увертываться? Он отошел от меня и начал ходить по комнате; но минут через пять снова подошел к моим пяльцам.
– Вы на меня сердитесь? – спросил он.
– Да, сержусь, – отвечала я, – сержусь за то, что вы не можете отстать от дурной привычки взвешивать каждое свое движение.
– Послушайте, да что ж мне делать?
– Как что? отстать от этой привычки, принудить себя, предаться влечению своего сердца!.. мало ли что?..
– Отстать от привычки, принудить себя… ведь как вы легко говорите, Татьяна Игнатьевна! Удивительно, право: взял да и бросил…
– Попробуйте раз, пересильте себя: сначала будет трудно, а потом…
– И потом тоже трудно, или, лучше сказать, вовсе невозможно. Отстать от привычки! да ведь привычка-то эта всосалась в мою кровь, сделалась моею плотью!..
– Вы сознаётесь, однако ж, что это дурная привычка?.
Он несколько смутился этим вопросом, но я сделала вид, как будто бы ничего не замечаю.
– Коли хотите – да, – отвечал он через минуту, – в том отношении, что страсть присматриваться ко всему, над всем рассуждать, много открывает нам такого, что несколько мешает нашему спокойствию. А впрочем, что же и счастие, что и спокойствие, если оно не сознательно?
– Разумеется, разумеется, Андрей Павлыч; итак, можно жить и вместе с тем наблюдать за тем, как живешь? так, что ли?..
– Да разве я говорю вам, что живу? я именно только наблюдаю; что же мне делать, когда для меня только такая жизнь и возможна?..
– Отчего же так?
– Оттого, что иначе никак нельзя посмотреть ей прямо в глаза. А я хочу стоять твердою ногою на земле, не ласкаю себя пустыми мечтами и приучаюся действовать…
– Да зачем же действовать, коли все и без того хорошо?
– Конечно, все хорошо, все необходимо, но необходимо исторически… зачем же так привязываться к словам моим?..
– Так, так, Андрей Павлыч; ну, а если б вас… кто-нибудь ударил… ведь это было бы необходимо… по крайней мере, исторически?..
– Да; так что же?
– Ну, и вы… снесли бы?
– Послушайте, Татьяна Игнатьевна, это вовсе не пример.
– Почему же? он несколько затруднителен, потому что нужно отвечать прямо… ведь вы бы не снесли?
– Ну, нет; да что же из этого следует? это доказывает только, что я отдал бы долг предрассудку, что кровь во мне была взволнована… и более ничего.
– И более ничего?..
– Да; потому что если б я хладнокровно разобрал дело, то увидел бы, что обида нанесена мне не намеренно, а или вследствие недостатка умственного в обидчике, или вследствие заблуждения, или, наконец, вследствие каких-нибудь действий с моей стороны, противных его интересам…
– Умно, умно, Андрей Павлыч! вы чудесный адвокат… Однако ж, вы говорите, что все-таки не снесли бы обиды… Ну, что же? вы-то… правы ли?..
– Да; и я прав.
– Да как же это? и вы правы, и он прав… кто же виноват-то по-вашему?
– Кто виноват? В этом-то и загадка вся, вот этого-то и невозможно определить теперь, потому что средств еще нет… * Со временем это откроется, и виноватый отыщется, а теперь… грустно, тяжело мне признаться, Татьяна Игнатьевна, а в настоящую минуту я думаю так: и черное право, и белое право… * Оно, коли хотите, несколько странно, а верно… И как вы ни бейтесь, как ни думайте, а не выйдете из этого противоречия!
С этими словами он отошел от меня и пресерьезно начал заниматься уроками братьев, и целый вечер, как ни старалась я, никак не могла навести его на прерванный разговор наш.
От Нагибина к г. NNЧитая французские и всякие другие романы, я некогда удивлялся, что в основе их проведено всегда одно и то же чувство любви. Разбирая природу свою и восходя от себя к типу человека, я находил, что, кроме любви, в нем есть другие определения * , столь же ему свойственные, столь же немолчно требующие удовлетворения. И человек казался мне именно тем гармоническим целым, где ничто не выдавалось ярко вперед, где все определения стирались в одном общем равновесии. *
И я был, коли хотите, в известной степени прав, потому что брал человека, изолированного от всего, вне его сущего. Но я забывал, что человек сам по себе ничто, покуда личность его не выразится в известной средине * , которая тоже не масса мертвая, но деятельный и живой организм, стремящийся пребыть в своем эгоизме… Очевидно, что при первой встрече этих двух эгоизмов должно быть неминуемое столкновение, борьба их. Как же разрешить это вечное противоречие жизни, которое мешает человеку дышать, которое гнетет и давит его существование? Как удовлетворить жажде гармонии, на которой единственно успокоивается утомленное его сердце, потому что в гармонии счастие человека, а счастие – цель, к которой стремится весь его эгоизм. Средства к выходу есть, но они не даны нам; для человека один только факт не подлежит сомнению – это стремление примирить противоречия жизни, выйти из неестественного положения, в которое он ими поставлен, во что бы ни стало, даже с пожертвованием своего собственного эгоизма. И тут-то, в эти безотрадные минуты, когда невидимое, но злое горе сосет и гложет его сердце, когда, задавленный и чуть дышащий под тяжестью уродливого стечения обстоятельств, он не обороняется уже от ударов судьбы, а молит только о пощаде, – тут, в эти страшные мгновения, любовь является ему спасительным средством примирения и принимает то значение, которым она пользуется в обществе. В нормальном положении любовь есть не что иное, как взаимное соответствие двух организмов, данное в известный момент и в известной сфере общественных отношений, – симпатия, не предполагающая ни с какой стороны ни жертв, ни страданий; в настоящее же время, когда она служит единственным средством выхода из беспрестанных противоречий, весьма естественно, что круг ее делается не столь уже ограниченным, естественно, что она является отречением частого человеческого эгоизма в пользу эгоизма собирательного, отвлеченного, одним словом, в пользу общества; следовательно, любовь, как главный общественный движитель, оправдывается самым направлением общества, и, следовательно, романисты совершенно правы, насвистывая на эту тему свои более или менее старые варьяции.
Все это я к тому говорю, что со мною случилось довольно странное происшествие, которое я должен рассказать вам.
Не думайте, однако ж, чтоб я был влюблен: если б это было, я не стал бы утруждать вас своим рассказом, потому что это старая, избитая сказка, которую вы прочтете в любом французском романе. Обстоятельство, которое хочу я вам передать, представляет довольно интересный психологический факт; тут дело идет о том, живой ли я человек или мертвый, способен или не способен, что, по-моему, совершенно одно и то же. Судите сами.
Не далее как третьего дня вечером сидели мы за чаем. Крошин был не в духе: он поссорился с своим управляющим и целый вечер или молчал, или произносил такие слова, которые не обозначены даже в печатных русских лексиконах. Марья Ивановна долго крепилась и не говорила ни слова; наконец терпение ее лопнуло.
– Да помилуй, Игнатий Кузьмич, – сказала она, – что это ты, батюшка, только и знаешь, день-деньской слоняешься из угла в угол да ворчишь?
– Ворчу… ворчу, – бормотал Игнатий Кузьмич, – ну, хочу ворчать, за дело ворчу… ты что́ понимаешь?.. волос долог… знаешь… а туда же суется баба… я его вот как…
При этом Игнатий Кузьмич плюнул на ладонь левой руки, ударил по ней кулаком и показал на открытое окно.
– Да помилуйте, что ж он такого сделал?..
– Сделал, сделал… а за что я ему деньги-то плачу, за что я его, подлеца, хлебом-то кормлю? за что? Да какой же я после этого господин? разве я не властен у себя в доме? То-то, баба… волос долог, знаешь?.. а ведь тоже лезет: что ж он такого сделал?.. сделал!.. да вот ничего не сделал, а тунеядца и блудного в доме у себя не потерплю… Марья Ивановна не возражала.
– Ты знай свой чулок… ты баба, наседка, тебе вмешиваться в эти дела не след… Ты что́? баба, дрянь… волос долог… знаешь? а еще суется… Вот он, – продолжал Крошин, указывая на меня, – может быть судьею в таком деле: он мужчина; уж это пол такой, пользу отечеству приносит… а ты? То-то, вам позволь… волос долог… знаешь?
Игнатий Кузьмич в волнении ходил по комнате.
– Ну, скажи хоть ты, – обратился он ко мне, – ну, ты тоже мужчина… Ну, позволил ли бы ты своему холопу ослушиваться твоих приказаний?.. Ну, скажи!.. Ведь я его хлебом кормлю!.. ведь вот ты и вольный человек, а все-таки я тебя нанял, так ты и мой; говорю: учи арифметике – арифметике и учи, грамматике – так грамматике, а не какой-нибудь там математике… Покуда у меня – ты мой, за то я плачу, я деньги плачу, а не щепки тебе, и когда грамматике, так грамматика и должна быть… А то вот ты, баба, наседка, суешься… ты знай свой чулок… волос-то долог, эй, долог, да ум-то… знаешь?..
В таком духе и тоне была речь Крошина в продолжение всего вечера, – отрывистая, но многознаменательная и полная глубокой, ему свойственной философии.
Было довольно поздно, когда я пошел после чая в сад. Погода была чудесная; солнце давно уже село; какой-то мягкий полусвет разливался на окружающие предметы; тишина была невозмутимая: только изредка раздавался вдалеке крик болотного дергача, да немолчно жужжал и стрекотал в густой траве предвестник вёдра, ночной кузнечик. Я сел на дерновую скамейку и закурил сигару; не знаю, влияние ли тихого летнего вечера или какая другая причина, но никогда не бывало мне так хорошо, так спокойно, как в эту минуту: передо мной тянулся луг, а за ним синело озеро, все обрамленное густым сосновым лесом. Я еще с детства симпатизировал с нашею сельскою природою, хотя и нет ничего в ней такого, чем бы особенно можно было похвалиться. Это вечно серое, вечно дождливое небо, эти необозримые, бог весть куда тянущиеся болота, эти более желтые, нежели зеленые луга – скорее наполняют душу тоскою, нежели изумляют и радуют ее. Но я люблю ее, эту однообразную природу русской земли, я люблю ее не для нее самой, а для человека, которого воспитала она на лоне своем и которого она объясняет…
В полузабытьи лежал я, когда кто-то назвал меня по имени; я поднял голову: передо мною стояла Таня. На ней было ее белое кисейное платьице, и полусвет придавал ее лицу какое-то особенно экзальтированное выражение. Я встал.
– Нет, ничего: сидите, сидите, – сказала она, – я уйду… вы, кажется, об чем-то задумались, а я вам помешала… Сидите же, я сейчас уйду…
– Зачем же? я вовсе не был занят… Пожалуйста, садитесь…
Но, несмотря на то, что я хотел казаться равнодушным, мне было неловко с нею; этот предательский полусвет, эта невозмутимая тишина приводили в сильное волнение кровь мою.
– А мне бы нужно сказать вам несколько слов, Андрей Павлыч… можно?..
– Отчего же? – начал я, несколько запинаясь, – я с удовольствием… только не холодно ли вам, Татьяна Игнатьевна, не лучше ли пойти в комнаты?
– Ах, нет, не нужно; здесь так хорошо, а там… там душно, не то, что бывало прежде, помните?.. при покойной маменьке?..
– Послушайте, Татьяна Игнатьевна, зачем вспоминать об этом? зачем без нужды отравлять свою жизнь? не лучше ли принимать настоящее, как оно есть?..
– Да… да, конечно… а впрочем, я совсем о другом хотела с вами говорить… Да, право, не знаю, как начать… папенька такой вспыльчивый, он сам не всегда хорошо понимает, что слова его могут обидеть человека… а сердце у него, право, доброе… а? не правда ли? скажите, вы не сердитесь на него?
– И, полноте, Татьяна Игнатьевна! неужели вы можете думать, что я обижаюсь? Я уж настолько вырос, что могу смотреть на это равнодушными глазами.
– Да, я знала, что у вас доброе сердце, что вы простите его… Так вы не сердитесь? Прощайте же, Андрей Павлыч!.. Ах, да! я еще что-то хотела сказать вам, да и растеряла все… дайте вспомнить… да! помните ли вы, как мы оба еще были детьми, помните ли вы, как мы резвились, бегали?.. помните?..
Я решительно был смущен таким вопросом; не зная, что отвечать, поднял я с земли засохшую ветку и начал чертить ею по песку.
– Забыли?.. а?.. Дурно, Андрей Павлыч, грешно вам! А я так не забыла: вы меня называли тогда просто Таней… забыли?..
– Это было так давно… Послушайте, Татьяна Игнатьевна, переменимте разговор…
– Давно? да, давно, – сказала она едва внятно, – а я все-таки помню… Ах, посмотрите, какое чудное сегодня небо: синее, ни облачка… Я, кажется, мешаю вам, Андрей Павлыч… я уйду… прощайте, прощайте, Андреи Павлыч!
И между тем она все не уходила; по-прежнему сидела она подле меня, по-прежнему смотрела на меня своими большими черными глазами, и по-прежнему я молчал и чертил веткою по песку, не зная, как выйти из своего затруднительного положения.
– А знаете ли что? – сказала она после нескольких минут совершенного безмолвия, – знаете ли?.. Странно… а мне кажется… знаете ли, что мне кажется?.. Я вижу, вы не признаетесь, а я уверена, что это так… Вы поняли меня?.. скажите же хоть что-нибудь!..
Она положила ко мне на плечо свою руку и взглянула мне прямо в глаза.
– Ради бога, – сказал я, задыхаясь от внутреннего волнения, – умоляю вас, кончимте этот разговор… мне тяжело, мне невыносимо тяжело…
– Отчего же вам тяжело? У меня, напротив, так светло, так полно на душе… Знаете ли, Андрей Павлыч, вы испортили себя, вы сами делаете себе жизнь несносною, вы слишком недоверчивы… Ну, признайтесь, ведь вы… да, я вижу, я знаю, что вы любите меня…
Я был совсем уничтожен; дыхание занималось в груди, голова горела. Не помня себя, я взял ее руку и приложил к голове своей.
– Да, горит ваша голова, Андрей Павлыч, и у меня то же… троньте…
И она прижала мою руку сперва к голове, потом к губам и поцеловала ее; и странное дело – я находил весьма естественным это действие и не думал отнимать руку.
– А знаете ли что? – сказала она, – мне пришла в голову странная мысль: помните ли вы, как мы, бывало, бегали… еще при маменьке? а? как вы думаете?..
И, не дожидаясь ответа, которого, впрочем, тогда и быть не могло, она как серна побежала вдоль по аллее; в глазах у меня потемнело, я ничего не видел, видел только белое платьице, мелькавшее передо мною: его одного я хотел, к нему одному стремилась мысль моя, все существо мое. Долго бежал я за нею, то настигая ее, то вновь отставая, и все не давалось, все ускользало от меня белое платьице; наконец, измученный, упал я почти без чувств на траву.
– Ага! упал! упал! – кричала мне Таня из-за кустов, смеясь и махая платком, – маменька, маменька!.. Андрюша упал! да и куда ему: Андрюша – ленивец, Андрюша бегать не умеет… не правда ли, маменька?.. да вставай же, Андрюша!
С этими словами она подошла и взяла меня за руку.
Не помню хорошенько, какое чувство ощущал я тогда: было ли то страдание или радость – не знаю; знаю только, что в эту минуту я не мыслил, не рассуждал, и неизвестно мне, чем бы все это кончилось, если б провидение или судьба, в образе дюжего деревенского лакея, звавшего нас ужинать, не прервала этой сцены.
Во всю следовавшую за сим ночь я думал об этом происшествии; минутное увлечение простыло, и по-прежнему обняла меня всего будничная, кропотливая жизнь моя, со всеми вопросами, со всеми придирками; одним словом, из божества, которым я был в продолжение одного мгновения, снова сделался я обыкновенным человеком. Грустно мне признаться вам, а плодом моих размышлений было сознание, что любовь для меня невозможна, что я даже вовсе не люблю, а только обманываю себя. Любовь жаждет света и не терпит сомнения; она есть взаимно безотчетное и естественное влечение двух организмов, без всякой задней мысли, без всяких предварительных рассуждений. Любить и наслаждаться своею любовью может только человек, вполне обладающий высшим благом в жизни – беспечностью; где есть забота, где сомнение, там нет любви, там есть мгновенная, лихорадочная вспышка, которая иногда удачно пародирует любовь, но недолго, потому что всегда одностороння и является требованием не цельного организма, а одной какой-либо стороны его. Понимая так любовь, судите сами, способен ли к ней человек, которого жизнь есть непрестанная забота, которого каждый шаг есть уже борьба за кусок насущного хлеба. Если б я любил действительно, я бы не старался так определить себе это чувство, я бы вполне безотчетно предался ему, потому что хотеть анализировать, уяснить себе какое-либо чувство – значит привносить в него такой элемент, который наиболее ему противен, значит не иметь чувства.








