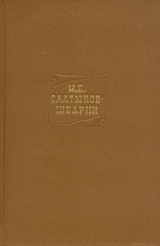
Текст книги "Том 1. Проза, рецензии, стихотворения 1840-1849"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 36 страниц)
– В таком случае, право, не знаю, что вам советовать. Последовало несколько минут молчания.
– Другому я принялся бы, может быть, объяснять, что из того, что его любит женщина, вовсе не следует, чтобы эта же женщина не могла любить и другого, что, во всяком случае, она ничем ему не обязана… Другой, может быть, и послушался бы меня, и принял бы вещь как она есть, а вы ведь и сами очень хорошо все это знаете, – что ж я могу вам сказать нового?
– Однако ж, предположим, что я послушаюсь вашего совета…
– Зная ваш характер, я думаю, что для вас было бы полезнее расстаться с ней навсегда… Но советовать, впрочем, ничего не могу, потому что наперед знаю, что вы все-таки не оставите ее…
Он задумался и долго не говорил ни слова; наконец встал и сказал мне твердым голосом:
– Решено! я перестаю об ней думать.
Однако ж минуты через две опять задумался и снова опустился в кресло. Я ждал, что от него будет.
– Нет, не могу, – сказал он наконец слабым голосом, – не могу, это выше сил моих…
Я посмотрел на него и покачал головою.
– Говорите что хотите: я сам чувствую, что я слаб, что я достоин презрения… но не могу иначе!
– И заметьте, Александр Андреич, – сказал я, – что не в одной любви вы так поступаете: во всей вашей жизни вы точно так же вечно колеблетесь и вечно, как будто бы умышленно, насмехаетесь над самим собою.
– Да что ж мне делать, коли я так несчастно устроен?
– Уж я не знаю, устроены ли вы от природы несчастно, обстоятельства ли вас сделали таким, или вы сами себя изуродовали, только я вижу, что вы до сих пор ничего не сделали, хотя за многое принимались.
Молчание.
– А я так думаю, – продолжал я, – что все ваше несчастие происходит оттого, что вы никогда не дадите себе труда обдумать ваше положение… Вы человек небогатый, а ведете себя, как будто бы у вас бог знает какие доходы… Есть же наконец предел этой праздности! ведь вы не ребенок, чтобы вас водить на помочах; пора вам понять свои обязанности к самому себе и перестать вечно полагаться на других.
Он вспыхнул.
– Что вы разумеете, – сказал он дрожащим голосом, – под словами «полагаться на других»?
– Вы напрасно сердитесь, – отвечал я, теряя всякое терпенье, – я говорю вам правду.
– Зачем же вы давно не сказали мне эту правду? я бы не заставил вас повторять ее…
И он вышел от меня, хлопнув дверью. Я думал, что он выедет, и уж начинал было раскаиваться в своих неосторожных словах, но, к великому удивлению, утром на другой день он пришел опять ко мне весь в слезах, начал просить меня забыть прошедшее, обвиняя во всем самого себя, обещал разорвать все сношения с Ольгой и приняться за дело.
Вы меня извините, господа, что я, может быть, утомляю вас всеми этими подробностями, но тут они только и важны. Происшествия этой любви так просты и так бедны сами по себе, что вы, я думаю, давно уж угадали, чем кончится вся эта история. Поэтому первое место в рассказе моем занимают не факты, а, так сказать, внутренний процесс фактов, и именно – каким образом человек довел себя до того, что сам над собою сознательно и даже как будто умышленно издевался.
Я вам говорил, что он решился расстаться с Ольгой и приняться за дело. Он обещал мне это так искренно и притом с такою твердой решимостью, что я не мог не поверить ему. И действительно, он достал себе работу в какой-то журнал, обложил себя книгами и занялся компилированием какой-то статьи.
Иногда он прочитывал мне свою работу. Вы по опыту, может быть, знаете, какая это скука быть официальным слушателем какого-нибудь сочинителя, но я, признаюсь вам, выслушивал его с участием, во-первых, потому, что мне интересно было следить за ним в этом новом направлении его деятельности, а во-вторых, действительно, все, за что бы он ни взялся, необходимо принимало какую-то особую жизненную печать, облекалось в необыкновенно ясные и образные формы.
Вообще он сделался и весел и деятелен, иногда только вспоминал об Ольге, но без горечи, да и то потому только, что натура того требовала.
– Ведь вот, право, – говорил он мне иногда шутя, – как ни запирайся внутри себя, а от себя, видно, никак уйти нельзя…
– А что? – спрашивал я.
– Да вот не знаю, как бы натуру-то свою…
– Ну, уж ты сам озаботься об этом… и я тоже не знаю…
Раз как-то возвращаюсь уж довольно поздно от должности, смотрю: Иван, наш фактотум * , отворяя мне дверь, делает многозначительный жест, указывая на комнату Александра.
Действительно, он был не один; против него сидела какая-то краснощекая и полная девица, которая при моем появлении отвернула голову и закрыла себе платком лицо. Это, изволите видеть, ей стыдно было чужого человека!
– А, очень рад! – сказал Александр, вставая, – рекомендую тебе; повелительница острова Стультиции!.. *
Я откланялся; но прекрасная царица никак не хотела отнять от лица своего платок, который закрывал его. *
– Достойная супруга великого царя Комуса * , – продолжал Брусин, становясь перед нею на колена, – удостойте вашего лицезрения бедного смертного, который жаждет с таким не терпением, чтоб на него упал хоть один животворный луч ваших божественных глаз!
Но супруга Комуса барахталась, беспрестанно испуская из-под платка легонькие «ги-ги-ги!».
– Ах, отстаньте! – говорила она, закрываясь все пуще и пуще в платок.
– Сделайте одолжение! – приставал Александр.
– Никак нельзя…
– Отчего же нельзя?..
– Да никак не можно.
– Да отчего же не можно?..
– Да мне стыдно, они чужие…
– Скажите пожалуйста, – они чужие!.. И он вырвал у нее платок.
– Ах, какие бесстыдники, ах, какие озорники! – возопила Королева, в свою очередь овладевая платком и снова закрывая им лицо свое.
– Это, изволите видеть, маленький образчик нашего милого кокетства, – сказал Брусин, обращаясь ко мне.
Мы сели обедать. Она долго и за обедом не соглашалась открыть свое лицо, но вдруг, когда мы перестали даже и думать об ней, услышали мы легонькое «ах!». Это, изволите видеть, она решилась показать нам свое личико и внезапно сама испугалась своей смелости.
– Ах! – сказал Брусин, передразнивая ее, – это вам так стыдно?
– Да, конечно, стыдно…
– Кого же вам так стыдно?
– Да вот их…
– Скажите пожалуйста… То есть, что может быть наивнее и прелестнее! – продолжал он, обращаясь ко мне.
– Чем же вы занимались? – спросил я.
– Ах, какие вы насмешники!
– Что ж тут смешного! – сказал Брусин.
– Известно что!
– Так вы смешным занимались? – сказал я, – хорошо!
– Да мы преприятно провели с нею время! – отвечал Брусин, – право! посидим-посидим да помолчим, а потом, помолчавши, займемся этак наглядною и осязательною анатомиею! Ты хочешь учиться анатомии?
– Благодарствую…
– Жаль, а преполезная наука, и как легко и понятно: разом весь курс пройти можно! Спроси ее!
– Вы всё смеетесь надо мной!
– Как это можно!
– Да вы такие озорники!..
– Вы где живете? – спросил я.
– У родителей…
– И часто вы этак прогуливаетесь?
– Как это можно! у меня родители такие строгие: цельный день меня всё бранят.
– Ну, и этак бывает? – спросил Брусин, сделав рукою значительное движение сверху вниз.
– На то они родители, – отвечала она, закрываясь платком. – Да вы всё надо мною смеетесь!
– Как это можно! Он расхохотался.
– Прелесть ты моя! – сказал он, – золото ты мое! ведь выкопал же я тебя себе на отраду!
– А знаешь, что мне вздумалось? – обратился он ко мне, когда мы встали из-за стола, – ты видишь Ольгу?
– Вижу, а что?
– Мне ужасно хочется подойти к окну и показать ей супругу Комуса.
– Зачем это?
– Да пусть хоть немножко побесится.
– Не знаю, как хочешь!
– Право, так!
И мы все трое подошли к окну.
– Здравствуйте, – сказал Александр.
– Здравствуйте, – отвечал знакомый голосок.
– Рекомендую, – продолжал он, указывая на повелительницу острова Стультиции.
– Очень рада; что это – Николай-Иванычева?
– Нет-с, моя…
– А! ваша! дяденька! дяденька! Прохор Макарыч!
Нам послышались приближающиеся тяжелые шаги, и вслед за тем в окне появилась тяжелая и неуклюжая фигура.
– Рекомендую, – сказала Ольга, указывая на фигуру.
Я наблюдал за лицом Александра; оно по-прежнему осталось весело и спокойно, но все-таки, хоть на мгновенье, хоть слегка, щеки его побледнели.
– Очень рад, – сказал он, в свою очередь. – Вы давно изволили возвратиться из вояжа?..
Но дяденька не отвечал, а только раскланивался.
– Да отвечайте же, дяденька, – сказала Оля. – Вы его извините; он у меня такой стыдливый, не привык с чужими.
Дяденька все еще кланялся; Ольга провела рукою по его лицу, дернула за усы и хлопнула пальчиками по лбу.
– Ну, ступай, спи, дяденька! – сказала она. Дяденька раскланялся и исчез.
– Каков у меня дяденька? – спросила Ольга.
– А какова у меня тетенька? – отвечал Александр.
– Я вам совсем не тетенька, – заметила супруга Комуса, – вот еще что выдумали!
Ольга улыбнулась, Александр тоже улыбнулся; но Александр не вытерпел и послал ей рукою поцелуй; она отвернулась.
– Не стоите вы! – сказала она. – Эй, Амишка! Амишка!
Амишка вскочила на окно и замахала хвостом.
– Где ты, негодница, была! – выговаривала ей Оля, – других, верно, лучше меня нашла, капризная собачонка! Отвечай, мерзкая!
Амишка залаяла.
– Оленька! – сказал умоляющим голосом Александр.
Я дернул его за полу сюртука.
– Что ж ты, в самом деле, – сказал я, – опять за свои глупости принимаешься! Отойдем от окна.
– Сейчас, сейчас…
– Так вот же, гадкая ты! злая ты! я не хочу любить тебя! – продолжала Ольга, по-прежнему выговаривая собачонке, – и если ты думаешь, что мне тебя жалко, так нет же: ошибаетесь, сударыня, очень ошибаетесь! не надо мне вас, у меня есть дяденька – вот что!
– Оленька! голубчик ты мой! – задыхающимся голосом говорил Брусин.
– Пошла прочь, мерзкая собачонка, пошла, пошла прочь! Прощайте, Александр Андреич, желаю вам покойной ночи!
Окно ее захлопнулось, Александр стоял на месте как ошибенный; насилу-то я мог кое-как оторвать его от окна.
Впрочем, вечер прошел без дальнейших приключений; чрез несколько времени Александр даже сделался весел по-прежнему и беспрестанно повторял:
– А! какова Ольга-то! уж у ней и дяденька явился! Что ж, и у меня тетенька есть, и, верно, получше ее дяденьки! Да здравствует высокомощная повелительница острова Стультиции!
Таким образом мы жили около месяца. Супруга Комуса по-прежнему посещала Александра, и всякий раз, когда она уходила, Брусин давал ей денег и говорил:
– Ты приходи этак через неделю; раньше, я думаю, мне не будет надобности.
Я одобрял такое поведение, потому что оно было и неубыточно, да и занятиям не мешало. Вообще я держусь такого правила, что молодому человеку, небогатому и занятому, в делах любви нужно как можно избегать всякой серьезной и продолжительной привязанности: не то как раз обленишься, обабишься и пропадешь ни за грош.
Итак, я был совершенно спокоен; тем более что у нас уж и двойные рамы вставили, и, следовательно, сообщение с Ольгою сделалось еще затруднительнее. Однако ж на всякий случай велел фактотуму Ивану присматривать, и если что окажется, то немедленно донести.
Раз как-то, возвращаясь от должности, я уже начал было всходить по лестнице, как вдруг мне послышался голос Ольги. Я остановился и стал прислушиваться; действительно, это была она, да еще и не одна, а с Брусиным. Оба они всходили по лестнице к нашей квартире.
– Только ты, пожалуйста, Оля, скажи ему, что ты сама ко мне пришла, – говорил Александр.
– А будешь капризничать?
Мне послышался звонкий поцелуй.
– А глупая Королева будет к тебе ходить?
– Не будет, Оленька, не будет, голубчик мой! Дернули за звонок.
– Никогда?
– Никогда, голубчик ты мой, никогда!
– Ну, то-то же!
– Так ты так ему и скажи, Оля, что сама пришла ко мне, а то он мне покою не даст.
– Уж я скажу, только ты… Смотри же, у меня не капризничать.
В это время дверь отворилась, и они вошли. Я не верил ушам своим; мне было, с одной стороны, и досадно такое нелепое ребячество, а с другой стороны, и смешно. Я подождал минут с пять на лестнице и позвонил.
Верный Иван сделал значительный знак рукою.
– Вот мы и помирились! – сказала Ольга, подавая мне руку.
– А мне что за дело! – отвечал я сухо и прошел к себе в комнату, не дотрогиваясь до ее руки.
– Как вам угодно!
После обеда она, однако ж, пришла ко мне; Александр заранее ушел со двора.
– За что ж ты на меня сердишься? – сказала она.
– Я сержусь? нимало! какое мне дело!
– Да то-то и есть, что мы не хотим, чтобы тебе не было до нас дела…
Она села ко мне на колена и обхватила рукою мою шею. Прошу покорно возражать что-нибудь в подобном плену!
– Ну, говори же, за что ты надул губы?
– А зачем вы обманываете меня?
– Как обманываем?
– А что вы говорили на лестнице! ведь я все слышал.
– А! ты слышал! так только-то! ну, целуй же меня!
Я повиновался.
– Вот сюда! – и она подставила шейку.
Я опять повиновался.
– Куда же девался Александр? – спросил я.
– Да он боится тебя! ушел гулять, покуда я буду тут тебя соблазнять! Ну, а я бесстрашная, я тебя не боюсь! Правда? я бесстрашная?
И она топнула ногой.
– Только смотри, бесстрашная, – сказал я, – чтобы не было между вами по-прежнему.
Пришел Александр, мы послали за бутылкой шампанского, и Иван с превеликим удивлением смотрел на меня, никак не будучи в состоянии понять, отчего и я пью вместе с ними, да едва ли еще и не больше их.
И снова началась у них, как в первое время их любви, возня и стукотня. Однако ж он занимался по-прежнему, и Ольга не целые дни проводила у нас. Я смотрел иногда к ней в окна и нередко видал в ее комнатах толстую фигуру стыдливого дядюшки, но Брусин, по-видимому, стал смотреть на это обстоятельство как на неизбежное зло.
Вдруг Ольга приходит к нам и объявляет, что у нее будет бал!! Целую неделю потом она прожужжала нам уши, рассказывая, какие будут у нее музыканты, какие девицы, что будет стоить вход… Иногда она задумывалась очень долго.
– Об чем ты думаешь, Оля? – спрашивал я ее.
– Да я все думаю, не лучше ли бал с ужином? А? Как вы думаете?
– Да, бал с ужином хорошо…
– Можно будет по целковому за вход прибавить…
– Стоит ли об таких пустяках говорить! – вступался обыкновенно Александр.
– Тебе все о пустяках! Что ж, по-твоему, не пустяки! Сейчас видно, что не любишь меня.
И она дула на него целый вечер губки.
Наконец он настал, этот давно ожиданный день бала. В ее маленькой зале об трех окнах собралась довольно большая куча всякого народу, и танцы уж начались, когда мы вошли с Александром. Девицы в белых, черных и разных цветных платьях, кавалеры в сюртуках и даже бархатных архалуках выделывали ногами и плечами такие удивительные штуки, каких нам и во сне не удавалось видеть. Мы стали в углу вместе с двумя-тремя другими молодыми людьми и смотрели. Танцевали, собственно, кадриль, но тут я не узнал ее; я не мог себе вообразить, чтоб этот созерцательный, целомудренный танец мог сделаться до такой степени буйным и двусмысленным. Все лица танцующих дышали каким-то особенным, безотчетным весельем; смотря на некоторых кавалеров, мне казалось, что все члены их как будто развинчены: до того живы и бойки были все их движенья; беспрестанно слышалось то притоптыванье каблука, то хлопанье руки об колено, то прищелкиванье пальцев… и при этом корпус гнулся, гнулся: ну, точно старая, истертая ветошка.
Через полчаса подошла к нам Ольга.
– Ну, что, вам скучно? – сказала она.
– Нет, мне очень любопытно, – отвечал я, – я никогда еще не бывал на таких вечерах.
– Да это что еще: это только начало; погоди, что потом будет!
– Это только начало? – спросил я, удивленный.
– Да, это всё немцы; они только танцуют; а вот погоди, приедет Надя с своими, да Катя с своими…
– Тогда что ж будет?..
– Тогда будет кутеж… дай мне затянуться…
Она взяла у меня папироску, затянулась, подняла руку вверх и сделала на одной ножке пируэтку, между тем как другая рука готова была сделать известное движение, столь милое всякому записному посетителю шикарных балов…
– Ты сегодня просто восхитительна до невероятности, Оля! – сказал я, невольно залюбовавшись ею.
– Право? да это еще ничего; погоди, вот когда Надя да Катя: вот тогда ты что скажешь!
– Да, право, я не знаю, что ж будет тогда?
– Ну, да уж увидишь; известно, будет кутеж…
И немного погодя прибавила:
– А теперь что! это всё немцы!
– Да разве немцы не кутят?
– Нет; они любят больше танцевать; то есть, вот видишь ли, и они тоже кутят, да все на чужой счет…
– Ну, а Надя и Катя? хорошенькие они?
– Уж, разумеется, хорошенькие, когда у них своя компания есть!
– Ты меня когда-нибудь познакомь с ними, Оля!
– Позвольте вас ангажировать на вальс, – сказал какой-то белокурый сын Эстляндии, достаточно снабженный угрями, приблизившись к Ольге.
– Нет-с, я с немцами не танцую…
– Однако ж вы танцевали кадриль с господином Зималь?
– Он не немец… он полурусский-с.
– Однако ж отчего ж вы не хотите танцевать с немцем’
– Оттого, что между немцами мастеровых много.
Белокурый господин сконфузился; если б Ольга была без «компании», то, конечно, она рисковала бы получить от него всякую горькую неприятность, но она знала натуру белокурых господ и потому, опираясь на «компанию», смело могла натягивать им носы.
– Так ты меня познакомишь с Катей и с Надей? – спросил я снова, когда белокурый господин удалился.
– Да; а ты не танцуешь?
– Нет.
– Жалко; вот кабы ты танцевал, так и сам бы познакомился; ведь у нас не по-вашему.
– А которая лучше: Надя или Катя?
– Надя будет понаряднее.
– Однако ж лучше этих? – спросил я, указывая на проходивших девиц.
– Эти что! это прихвостницы! я так только, из состраданья, позвала их на бал. Да куда ж девался Александр?
– Не знаю, он сейчас был со мною.
– Ну, поди же, ищи его; скажи, что мне теперь некогда, а что уж я его после зато поцелую.
– Зачем же после, лучше теперь!
– Да где его сыщешь?
– Да ты пошли с кем-нибудь.
– Уж не с тобой ли?.. смотри, какой лакомка! Ну, да хорошо, поди скажи ему, что я его вот так, крепко-крепко целую.
Она поцеловала меня и исчезла.
Александр сидел в соседней комнате и вертел от скуки в руках цепочку.
– Пойдем домой, – сказал он, когда я подошел.
– Это зачем?
– Да мне больно видеть.
– Что ж ты нашел тут для себя оскорбительного?
Он смешался.
– Видно, опять у тебя в голове пугалы? Что ж тебе больно видеть?
– Да она все танцует…
– Не сидеть же сложа руки, коли ты не умеешь танцевать.
– Да; да вон видишь… этот мальчишка пакостный… видишь, как он ее крепко обнял?
– Коли здесь обычай такой!
– Да мне это больно…
– Черт знает что такое!
В дверях показалась жирная фигура стыдливого дядюшки.
– А, Прохор Макарыч! кстати, подите-ка сюда! вот мой приятель скучает: развеселите-ка его!
Дядюшка приблизился.
– Кажется, имел честь, – проговорил он, конфузясь.
– Как же, как же… помните у окна? еще такая славная погода была? помните?
– Да-с, хорошая! но у меня в деревне…
И снова сконфузился. Меня всегда особенно удивляло, как такое огромное тело могло так легко конфузиться.
– Что ж у вас в деревне, Прохор Макарыч? – сказал я. – Да вы не конфузьтесь, Прохор Макарыч!
– Погода бывает лучше, – проговорил он.
– А! а у вас много деревень?
– Три-с…
– А много вы получаете доходу?
– Пятнадцать тысяч-с…
– Так этак вы, чай, и шампанское пьете?
– Как же-с; это мне все наплевать…
– Скажите, пожалуйста! да не подать ли уж теперь? Как вы думаете?
– Я с удовольствием-с; мне все это наплевать…
– А между тем вот и он развеселится, да и вы перестанете конфузиться. Так, что ли, Прохор Макарыч?
Подали вина; Прохор Макарыч скоро развеселился, сделался сообщителен и беспрестанно упрашивал Александра пить, по чести уверяя его, что ему наплевать и что мужички его сотни таких бутылок вынесут.
Между тем к нам присоединилось еще несколько молодых людей с заспанными лицами, которые тоже спросили пить. Оля шепнула мне на ухо, чтоб я остерегался, потому что это, дескать, сочинители, которые всё, что ни на есть смешного на свете, сейчас заметят, да после в книжке и опишут.
Я помню, что в простодушии своем я тогда весьма удивлялся, как могут люди с заспанными лицами что-нибудь подметить… Их было всего трое, и все, как кажется, связаны святыми узами убеждений и происшедшей оттого дружбы. Один, однако ж, по-видимому, считался между ними гением, потому что двое других подобострастно глядели ему в глаза и, при всяком остром его слове, считали за нужное тут же залиться самым приятным хохотом. И видно было, что уважение их к гению было нелицемерно и хохот истинен, потому что и на лицах их выражалось при этом совершенное светлое воскресение. Один даже, казалось, так издавна напрактиковался в этой роли поклонника, что никак не мог уж и обойтись без господина и даже побелел весь от рабства. *
– Я художник, – говорил гений сиплым голосом, когда выпито было уж значительное число бутылок, – отчего и ты, и ты, и вы все (он обратился ко всем нам, хотя мы и не имели чести быть с ним знакомыми) видите во мне главу? оттого, что я художник и как художник творю бессознательно… Попробуй ты творить бессознательно – выйдет дрянь, или, лучше сказать… ну, да уж просто дрянь выйдет… а я – художник, пророк, и творю бессознательно… вот что! *
Один из поклонников подлил вина в стакан гения. *
– Вот у меня бывают иногда сны, – продолжал гений, – удивительные сны! Сперва явится женщина с аллигаторской рожей – отвррратительно! потом аллигатор с женским лицом – меррррзость!.. Да ты подожди, это все чистилище, чрез которое, так сказать, проходит откровение… Третий раз уж * явится тебе не аллигатор, а женщина, братец, женщина такая, что магнетизм и электричество так и текут из очей ее светлыми струями, так и слышишь, как она шевелит в тебе то неопределенное чувство, которое подступает все выше и выше и, наконец, давит тебе горло… Так вот какая женщина, братец, ко мне является, а я просто сижу себе да записываю… *
За сим гений понес такую ерунду, что я почел за нужное поскорее удалиться.
Танцы продолжались по-прежнему, с тем только изменением, что народу было еще более, затем что прибыли Надя и Катя с своими. Александр стоял со мною в стороне и наблюдал за танцующими. Вдруг он побледнел и вздрогнул.
И действительно, смотря в ту сторону, где танцевала Ольга, я сам видел, как г. Зималь поцеловал ее в губы.
– Пойдем домой, – сказал мне Брусин.
– Подожди немного, вот пусть Ольга познакомит меня с Катей, – отвечал я, как будто вовсе не подозревая, в чем дело.
– Я не могу здесь быть…
– Ну, так ступай один; разве необходимо нужно, чтоб я шел вместе с тобою!
Я остался еще несколько времени, но после не вытерпел и пошел-таки за ним. Надо вам сказать, что я этого человека любил, как сына, ибо материнские чувства развиты во мне особенно сильно. И меня всегда за живое трогало, что он несчастлив, да еще и по своей воле… Иногда даже я обвинял в этом несчастье самого себя, потому что ведь как бы то ни было, а мне казалось, что я имею на него какое-нибудь влияние, и вдруг на поверку выходило, что влияния тут вовсе никакого нет…
Он сидел в своей комнате и плакал. Это меня еще больше сконфузило: я шел было к нему с наставлениями и при случае, пожалуй, даже с строгою речью, и вдруг человек плачет; сами посудите, до выговоров ли тут!
Он подошел ко мне.
– Послушай, – сказал он мне, – переедем из этого дома.
– Переедем, коли уж нечего делать, – отвечал я, – а жалко! и квартира такая удобная, да и зима же теперь…
– Я чувствую, что мне нельзя больше здесь оставаться.
– Да, переедем, переедем; разумеется, тут нечего рассуждать, коли необходимость велит…
На другой же день нанял я квартиру и стал собираться. Александра с утра уж не было дома. Вдруг, вижу, бежит к нам через двор Ольга. «Ну, опять слезы, опять объяснения!» – подумал я.
– Это вы выезжаете? – спросила она дрожащим голосом.
– Да.
– То есть, ты выезжаешь, а Александр остается по-прежнему здесь?
– Нет, и Александр со мною.
Она побледнела.
– А я-то как же? – спросила она, как будто еще не понимая, в чем дело.
Я молчал.
– Так это он меня и оставит? да отвечай же мне: бросить, что ли, он меня хочет?
Нo я все-таки не знал, что отвечать. Она постояла-постояла, пошла было к двери, но потом воротилась, упала на диван и горько заплакала.
Признаюсь, и во мне таки шевельнулось сердце.
Вдруг она вскочила с дивана и бросилась ко мне на шею.
– Голубчик ты мой, упроси его! скажи ему, чтоб он этого не делал со мною… что я всех брошу, хлеб с водой буду есть… а! поди же, ради бога… только чтоб он не бросал меня… хоть за прежнюю любовь мою!
– Послушай, Оля, что ж это такое будет? сколько раз вы уж мирились… ведь ты видишь, что он не может…
– Да нет; я сама во всем виновата… ну, пожалуйста, прошу тебя! скажи ему, что я совсем буду другая…
– Как же ты можешь ручаться за себя, Оля? ведь уж это не в первый раз.
Она посмотрела на меня пристально и побледнела.
– Так не хочешь для меня этого сделать?
Я не отвечал.
– Зверь ты! каменное в тебе сердце! Это ты его всему научил! смотри же, не будет тебе за это счастья ни в чем… встречусь я с тобой когда-нибудь… увидишь!
Черт знает что такое: ни телом, ни душою не виноват человек, а осыпают со всех сторон проклятиями!
Наконец мы переехали; Александр опять принялся за работу. Ольга несколько раз наведывалась было к нам, но я приказал Ивану не впускать ее. Однажды утром иду я на службу, смотрю: у ворот нашего дома стоит Ольга и злобно смотрит на меня. Я хотел было пройти мимо, как будто никогда и не знал ее, но она остановила меня.
– Что, любо тебе, небойсь, – сказала она мне, – любо, что успел нас поссорить?
– Ах, оставь меня в покое! никогда я не думал вас ссорить, сами вы грызлись между собою.
– Сами!.. вот как! а кто велел не пускать меня в
квартиру? Сами!.. Да вот же не удастся тебе! хоть целый день простою здесь, да увижу его! тогда посмотрим, чья возьмет!
– В таком случае, я пойду, попрошу его, чтоб он не выходил, – сказал я сухо, возвращаясь домой.
– Небойсь, не пойдешь! – говорила она мне с насмешкой вслед, – ты ведь знаешь, что если скажешь ему хоть слово об том, что я жду его здесь, так он мой!
Я рассудил, что она говорила правду, и пошел своей дорогой на службу.
Когда я воротился, Иван ждал меня в дверях.
– Ольга Николаевна тут, – сказал он.
– Сама пришла?
– Нет; с Александром Андреичем.
– И давно она тут?
– Да с самого утра.
Я велел ему собрать мои пожитки и в тот же день переехал в номер.
С тех пор я потерял Брусина из виду; слышал, что будто он опять поссорился с Ольгой, связался с какой-то актрисой, и ту будто бы бросил… Но на службу не вступил, и статьи, которую при мне начал, не кончил никогда.
Недавно, впрочем, какой-то знакомый говорил мне, что он встретил его в Москве, что будто бы Брусин живет там с родителями, которые водят его, по воскресеньям, к обедне к Николе-Явленному».
Николай Иваныч кончил и задумчиво покручивал себе усы.
– Так вот, господа, – сказал он спустя несколько секунд, – как некоторые люди беспрестанно кричат о жажде деятельности, жалуются на какие-то препоны – а на поверку выходит, что вся эта жажда деятельности ограничивается какою-нибудь любовишкой – да как еще обидно, нелепо ограничивается.
Мы молчали.
– А отчего эта неспособность? отчего это нравственное бессилие? Оттого, что мы не можем покончить с нашим прошедшим, оттого, что мы, видя всю гнусность так называемого спекулятивно-энциклопедического образования нашего, не имеем силы пересоздать себя. А потом жалуемся на других, на судьбу и бог знает еще на что!
Николай Иваныч вошел в азарт.
– Везде идолы, везде пугалы – и, главное, что обидно? обидно то, что мы сами знаем, что это идолы, глупые, деревянные идолы, и все-таки кланяемся им. Однажды, помнится, встретился я в обществе с одним форменным господином. Человек он оказался хороший, и мы превесело проболтали с ним целый вечер. Вдруг, уж под конец, когда нам нужно было расстаться, он говорит мне: «Такая, право, досада! через неделю или через две придется быть в одном месте, где, чего доброго, если головы не размозжат, так изуродуют всего». – «А вы не ездите в это место», – сказал я. «Как это можно! да это мой долг, – говорит, – что скажут про меня другие?» – «Странный вы человек! да что вам за дело, что скажут про вас другие!» – «Оно конечно, – отвечал он, – глупо век руководиться чужим мнением, особливо если доказал себе, что мнение это ложно, – да что же прикажете делать?» – «Однако ж, что́ вам дороже: жизнь ваша или общественное мнение, которое вы, заметьте, сами не хотите признать за непреложное». – «Да нет, все-таки как-то неловко!» – «Но вы рискуете потерять жизнь вашу!» – «Знаю, да что ж мне делать». – «Ну, в таком случае, от души желаю вам быть убитым!» И действительно, ведь убили его! А хороший был молодой человек!
– Нравоучение, Николай Иваныч! нравоучение! – закричала толпа.
– А нравоучение вот какое: во-первых, предметов для деятельности много, так много, что стоит только нагнуться, чтобы наполнить жизнь свою; если мы ничего не делаем, то никто другой, кроме нас, в этом не виноват, и жаловаться в этом случае совершенно бесполезно; во-вторых: весьма часто мы жалуемся на отсутствие счастья, а на поверку выходит, что не нас несчастье ищет, а мы сами себе его устроиваем. Вот хоть бы и Брусин: он, пожалуй, и счастлив был, и любил, и любим был – да испортил же сам все дело.
– Ну, нет, я никак не могу вывести этого нравоученья из вашего рассказа, – сказал молодой человек.
– Это как?
– Да все оттого, что мы разнимся с вами в главном: в воззрении на вещи. Вы всю вину сваливаете на личность человека, а я утверждаю, что человек тут вовсе не виноват, что виноватого тут надобно искать где-нибудь подальше, – где? достоверно сказать вам не могу, но, думаю, в воздухе… Вот хоть бы и в рассказе вашем: где причина этой упорной неспособности Брусина к какой бы то ни было положительной деятельности? где, как не в уродливом воспитании, которое ровно ничему не учит? Вы и сами соглашаетесь с этим, но прибавляете, что [человек] должен иметь силу пересоздать себя. Да ведь для этого надобно не только родиться героем, но и чтоб обстоятельства расположились так, чтобы сделать из вас героя. А что вы будете делать, когда воспитание, вместо того чтобы закалить вас и сделать из вас стоика, вложило в ваше сердце потребности и мягкость эпикурейца, да когда еще вы, к вашему горю, пришли к признанию законности этой мягкости и этих потребностей.
– Да ведь человек – животное разумное; он должен отличать условное от безусловного, должен понимать, где действительный его интерес и где ложный.
– Должен? вот грустное слово, которое, признаюсь, всегда сжимает мне сердце холодом… Для чего же все «должен»? Для чего не «хочу» или «желаю»? А между тем героев так мало, так мало, а грешных, слабых натур так много… Да притом же, слова «действительный интерес», сколько я понимаю, означают то, что приносит человеку пользу и удовольствие. Как скоро одного из этих условий недостает, действительный интерес нарушен. В идее долга я вижу одну пользу… Вы не любите идолов, Николай Иваныч, а между тем создаете себе самый ужасный, самый мертвящий из всех – идол долга * .








