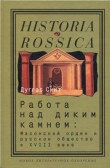Текст книги "Тайны русской империи"
Автор книги: Михаил Смолин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 32 страниц)
С 1850-х годов, ведя постоянную публицистическую борьбу со своими оппонентами, М.Н. Катков начал формулировать свое понимание консервативной «охранительной» политики. Истинным прогрессом, по его мнению, является «улучшение на основании существующего»; историческое развитие государственности – как концентрация власти; личное служение монарху. Польское восстание 1863—1864 годов – время становления всеимперской известности публицистических выступлений М.Н. Каткова против польского сепаратизма (собрание статей по польскому вопросу. Вып. 1—3. М., 1887) и нигилизма. М.Н. Катков принимает активное участие в реформах императора Александра II, особенно в области народного просвещения (внедрения классической системы образования, в качестве практического примера он основал в 1867 г. Императорский Лицей в память цесаревича Николая) {70} , становясь, по выражению современников, публицистом не столько газетным, «сколько государственным». В 1882 году император Александр III за многолетние литературные труды дает ему чин тайного советника.
Все сочувственно отзывавшиеся о деятельности М.Н. Каткова сходились во мнении, что наиболее последовательно в его публицистике выразились вопросы о государственной власти {71} .
Будучи принципиальным противником либерального парламентаризма и конституционализма, М.Н. Катков говорил, что «никто так не ошибается насчет России, как те, которые называют ее демократической страной. Напротив, нет народа, в котором демократические инстинкты были бы слабее, чем в народе русском», и что «в каких бы размерах, силе и форме ни замышляли представительство, оно всегда окажется искусственным и поддельным произведением и всегда будет более закрывать народ с его нуждами. Оно будет выражением не народа, а чуждых ему партий».
В год цареубийства императора Александра II он писал: «Правительству необходимо сближение с народом, но для этого требуется обратиться к нему непосредственно, а не через представительство какое бы то ни было, узнавать нужды страны прямо от тех, кто их испытывает… Устроить так, чтобы голос народных потребностей, не фиктивных, а действительных, достигал престола без всякой посторонней примеси – вот задача, достойная правительства самодержавного монарха, вот верный шаг на пути истинного прогресса».
Именно в области государства и верховной власти, его организующей, М.Н. Катков нашел принципиальное отличие, которое стоит между Западом и Россией.
«Противоположность между нами и Западом, – утверждал он, – в том состоит, что там все основано на договорных отношениях, а у нас на вере. Такое слияние царя с народом и взаимная их принадлежность друг к другу вели к тому выводу, что всякая царская служба была службой государственной и всякая государственная служба – царской, то же самое были и обязанности».
Он последовательно проводил принцип служения государю и государству для всех подданных империи, независимо от сословия. Всесословная обязательная служба для него была основополагающей для правильной и здоровой жизнедеятельности русской государственности.
«В понятиях и чувстве народа, – подчеркивал М.Н. Катков, – Верховная власть есть начало священное. Чем возвышеннее и священнее это начало в понятиях и чувстве народа, тем несообразнее, фальшивее и чудовищнее то воззрение, которое хочет видеть в разных административных властях как бы доли Верховной власти. Как бы ни было высоко поставлено административное лицо, каким бы полномочием оно ни пользовалось, оно не может претендовать ни на какое подобие принципу Верховной власти. Власть, в которую облечен администратор, бесконечно, toto genere, отлична от Верховной власти. Администратор не может считать себя самодержцем в малом виде… Служба государю не может также считаться исключительной принадлежностью бюрократической администрации… Все, от мала до велика, могут и должны видеть в себе в какой бы то ни было степени и мере слуг государевых. Что у нас называется общественной службой, то, в сущности, есть такая же служба государю, как и всякая другая, и в этом отношении различие между государственной и так называемой общественной службой не существенно. Мировой судья (охранитель общественного мира) так же служит государю, как и бюрократический деятель» {72} .
В этом ясно виделось возрождение принципа Московской Руси, где государи считали, что всякий гражданин несет на себе обязанность служения царю и Московскому государству, и проводили этот принцип как основополагающий.
Как писал по поводу этого катковского учениякрупный юрист Н.А. Захаров, «если на Западе государственный корабль направляется согласно словесным указаниям составивших себе общественную популярность лиц, то у нас он движется под влиянием этико-политической обязанности службы нераздельным царю-родине. Общая воля, направленная к одной цели, руководит правильностью исполнения» {73} .
М.Н. Катков не признавал бумажных конституций, дарованных или завоеванных вследствие политических противостояний различных интересов. Им утверждалась этическая значимость основных русских государственных принципов.
«Говорят, – писал как бы в завещание незадолго до своей смерти М.И. Катков, – что Россия лишена политической свободы, говорят, что хотя русским подданным и предоставляется законная гражданская свобода, но что они не имеют прав политических. Русские подданные имеют нечто более, чем политические права: они имеют политические обязанности. Каждый из русских подданных обязан стоять на страже прав Верховной власти и заботиться о пользах государства. Каждый не то что имеет только права принимать участие в государственной жизни и заботиться о се пользах, но призывается к тому долгом верноподданного. Вот наша конституция. Она вся, без параграфов, содержится в краткой формуле нашей государственной присяги на верность… Какое же правительство, не потерявшее смысла, может отнимать у людей право исполнять то, что велит ему долг присяги?» {74}
Будучи глубоко верующим православным человеком, М.Н. Катков не разделял мир веры и мир политики. Вообще, М.Н. Катков отличался от западников именно своей искренней религиозностью, а от славянофилов – практичностью действующего политика. Политические вопросы у него получали смысл и освещение в его религиозном исповедании, осознании необходимости свидетельствования православных смыслов в мире, в желании достичь возможно более полного воплощения христианского мировоззрения в политических устремлениях государственной политики.
«Всякая власть от Бога – учит наша Церковь. Но русскому Царю дано особое значение, отличающее его от других властителей мира. Он не только государь своей страны и вождь своего народа – он Богом поставленный блюститель и охранитель Православной Церкви, которая не знает над собой земного наместника Христова и отреклась от всякого действия, кроме духовного, предоставляя все заботы о своем земном благосостоянии и порядке освященному ей вождю великого православного народа. Русский Царь есть более чем наследник своих предков: он преемник Кесарей восточного Рима, устроителей Церкви и ее Соборов, установивших самый символ христианской веры. С падением Византии поднялась Москва и началось величие России. Вот где тайна той глубокой особенности, которой Россия отличается среди других народов мира».
А ведь писало это М.Н. Катковым еще во времена почти полного неприятия европейскими и западническими учеными мирового значения православной Византийской империи и, в частности, се значения в истории и мировоззрении русского мира.
Как последовательный монархист М.Н. Катков глубоко чувствовал великое значение единоличного правления в русской истории.
«Монархическое начало, – пишет он в одной из своих статей, – росло одновременно с русским народом. Оно собирало землю, оно собирало власть, которая в первобытном состоянии бывает разлита повсюду, где только есть разница между слабым и сильным, большим и меньшим. В отобрании власти у всякого над всяким, в истреблении многовластия состоял весь труд и вся борьба русской истории. Борьба эта, которая в разных видах и при разных условиях совершалась в истории всех великих народов, была у нас тяжкая, но успешная благодаря особенному характеру Православной Церкви, которая отреклась от земной власти и никогда не вступала в соперничество с государством. Тяжкий процесс совершился, все покорилось одному верховному началу, и в русском народе не должно было оставаться никакой власти, от монарха не зависящей. В его единовластии русский народ видит завет всей своей жизни, в нем полагает все свои чаяния» {75} .
Значимость М.Н. Каткова как публициста в разной степени положительно оценивалась практически всеми продолжателями русской традиции консервативного государствоведения. Его яркая имперская публицистика была значительным вкладом в изучение правовой самобытности русской государственности.
Дальнейшее развитие русского консерватизма настоятельно требовало творческого синтеза направлений славянофильского и карамзинско-катковского в какой-то более глубокой и универсальной системе. Одним из первых, кто сделал такую попытку, был К.Н. Леонтьев (1831-1891).
Эстетик, охранитель, реакционер. Леонтьев Константин Николаевич (в монашестве Климент).И все-таки в крайностях есть своя красота. Величавость и мощь личности Константина Леонтьева, сила его откровенного слова никогда не затеряются на фоне многочисленнейшей среды все более безвозвратно уходящих в историческое небытие его мелколиберальных современников навроде Михайловских, Пыпиных, Стасюлевичей и им подобных.
В чем же тайна этого процесса, устарения прогрессистов и современность охранителей? Видимо, разгадка здесь все же в том, что в многолетнем споре нового и старого такие мыслители, как Константин Леонтьев, думали о вечном, чем и останутся современными во все времена.
Тяжко заболев в 1871 году, он переживает религиозное обращение, исцеляясь чудесным образом по молитвам Пресвятой Богородицы от недуга, и даст обет принять монашество. В 1871—1872 годах живет на Афоне в русском Пантелеймоновском монастыре. К его эстетизму в это время прибавилась живая личная вера.
В 1874 году К.Н. Леонтьев возвращается в Россию. Размышления над сочинениями славянофилов и Н.Я. Данилевского и собственные впечатления от славяно-греческого мира вылились в исследование «Византизм и славянство» (1875). Следуя во многом за Н.Я. Данилевским, К.Н. Леонтьев применял к философии истории принципы биологических наук. Он утверждал, что всякий исторический организм (государство, общество) подвержен «естественным» законам рождения, созревания, расцвета («цветущей сложности»), старения и умирания («вторичного смесительного упрощения»). Одновременно он высказывается весьма нелестно о вере в само славянское племя: «нужна вера не в само это отрицательное племя, а в счастливое сочетание с ним всего того получужого, преимущественно восточного (а кой в чем и западного), которое заметнее в России, чем у других славян. Нужна вера в дальнейшее и новое развитие Византийского (Восточного) христианства (православия), в плодотворность туранской примеси в нашу русскую кровь; отчасти и в православное вливание властной и твердой немецкой крови и т.д. Чем больше в нас, славянах, будет физиологической примеси и чем больше в то же время религиозного единства между собою и бытового обособления от Запада, – тем лучше!»
Со второй половины 1870-х годов К.Н. Леонтьев активно выступает с публицистическими статьями и литературной критикой. Наиболее значительные работы опубликованы К.Н. Леонтьевым в книге «Восток, Россия и славянство» (Т. 1—2, М., 1885—1886). Его формулы пленяют своей законченной красотой и неординарной своеобразной эстетической логичностью. Например, «форма есть деспотизм внутренней идеи, не дающей материи разбегаться» {76} , «любовь без страха – гордость и европейский прогресс».
В те же годы он пишет статьи «Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения» (рукопись 1870—1880-х годов), «Наши новые христиане» (1882).
После же отставки (1887) он поселяется в Оптиной пустыни, где пишет свои знаменитые работы «Племенная политика как орудие всемирной революции» (1888), «Плоды национальных движений на православном Востоке» (1888—1889), а также литературно-критическую работу «Анализ, стиль и веяние. О романах графа Л.Н.Толстого» (1890).
23 августа 1891 года К.Н. Леонтьев принимает тайный постриг под именем Климента и затем, по благословению старца о. Амвросия Оптинского, переезжает в Сергиев Посад для поступления в Троицс-Сергиеву лавру, где вскорости и умирает 12 ноября 1891 года.
Прижизненная почти полная безвестность Константина Леонтьева в XX столетии сменяется широким признанием его как классика русской мысли. Тот же процесс безвестности при жизни и признание в конце XX столетия прошел и Лев Александрович Тихомиров (1852-1923).
Наследник много и многих. Лев Александрович Тихомиров. Льву Александровичу Тихомирову, да, впрочем, как и другим русским мыслителям конца XIX – начала XX века, попавшим в революционный кошмар, вмявший всю интеллектуальную почву под идеологический асфальт классового подхода и марксистских оценок, суждено было существовать долгие годы без комментаторов и исследователей их творчества. Они оставались неопознанными исторической наукой как объект исследования. Будучи сама изуродована революцией, имея в своем багаже в основном либеральные и социальные установки, наука на начало XX столетия просто не знала, что с ними делать, и во многом поэтому не имела самостоятельных сил (как и спокойной академической обстановки) для определения значения и места этих мыслителей в истории русской мысли.
Принимая активное участие в революционном народовольческом движении, Л.А. Тихомиров на знаменитом Липецком съезде 20 июля 1879 года поддержал решение съезда о цареубийстве. Являясь членом Исполнительного комитета, он занимался редактированием партийной газеты «Народная воля», играл первенствующую роль при составлении программы «Народной воли», курировал другие издания, а также редактировал большую часть прокламаций Исполнительного комитета. Осенью 1882 года, желая избежать ареста, он уезжает за границу – сначала в Швейцарию, а затем во Францию. Оказавшись в «передовой» республиканской Франции, насмотревшись на парламентские скандалы (вроде «панамского дела») и ознакомившись с деятельностью партийных политиканов, Л.А. Тихомиров начинает пересматривать свои политические взгляды. «Отныне, – пишет он в 1886 году, – нужно ждать всего лишь от России, русского народа, почти ничего не ожидая от революционеров… Сообразно с этим, я начал пересматривать и свою жизнь. Я должен ее устроить так, чтобы иметь возможность служить России так, как мне подсказывает мое чутье, независимо ни от каких партий» {77} .
Сравнивая разрываемую партийными распрями слабую Францию (постоянно «обижаемую» Германской империей) с сильной, внутренне единой и самостоятельной в своей внешней политике Российской империей, управляемой твердой рукой императора Александра III, Л.А. Тихомиров делает выводы не в пользу первой и не в пользу демократического принципа власти.
Параллельно с политическими переменами в самосознании Л.А. Тихомирова происходили и религиозные изменения. Тепло-хладное отношение к вере сменилось горячим желанием возродить в себе православного человека, что укрепляло в нем сознательное решение порвать с революцией. Однажды он открыл Св. Евангелие на строках: «И избавил его от всех скорбей его, и даровал мудрость ему и благоволение царя Египетского фараона». Снова и снова открывал Св. Евангелие Лев Александрович, и каждый раз перед ним возникали все те же евангельские строки. У Л.А. Тихомирова постепенно созревала мысль о том, что Бог указывает ему путь – обратиться к царю с просьбой о помиловании.
1888-й – переломный год. Недавний революционер пишет и издает брошюру «Почему я перестал быть революционером», которой разрывает отношения с миром революции и говорит о своем новом мировоззрении. Его целью становится возвращение на родину. Л.А. Тихомиров подает на высочайшее имя просьбу о помиловании и разрешении вернуться в Россию, что и было ему даровано высочайшим повелением.
Переход Л. А. Тихомирова на сторону русского самодержавия стал сильным идеологическим ударом для революционной партии. Этот акт воспринимался революционерами как совершенно невероятное событие, он казался столь же неправдоподобным, как если бы состоялся переход Александра III в ряды революционеров. Резонанс был велик, и не только в российской среде, но и в международных революционных кругах. Знаменитый Поль Лафарг писал Плеханову, что приезд на учредительный конгресс II Интернационала русских революционеров «будет ответом на предательство Тихомирова»… Это был чуть ли не единственный случай в истории революций, когда один из самых знаменитых руководителей, отказавшись от идеи революции, становится убежденным и последовательным сторонником монархии, в течение тридцати лет отстаивающим ее принципы.
С июля 1890 года Л.А. Тихомиров живет в Москве. Он – штатный сотрудник «Московских ведомостей». Публицистические выступления Л.А. Тихомирова этого времени носят характер критический: критикуются революция и демократический принцип власти. Тогда же он пишет своеобразную трилогию – «Начала и концы. Либералы и террористы» (1890), «Социальные миражи современности» (1896) и «Борьба века» (1896). Первой же работой, действительно давшей ему славу и известность в русском обществе, была статья «Носитель идеала», посвященная личности и деятельности императора Александра III (написана сразу после смерти государя, в 1894 году). Поэт Аполлон Майков говорил, что «никогда никто не выражал так точно, ясно и истинно идею русского царя», как автор статьи «Носитель идеала». А.Н. Майков писал Л.А. Тихомирову: «Надо бы, чтобы ее прочли все… надо бы се напечатать отдельной брошюрой, продавать по копейкам, приложить портрет покойного государя, надо бы, чтобы идея эта вошла в общее обозрение» {78} .
С книги «Единоличная власть как принцип государственного строения» (1897) начинается другой период творчества Л.А. Тихомирова – период построения положительного государственно-правового учения о монархическом принципе власти, получившем наиболее полное завершение в его же книге «Монархическая государственность» (1905).
Тихомиров Л.А., особенно чувствительный к области государственной, осознавал сильное отличие идеи власти и государства в России от восприятия ее же в Европе. Его протест против демократии – это протест против европеизма, разрушившего свой идеал королевской власти и навязывающий демократический принцип России, следствием которого стало уничтожение национального идеала верховной власти русских царей. Это – протест против финансовых и гражданских «панам», виденных Л.А. Тихомировым на Западе (в частности, в его время особенно явственно во Франции) во имя яркого идеала возрожденной самодержавной монархии в лице императора Александра III.
Многообразные писательские интересы Льва Александровича и глубокая вера в русскую мысль сделали его духовным наследником многих русских мыслителей.
В нем во всей глубине проявилась «универсальность» русского духа, проявилась возможность вбирать в себя, испытывать на себе влияния большого числа разнообразных идей и даже в целом тех или иных систем мыслителей. При этом, не теряя своей идейной самобытности, Л.А. Тихомиров применял все воспринятое извне к построению своего мыслимого здания.
Трудно найти русского мыслителя, который хотя бы отчасти не был бы еще и историком. Вся русская мысль историологична. Возможно, в этом сказывалось еще и влияние Карамзина, впервые столь сильно и широко возбудившего интерес к историческим обобщениям, да и вообще интерес к самим себе. Поколение славянофилов и таких людей, как профессора Погодин, Шевырев, Михаил Катков, безусловно, имели сильный толчок к своему умственному развитию в исторических трудах Карамзина.
Л. А. Тихомиров не был здесь исключением, а, пожалуй, наиболее ярким воплощением историчности русской мысли. Убежденный, что психологический тип русской нации уже не одно столетие неизменен, он не считал большой опасностью включение множества иных народов и государств в русское государственное тело в процессе перерастания России в имперскую державу. Новые этнические примеси, по его мнению, вероятнее всего, будут способствовать еще более яркому выражению собственно русского типа.
Перенося этнические параллели в область мысли, Л.А. Тихомиров никогда не боялся влияния чужих идей на себя как мыслителя. Его гибкий и сильный ум [25]25
Наиболее важным и уместным здесь может быть свидетельство знавшего его лично крупного эмигрантского историка Владислава Маевского (1893—1975), человека судьбы тихомировского масштаба – добровольца в Балканских войнах 1912—1913 годов, участника Первой мировой войны, эмигранта, секретаря сербского патриарха Варнавы, преподавателя православной Св. Владимирской духовной академии в США. «Лев Александрович, – вспоминал он, – от природы был богато одаренным талантливым человеком, а вместе и широко начитанным, просвещенным энциклопедистом. Он, с одинаковой эрудицией широко научно подготовленного человека, мог обсуждать любой вопрос, особенно в области истории, права и социальной, общественной и политической жизни. Он обладал необычайной пытливостью, колоссальной памятью и трудоспособностью. Ум его был – профессорский – глубокий, холодный, с бесстрастным анализом и скепсисом в отношении всего сущего, с бесконечным устремлением к правде и истине». (Маевский В.А.Революционер-монархист. Памяти Льва Тихомирова. Новый Сад, 1934. С. 16—17).
[Закрыть]способен был, воспринимая чужое, не перенимать его бессмысленно, некритично, а переосмысливать в нужном ему образе. Все, что было им воспринимаемо, проходило идейную переплавку и добавлялось в его систему мыслительной «специей», придававшей идеям Л.А. Тихомирова большую выразительность.
Универсальность писательства Л.А. Тихомирова создана всем ходом развития русской консервативной мысли XIX столетия; он вобрал в свой писательский багаж всю огромную работу, произведенную предыдущими поколениями. Он – тот мыслитель, который смог переместить наши государственные идеалы из области только лишь интуитивной и чувственной в область сознательного понимания и уяснения. Идея самобытности русского исторического самодержавия была им возведена на уровень научно-исследуемого факта человеческой истории. Монархия, после трудов Л.А. Тихомирова, не может восприниматься людьми непредвзятыми политической идеей, не имеющей философии своего принципа. Вопрос о се (монархии) изучении поднят широко и гласно, и всякий, шедший ему вослед (как профессор П.Е. Казанский, Н.А. Захаров, И.А. Ильин, И.Л. Солоневич или, скажем, такой эмигрантский писатель, как Н. Кусаков), не мог уже обойтись без пройденного мыслью Л.А. Тихомирова пути и не удивиться его прозрениям и уровню, на который было им поднято рассуждение о монархической государственности.
Процесс объединения разных консервативных русел русской мысли – традиций славянофильской и карамзинско-катковской, как я бы се назвал, – начался, пожалуй, еще с К.Н. Леонтьева, смогшего стать бойцом двух станов консерватизма; хотя как поздние славянофилы, вроде А.А. Киреева, так и сам М.Н. Катков – с другой стороны, не видели в K.Н. Леонтьеве последовательного приверженца их версии русского консерватизма. В нем причудливо совмещалось славянофильство в области культуры и карамзинско-катковское отношение к государству.
Следующим звеном, связывающим традицию русской консервативной мысли (после К.Н. Леонтьева), нужно признать Л.А. Тихомирова: и по личной высокой оценке леонтьевской деятельности, и по внутреннему содержанию сочинений самого Льва Александровича. Леонтьев писал (в письме от 7 августа 1891 года) из Оптиной пустыни Л.А. Тихомирову: «Приятно видеть, как другой человек и другим путем(было выделено самим К.Н. Леонтьевым) приходит почти к тому же, о чем мы сами давно думали». Это признание родственности убеждений и духа мысли. А выделенное самим К.Н. Леонтьевым в этом письме место и есть ключ к пониманию самобытности следующего этапа русской мысли, олицетворенного в Л.А. Тихомирове.
Будучи наиболее законным наследником К.Н. Леонтьева (и даже не в том смысле, что он развивал его идеи, а в том, что он продолжил саму нить размышлений над проблемами православной церкви, монархического государства и другим вопросам), Л.А. Тихомиров пришел в русскую консервативную мысль из лидеров крайнего революционизма. И это очень важно для понимания особенности его мышления.
Его мышление, вероятно, даже довлело над его натурой и характером, зачастую заставляя подчиняться выводам логики не менее, чем чувствам, изменяющим собственную жизнь. Его приход в мир традиции может быть сравним (хотя бы отчасти) лишь с путем Ф.М. Достоевского, – участника серьезной тайной революционной организации «петрашевцев», прошедшего через личный глубокий атеизм, ожидание расстрела и каторгу. Их буквальная одержимость, ощущение приближения революции удивительно схожи психологически. «Бесы» Ф.М. Достоевского могут быть гениальными иллюстрациями к политологическим рассуждениям о феномене революции в работах Л.А. Тихомирова конца 1880—1890-х годов XIX столетия.
Революционные течения первой половины XIX века и существовавшие некоторое время спустя еще могли выпускать из своих омутов таких людей, как Ф.М. Достоевский или Л.А. Тихомиров, хотя, конечно, случай Льва Александровича исключителен даже и для того времени: ведь он был одним из лидеров и крупнейшим идеологом народовольчества, в отличие от весьма незначительной роли Ф.М. Достоевского в движении «петрашевцев»…
Народовольчество вообще очень оригинальное, «самобытное» (если, конечно, можно употребить это слово в таком контексте) русское революционное движение, да и сам Л.А. Тихомиров весьма своеобразен для революционного деятеля.
Революционное народовольчество Л.А. Тихомирова нельзя воспринимать так же, как революционеров следующего поколения – эсеров или социал-демократов. Можно ли себе представить, например, Ленина, Бухарина или, скажем, Каляева не расстающимися всю свою революционную жизнь с образком святого (с Л.А. Тихомировым всегда был подаренный матерью образок Святителя Митрофана Воронежского) и захватывавшими в политическую эмиграцию Св. Евангелие? Трудно себе даже помыслить такое.
Скорее всего атеизм или даже богоборчество, всегда в большей или меньшей степени связанное с идеей революции, все же еще не было столь догматически усвоено и освящено в умах многих народовольцев, как это было более последовательно и идейно проведено в дальнейших революционных поколениях.
Этот индифферентный атеизм (без ожесточенного богоборчества) во многом еще не так сильно отражался на нравственных установках некоторых народовольцев, сохраняя многие христианские понятия, скажем, о честности. Так, Л.А. Тихомировым и другими народовольцами было отвергнуто предложение использовать английские деньги для делания революции в России. Во время же первой революции 1905 года кадеты уже легко брали деньги от финнов на свою разрушительную деятельность, а во время Первой мировой войны большевики Ленина получали деньги от военного противника (немцев) на свою революцию уже по идейным соображениям. Так что революция не стояла на месте в своем нравственном состоянии и «развивалась» в сторону все меньшей обремененности нравственными понятиями – что ранее даже в своей среде считала безнравственным, со временем переставало быть для нее таковым. Можно сказать, что сила революции возрастала ее безнравственностью.
Невозможно было представить во времена народовольчества Л.А. Тихомирова, скажем, написания революционерами письма турецкому султану, например, с поздравлением по поводу неудачного штурма русскими войсками Плевны во время Русско-турецкой войны 1877—1878 годов. Во время же Русско-японской 1904—1905 годов такие поздравления японскому Микадо уже имели место, не говоря уже о вопиющей безнравственности большевиков во время Первой мировой войны, желавших поражения своей Родине.
Революция во времена народовольчества была, если так можно сказать, более «честна» но отношению к своей Родине и не имела еще на своем знамени лозунга: «Чем хуже, тем лучше». Вероятно, поэтому из среды попавших в революцию могли восставать такие люди, как Л.А. Тихомиров или Ю.П. Говорухо-Отрок (1850—1897). Видимо, еще позволяло время.
Несмотря на то что революция еще не была способна сломить империю, Л.А. Тихомиров уже видел ее потенциальные сатанинские глубины. Всю свою дальнейшую жизнь после перехода в 1888 году на сторону исторической России он ощущал приближение революционного безумия, всеми своими силами ведя борьбу с этим направлением.
Он, как и многие, чуть не утонувшие в воде и заполучившие особенный страх перед этой стихией на всю жизнь, побывав в водовороте революции, в самой середине его, и чуть духовно не сломавшись под се давлением, всю оставшуюся жизнь чувствовал страшное дыхание этого асоциального чудовища. Причем это ощущение его не сковывало, не лишало сил к противодействию, а лишь мистически подстегивало к борьбе, к предостережению. Это было так реально в его жизни, что окружающие зачастую сомневались в его адекватном отношении к реальности революции.
Л.А. Тихомиров глубоко религиозно переживал надвигавшуюся революцию, – так же, как переживал бы приближение будущего побывавший в нем и знавший, что трагедии этого будущего не минуют его жизни. «Все эти страдания, – писал уже цитированный нами Вл. Маевский, – пережитого духовного и жизненного перелома оставили свой неизгладимый след и в душевном настроении и на внешнем облике Льва Александровича.
Никогда, например, не видели его веселым, смеющимся, беззаботным… Если среди веселой беседы приятелей и набегала на его сосредоточенное выражение лица едва заметная улыбка, то она тотчас же и слетала. Волосы упрямо торчали, брови хмуро сдвигались, со лба и лица не сходили борозды напряженных дум и тяжелых переживаний. Вся фигура Льва Александровича нервная, худая, с явными следами переутомления (Л.А. Тихомиров много лет /был/ выпускающим редактором «Московских ведомостей»), диетического недоедания и переутомления, – отражала на себе неиссякаемую заботу и тревогу души. Он производил впечатление человека ежечасно, ежеминутно боящегося и ожидающего какого-то безвестного и тайного удара» {79} .
Эта чувствительность его души вместе с пытливостью ума, реактивностью его сознания (всегда живо реагирующего на идейные вопросы) создала тот тип мыслителя-энциклопедиста, который одинаково успешно мог трудиться в различных сферах…
Если читать одни дневники Л.А. Тихомирова без его книг и статей, то может создаться очень неправильное впечатление о его характере – как о непоследовательном, все время ноющем о своих болячках, все время сомневающемся в своем предназначении, в своем труде, в своем уме человеке.
Но если знать, что все начало XX столетия он был периодически болен (ревматизм сочленений и другие) и болен вплоть до невозможности зачастую передвигаться и работать [26]26
«Я часто чувствую себя в положении Иова многострадального. Легче, когда понимаешь причины своей муки. Но я часто теряюсь и не могу себе объяснить за что именно, по какой причине. И что я могу сделать для избежания мучения? Это одна из самых тяжелых сторон тягости». (дневник Л.А. Тихомирова от 12 февраля 1900 года. ГАРФ, ф. 634, оп. 1, д. 7, л. 150). -«Совсем разрушаюсь, должно быть уж не долго протяну на свете. Сказать правду – не хочется умирать. А тут еще семья – без средств, без малейшего обеспечения. Тяжкие мысли…» (дневник от 22 августа 1903 года. ГАРФ, ф. 634, оп. 1, д. 12, л. 16). И таких страниц в дневнике много.
[Закрыть], если помнить о его публично напечатанном, в котором нет места разнообразным сомнениям, тяготеющим над сознанием многих тонких и глубоких людских натур, а все направлено на действие, на возрождение, на выяснение правды, то фигура Л.А. Тихомирова как мыслителя вырисовывается совершенно другой.
Многие его современники (как писал Вл. Маевский и младший Фудель) говорили об усердных молениях Л.А. Тихомирова, о религиозности, углублявшейся с годами его жизни. Вся его квартира была в церковных образах. Некоторые рассуждали о его ханжестве, не понимая духовной жизни этого человека, его серьезного религиозного настроения, так же как они не чувствовали его большого писательского подвига. Они шли параллельно – нарастание религиозного настроения и возрастание писательства [27]27
В связи с этим интересна одна цитата из его дневника: «Да, наша единственная сила в православии, и утрачивая его, мы становимся, видимо, презреннейшими из людей, ничтожнее всех ничтожностей Европы. Удивительно: каждый, кого видишь из православных: мужик, купец, священник или хоть наш брат, “образованный”, – несокрушимый перед всеми “Европами”. Но как только нет веры – непременно оказывается слепым, ничтожнейшим, всемирным холуем». (дневник Л.А. Тихомирова, май 1896 года. ГАРФ, ф. 634, оп. 1, д. 6, л. 34—35).
[Закрыть]. А если прибавить к этому его революционное прошлое (покаяние за него) и болезни (преодоление их – подвиг), приводившие зачастую его к мысли о скорой смерти, то его творчество можно назвать покаянным подвигом во славу русской государственности. Один из больших и убежденных грешников против этой государственности, государствоборцев, монархомахов в начале своего пути, – он становится одним из глубочайших теоретиков своего монархического государства. Это глубоко христианская эволюция сильной, умной и энергической личности, которая действует из идеальных побуждений и готова потерять веру в старые идеалы, сжечь все, чему поклонялась, и поклониться всему, что гнало и разрушало, когда увидит, что на этой новой стороне – правда. Таков переход духовный в личности – от Савла в Павла…