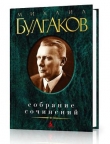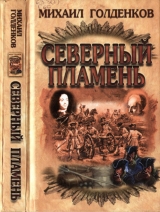
Текст книги "Северный пламень"
Автор книги: Михаил Голденков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц)
Глава 7
Хатняя и заграничная бойка
В октябре Кароль Станислав прибыл в Вильну. Несмотря на то, что после освобождения города от московитских захватчиков прошло уже сорок лет, следы суровых годин и пожаров все еще не исчезли из старой столицы Великого Княжества Литовского, Русского и Жмайтского. И пусть вновь озарилась прежним жизненным огнем и шармом Вильня, кое где на окраинах города еще стояли заброшенные или полуразрушенные дома, заросшие кустарником и чертополохом… Портило лицо старой Вильны и то, что после пожаров и разрухи последней оккупации каждый, кто выжил как мог строился по своему собственному соображению, без всякой инженерной мысли. Некоторые улицы представляли из себя ряды грязных, курных изб, нагроможденных как попало, без всякого правильного планирования. Однако Большая улица, Замковая и Бискупская имели достаточно живописный благоустроенный вид. Но из городских предместий лишь Антоколь, вследствие красивого местоположения, выглядел так же опрятно, как и до войны. Остальные же оставляли чувство недоделанной работы.
Реконструкция разбитого пушками Виленского замка Радзивиллов тоже была далека от завершения, но там уже жили. Здесь и встретился Кароль Станислав с Александром Сапегой, чтобы обсудить вновь возникшие противоречия с Огинскими и Вишневецкими. Несвижский князь принял Сапегу вполне сообразно литвинской гостеприимности, накрыв стол, ломящийся от крулевского красного вина, литвинских наливок, закусок и выпечек. На стол поставили зажаренного поросенка… Однако Сапега ни к чему не притронулся. Сидел хмуро, накручивая указательным пальцем длинный ус, бросая хмурые взгляды исподлобья… «Ну и наглые же эти князья! – в сердцах думал Кароль. – Ведь это они отобрали у меня маентки моей любимой кузены Людвики после ее трагичной смерти! Чем же еще они недовольны, холера их побери!..» На все расспросы Кароля, на все его предложения по миру с Огинскими «добрый Алесь» Сапега лишь хмурил брови.
– Я прошу пробачення, – заговорил наконец-то пан Сапега, – но видеть вас, пан Кароль Станислав, в роли миротворца не желаю. Вы, кто примкнул к этому авантюристу Фридриху Августу, для меня нынче не авторитет. Поезжайте лучше к Огинским! Они уж наверняка вас послушают, ибо еще чуть-чуть – и в зад Фридриха целовать начнут. Вот это вам явно будет по душе!
Кароль встал. Большей наглости и дерзости он даже и придумать не мог! «Вот тебе и раз!» – оскорбился Кароль… Во время первого серьезного конфликта, под Брестом, проблема была именно в Огинских, которые далеко не сразу шли на мировую. Сейчас же все было наоборот – Сапеги даже слушать не желали литовского канцлера…
– Прошу, пан, – указал на выход Радзивилл. Сапега встал, коротко кивнул и вышел.
А вот Огинские приняли Радзивилла как раз очень даже радушно, ни слова не сказав ему про его «освободительный поход». Вскоре начавшийся сейм лишь обострил противоречия. Кароль, видя, что конфликта не избежать, требовал созвать посполитое рушение, но шляхта не поддержала Несвижского князя… Хатняя война назревала. Силы собирал Сапега, силы собирали Огинские и Вишневецкие. Кароль решил не участвовать в кампании против знаменитого рода Сапег, но помог Огинским, выделив для борьбы с враждебными магнатами три хоругви панцирных кавалеристов, хоругвь гусар, татарскую и две слуцких хоругви, а также целый полк пехоты. Во главе войска встали Вишневецкие, точнее, двадцатилетний малоопытный горячий Михал Серваций Вишневецкий. Эта генеральная конфедерация шляхты объявила себя Речью Посполитой Литовской, упраздняла Люблинскую унию, что крайне воодушевило Кароля…
Не знали ослепленные злобой литвины, что не свободу Литве творили, а сколачивали эшафот для нее, своими же собственными руками! Эх, забыли за жаждой мести, как вместе бились под Грюнвальдом и Оршей, как освобождали страну в тяжелые годы войны с царем Алексеем Михайловичем, как вместе ходили на турок!.. Все забыли!.. Из сундуков и шкафов доставалась дедовская и отцовская зброя: короткие корды, булатные сабли-карабелы, трофейные выгнутые, как серпы, ятаганы турецкие, литвинские приднепровские дзиды, иклы, короткие мечи с широким лезвием, длинные граненые панцеропробойники, снимались со стен мушкеты и расчехлялись новые фузеи, пистолеты…
В общей сложности под Вильно у противников Сапег собралось двенадцать тысяч человек – армия! Ими командовал молодой, еще безусый Львовский князь Михал Серваций Вишневецкий. И всего три с половиной тысячи ратников привели Сапеги под командованием тридцатилетнего конюшего великого литовского, генерала артиллерии Михала Франциска Сапеги. Под Олькениками, к югу от Вильны, оба войска сошлись.
То был черный день, черный день для всей Литвы, для всей литвинской шляхты, даже не осознающей этого: тысячи шляхтичей шли на тысячи шляхтичей, на тех, с кем еще вчера встречались и мило расшаркивались на балах, общих свадьбах да поминках, с кем целовались и пили горелку на Каляды, Деды и Пасху. Из-за капризов нескольких ясновельможных человек брат шел на брата…
18-го ноября 1700 года по небу плыли хмурые рваные снизу облака, словно дым пожарищ, предвещая недобрые события. Дул холодный ноябрьский ветер, голые деревья словно с

Михал Серваций Вишневецкий
мольбой возносили в серое пространство черные руки-ветки, моля небеса о пощаде. Но пощады не было. Не небо, а преисподняя правила в тот день бал на грешной земле многострадальной страны…
Отчаянную попытку примирить обе стороны предпринял епископ Вильны Константин Казимир Бростовский, который, будучи противником узурпации власти Сапегами, тем не менее, считал, что война – это намного хуже, чем неограниченная власть знаменитого полоцкого рода. Бростовский в сопровождении епископа Яна Миколая Згерского встретился с Михалом Франциском Сапегой в таверне, в соседних Лейпунах.
– Панове, нет хуже греха, чем брату идти на брата. Покайтесь и примиритесь, – говорил епископ, но Михал Сапега не шел на мировую. Он отверг все условия мира, предложенные Бростовским.
– Вот что я вам, святой отец, скажу, – говорил Сапега на все предложения епископа, – тут уже ничем не повлиять на этих упрямцев Огинских и их сябров Вишневецких. Конфликт может быть урегулирован только саблями…
В войске Михала Вишневецкого, куда шляхта съезжалась разодетой в парчу, новые блестящие доспехи и в мундиры с золотыми галунами, словно на парад, собрались люди из Менска, Мстиславля, Пинска и даже Полоцка – пан Пац. Приехали Огинские, представители Жмайтии. Также приехали и нанятые молдавские вершники. Из Вильны, Великомира, Ковно и Мозыря пришла шляхта и татары поддержать Сапег.
«Дуэлянты» расположили свои пехотные полки, вооруженные мушкетами, в центре своих войск, тогда как большая часть конной шляхты сконцентрировалась на флангах либо в резерве. Михал Вишневецкий поставил свое войско между Олькениками и Лейпунами, в то время как Григорий Огинский должен был повести свои войска через лес, в окружной маневр. Сапеги, выставив по центру опытную пехоту, слева и справа расположили татарские войска.
Начались боевые действия под веской Липнишки, перестрелкой на реке Ошмянка. Хорошо обученные мушкетеры Сапег частыми и точными залпами и метким пушечным огнем разорвали нерегулярную разодетую в пух и прах конницу и пехоту шляхты Вишневецкого, заставив тех спешно ретироваться.
Желваки заиграли на молодом бледном лице Михала Сервация.
– Неужто и сейчас нас побьют, когда силу втрое больше собрали?! – гневно обратился к своим шляхтичам рыжеволосый командир, в сердцах бросая шлем об землю.
– Готовиться к атаке, Панове! Сейчас мы им покажем, что значит русский шляхтич на коне и с карабелой в руке! Григорий! Веди своих в обход!
– Покажем зарвавшимся Сапегам где раки зимуют! – кричали в ответ шляхтичи.
– Наперад! Атакуй! – выхватил саблю Михал Вишневецкий.
– Наперад! – прокричал своей кавалерии Григорий Антоний Огинский, славный потомок Рюриковичей. В обход лесом рысью устремлялась его тяжелая конница с длинными хоругвиями с развевающимся на них Георгием Победоносцем на гербе «Брама»…
Были славные геройские дни, когда неслись гусары и пятигорцы, громыхая латами, с пиками наперевес, громя и сметая с пути чужеземцев, очищая от захватчиков Речь Посполитую либо защищая христианскую Вену от нашествия магометян-турок… Сейчас эти овеянные славой старших братьев, отцов и дедов панцирные товарищи шли друг на друга, покрывая свою собственную землю своей же собственной кровью, покрывая себя и всю эту «хатнюю бойку» позором, позором несмываемым, ибо сосед шел на соседа, а брат шел на брата…
– Огня! – кричал своим мушкетерам Казимир Сапега, а вперед навстречу неприятелю устремлялись в шлемах и кирасах Михал, Бенедикт и Юрий. Славные потомки полоцких князей громко кричали:
– Руби!
Громыхали залпы фузей, падали из седел гусары, летели через головы коней сраженные седоки, со свистом разрубали воздух сабли, длинные копья впивались в лошадиные крупы, крошили латы граненые панциропробойники, летели со свистом татарские стрелы, с шипеньем падали на землю гранаты… Вновь, как и сорок пять лет назад, под Вильно грохотали взрывы и выстрелы, клубился серый пороховой дым, кричали люди, испуганно ржали кони, звенела сталь… Только нынче не о защите Вильны шла речь: свои били своих…
Сапеги не уступали, дружно и метко отстреливались из мушкетов… Отбросив атаку Вишневецкого и Огинских, они сами шли в кавалерийскую атаку силой татарской конницы, рубились, бросались под пули и на закованных в железо гусар, сквозь рой драгунских пуль вновь шли вперед, очертя головы клинками… В это время корпус Григория Огинского обогнул-таки лесом меньшее вчетверо войско Сапег с фланга и обрушился с тыла. Ожесточенно рубились литвины и татары под хоругвиями с гербом «Лиса». Но меньше было у Сапег людей, а тут еще схватили Юрия Сапегу, порубали его гусар и рейтар, смяли и покосили пулями и длинными копьями татар, обратив оставшихся в бегство… К вечеру кровавый бой был закончен. Более четырех тысяч человек с обеих сторон пало в братоубийственной рубке. С трудом прорвав кольцо окружения, бежал разбитый Ян Казимир Сапега с небольшим отрядом. Многие из его войска пали, многие были захвачены в плен, включая Михала Франциска. Пленных бросили под замок в соседний монастырь…
Торжествовали победители, хотя впору плакать да рыдать было. Горелка да крамбамбуля лились рекой в Олькениках всю ночь, а по местечку шаталась ватагами пьяная шляхта.
Гой-гой, сядзем у кола ды вясела,
Выпiвайма, разлшўляйма,
Пра ўсе забудзем,
Хай нам добра будзе…
– слышалась то тут то там пьяная песнь…
«Хай нам добра будзе»… На заре озверелые и вдрызг пьяные победители ворвались в монастырь, где томились пленные.
– Сапеги моего брата, когда нас разбили, пленили, и в прошлом году казнили! – кричал виленский каноник Крыштоп Бяллозор. – Давай, Панове, казним и Михала Франциска тоже! Кровь за кровь!
– Смерть Сапеге! – орали пьяные шляхтичи…
«Пра усе забудзем?..» Шляхтичи вытащили Михала и Юрия Сапег и еще нескольких шляхтичей из монастыря во двор и без всякой пощады порубали саблями на куски, которые йотом три дня валялись в уличной грязи…
Местный католический священник, собрав группку крестьян, хоронил мертвые тела соотечественников, плакал, осеняя крестом бессмысленно сгинувших шляхтичей, молясь:
– Вечны адпачынак дай iм, Пане, а святло вечнае няхай iм свецiць. Няхай адпачываюць у супакоi вечным. Амэн…
Не видел этого кошмара Микола Кмитич, не видел Кароль Станислав, отправивший своих ратников на убой Сапег, не видел и Павел Потоцкий. Потоцкий с товарищем князем Козловским, отрядом рейтар и драгун еще в начале октября поехал совсем на другую войну – под Нарву в московитский лагерь, посланный в помощь к Петру по рекомендации Кароля Радзивилла и по личному распоряжению Фридриха Августа…
* * *
Пана Потоцкого было нынче не узнать: его шляхетский наряд заменил строгий офицерский камзол красного сукна

Панцирные гусары
со штабс-капитанским шарфом через плечо, на голове появилась маленькая треуголка с белым галуном и рыжий пышный парик. От пшеничных усов пана Павла не осталось и следа, изменились даже походка и манеры – вылитый англичанин. Так три друга, Кмитич, Кароль и Потоцкий, оказались ныне по разные стороны траншей, словно враги…
В армии Петра, сконцентрированной вокруг Нарвы, Потоцкий и князь Козловский встретили множество немецких офицеров и столь же пестрое воинство московского войска, костяк которого составляли все же русские новгородцы и псковитяне, а также финские валдайцы и карелы, смоленские литвины и совсем не знающие русского языка эрзяне и высоченные широкоплечие мордвины… Командование над всей этой ордой после долгих уговоров Петра принял-таки фельдмаршал Карл Евгений фон Круи. Увесистый кошелек с золотым и серебряным звоном монет сделал венгерско-французского герцога более сговорчивым.
Крепость Нарвы, фактически представлявшая собой сдвоенную крепость вместе с соседним Ивангородом, выглядела хуже, чем ожидали Потоцкий и Козловский изначально, ознакамливаясь с планом реконструкции 1686 года, планом, составленным выдающимся шведским инженером Эриком Дальбергом. Оно верно, лет пять-шесть назад укрепления Нарвы начали перестраивать согласно последним достижениям фортификации. Реконструкция бастионов проводилась строго по проекту… Просматривая план Дальберга, Потоцкий лишь завистливо качал головой.
– Нелегко будет штурмовать город, – говорил он Козловскому. Тот соглашался…
Но по прибытию к самой Нарве оказалось, что план Дальберга не был выполнен шведами до конца: поскольку денег в их казне хронически не хватало, то работы так и не закончили. Поэтому армии Петра I предстояло осаждать недостроенные бастионы. Тем не менее, что и немало удивило Потоцкого, осада шла вяло и безуспешно при большом дезертирстве и прочих потерях, как от боевых действий, так и от болезней.
Однажды ноябрьским дождливым серым и хмурым утром в офицерскую избицу, выкопанную в мерзлой земле траншеи и обнесенную еловыми бревнами, где над столом с планом города Нарвы склонили свои длинные парики герцог фон Круи, генерал Галларт, саксонский посланник Ланген и командир Преображенского полка Блюмберг, вошел Павел Потоцкий.
– Вызывали? – спросил он у фон Круи. Герцог поднял на русского князя опухшие глаза и кивнул:
– Так, вызывали, господин штабс-капитан. Вы же у нас русский, может, вы лучше поговорите с русскими солдатами?
– А что случилось? – недоуменно оглядел присутствующих Потоцкий. Ланген отвернулся, Блюмберг прятал глаза.
– К нам тут заходила целая делегация солдат-новгородцев, валдайцев и псковичей. Требуют, чтобы мы перешли на сторону Швеции. Тыкали в нос шведскими листовками. Им стало известно, что к Нарве быстро движется армия Карла о тридцати тысячах человек. Воевать, мерзавцы, не хотят. Хотя… где-то я их даже понимаю.
– Мушкеты нам в лоб наставили, мол, высылайте вперед парламентеров, чтобы сдаться и не воевать с Карлом, – произнес Галларт, – вот какие у нас солдаты, господин Потоцкий!
Потоцкий растерянно огляделся, не понимая, шутка ли это.
– И такие настроения у всех солдат? – спросил он.
– Нет, – Блюмберг замахал завитушками своего темного парика, надевая на голову треуголку, как бы давая понять, что уже уходит, – в нашем полку все примерно. В Семеновском тоже. Но в остальной армии… Солдаты бегут. Уже двадцать тысяч удрало, и продолжают бежать. А те, что остались, не хотят воевать. Они не видят смысла и пользы в этой войне.
– И что же вы им пообещали?
– Мы под нажимом обещали начать переговоры с Карлом о полной капитуляции, – опустил голову герцог фон Круи. Кажется, ему говорить об этом было крайне стыдно. – Но теперь мы хотим вас делегировать, чтобы узнать, что думают солдаты делать и как много все еще желает сдаться. Ведь это же скандал! Что мы скажем герру Питеру?
– Хорошенькую же вы миссию мне приготовили! – невесело усмехнулся Потоцкий, думая, что зря не послушал Кмитича. – Ну хорошо, я попытаюсь поговорить с новгородцами…
В светло-серых коротких зипунах и таких же серых картузах с опущенными ушами новгородцы сидели у костра, о чем-то бурно беседуя. Но при появлении парика и треуголки Потоцкого все тут же смолкли. На князя уставилось полтора десятка пар настороженных глаз.
– День добры, Панове! – поздоровался штабс-капитан. Он стоял напротив них в своем красном камзоле с наброшенной на плечи черной шубой, сжимая трость в руке, словно школяр перед столом учителя.
– День добрый, пан капитан, – как-то не добро смотрели солдаты на офицера, – с какими вестями? Переговорщиков к шведам уже выслали?

Обстрел Нарвы
– М-м-м, – Потоцкий смутился, он понял, что если сейчас скажет, что еще нет, не высланы, и начнет просто убеждать солдат воевать дальше, то незамедлительно получит прикладом по голове, благо фузеи этих пехотинцев аккуратно были составлены в пирамидку неподалеку от костра. К тому же от соседней траншеи подошло еще человек десять в красных камзолах и красных епанчах на плечах, в желтых шапках, отороченных также красным – Псковский полк. Новгородцы и псковитяне внимательно и настороженно сверлили взглядами несчастного штабс-капитана.
– Все делается. Парламентеров вскоре вышлем. Об… обговариваем условия сдачи, – пролепетал Потоцкий, не без опаски глядя, как его обступают солдаты в треухах с красной подкладкой. Простые грубые голубоглазые лица людей, лица недовольные, настороженные, злые… И это были не те лица, что согласно указу Петра должны иметь солдаты перед начальством – «со взглядом придурковатым и лихим, дабы не смущать командира умным своим видом».
«Только бы уйти отсюда! Боже! И нет никого из офицеров!» – лихорадочно думал Потоцкий, озираясь.
– А что там обсуждать? – выкрикнул какой-то солдат. – Вы, господин штабс-капитан, им как человек русский, нормальный объясните, что тут никто со шведами воевать не хочет. У нас торг с ними бойко шел, а что теперь?
– Верно!
Солдаты заговорили громко, одновременно, некоторые почти кричали, грозя кулаками в серый ноябрьский воздух…
– Это с царем мы воевать пойдем! Москва наш кровный враг. Дважды Новгород громила! – кричали одни.
– А с кем воевать? Со своими? Там, у шведов, наших уже половина от всей их армии чухонской! – вторили другие…
– Спадары солдаты! – выставил вперед ладони Потоцкий, бледнея. – Я вас убеждаю, что все будет добро! Никто ни с кем воевать не хочет! Я сейчас лично встречусь с герцогом фон Круи и скажу, чтобы предложение о капитуляции выслали шведскому королю немедля без всяких условий!
– Это верно! – враз просияли лица пехотинцев…
– Что делать? – спрашивал Потоцкий у герцога уже через двадцать минут.
– Тянуть время, – отвечал мрачный, как ноябрьская туча, фон Круи, – дурить их, тянуть время, ибо мы здесь исполняем свой профессиональный солдатский долг. Мы не имеем права сдаваться без разрешения царя Петра. Нас наняли, и мы должны служить как положено! Ничего не сообщать Шереметеву или царю. Ничего!
И уже по-немецки, стиснув зубы, герцог добавил:
– Es mochte der Teuffel mit solchen Soldaten fechten (Пусть сам черт воюет с такими солдатами – нем.)!..
Глава 8
Битва под Нарвой
Карл XII, по заключении мира с Данией, высадил свою армию в Пернау, торопясь к Риге. Но вестовые принесли в шведский лагерь две новости, одну хорошую, вторую плохую. Хорошая новость состояла в том, что Фридрих Август снялся с войсками и отступил от рижских мур. Как оказалось, об этом упросили польского короля английские и голландские торговцы, неожиданно для себя оказавшиеся в ловушке. Конечно, за снятие блокады Фридриху передали некую сумму денег, которую король Речи Посполитой предпочел не озвучивать… Вторая новость, плохая – царь Петр официально объявил войну спустя двое суток после подписания мира с Данией. И многочисленная армия Московии уже окружает Нарву…
– Ну, этот, в отличие от своего друга Фридриха, хотя бы мне войну объявил! – усмехаясь, сказал в ответ на новость Карл… Теперь планы шведского короля резко менялись: он уже спешил к Нарве через Ревель. В Везенберге отдан был строгий приказ: не брать с собою ничего лишнего кроме самого необходимого для продовольствия. Обозы были оставлены. Кмитич во главе второго батальона Вестманландского полка отправился на одном коне, без своей повозки, из оружия прихватив лишь шпагу и два пистолета.
Войско маршем тронулось 12-го ноября и быстро достигло Малгольма, где принялось поджидать отставшие полки.
Микола Кмитич уже участвовал в военных походах – в одном, в походе армии Речи Посполитой к австрийской столице, видел и другие армии, но боевой дух войска Карла его просто восхитил. Если под Веной польские и литвинские шляхтичи в броне панцирных гусар выказывали решимость и храбрость как рыцари, стоящие на страже христианского мира, то здесь не меньшую решимость и храбрость выказывали вовсе не дворяне, не рыцарство, а простые люди – горожане, ремесленники, крестьяне, вчерашние охотники и оленеводы, среди которых были не только шведы, но и финны, карелы, немцы, эстонцы, латыши и даже русские. Самодисциплине и преданности королю этих людей можно было лишь позавидовать. Если в армии Литвы и Польши Кмитич не поставил бы и ломаного гроша насчет того, какую реакцию ждать от той или иной шляхетской хоругви на тот или иной приказ своего короля, то здесь на солдат «синей гвардии» королю можно было положиться полностью. Эти солдаты видели своего короля, видели, как бесстрашно он бросался под датские пули, и теперь так же бесстрашно шли за ним хоть на край света. Тем не менее Микола спрашивал сам себя насчет того, что же лично он сам делает в этой армии… В отличие от отца, он всегда ощущал себя сугубо гражданским человеком. Лишь только чтобы поддержать отцовскую славу лихого воина-освободителя, он, будучи юношей, встал под знамена Яна Собесского в его победоносном походе против турок на Вену. Но даже тогда понимал: война не его стихия. Миколе больше по сердцу была торговля, дипломатия, мирное сосуществование с соседями и дальними странами, а не войны с ними. Его сердце заполняла прекрасная Аврора, а не блестящие на солнце латами панцирные гусары под красно-белыми прапорами…
Микола Кмитич понимал: он в шведской армии только потому, что не смог сказать «нет» Карлу на его напористую просьбу. Ну а Карл, похоже, чувствовал себя на войне как рыба в воде, гарцуя перед солдатами на коне, коротко, но емко распоряжаясь, словно за его спиной была уже далеко не одна военная кампания. «Александр Великий… Македонский», – думал про молодого шведского короля Микола, удивляясь не по возрасту бурной активности этого юноши в темно-голубом мундире…
Однажды Микола отважился и подъехал на коне к Карлу, чтобы все-таки спросить про Аврору. Рядом с королем ехал в повозке священник и стоя, держась одной рукой, громко говорил на латинском Карлу:
– Мы – это новые израильтяне, мой король! Царь Петр называет ныне Московию Руссией. Так, если прочесть наоборот древнее название главного противника народа Божьего Ассирии – Ассур, то получается Русса, то есть русская страна Московия! Мы – избавители!
Карл усмехнулся, взглянув на подъехавшего Кмитича, как бы спрашивая его мнение.
– Мы Русью не называем Московию, – ответил Микола, – земли Речи Посполитой: Волынь, Украина, Галиция, Подолье – вот прежде всего Русь, Ваше величество. Тут нельзя так огульно судить, святой отец, – повернулся он к священнику, также общаясь с ним на латыни, – Московию Русью только вы да они сами называют.
Карл засмеялся. Дружески взглянул на Кмитича:
– Тут эти святоши целые теории развивают! Но я и так знаю, что Бог на моей стороне и хранит меня в моем правом деле. И не важно, новые мы израильтяне или нет!
– В Чехии интересная книга есть, называется «Кодекс Гигас», – отвечал королю Микола, – в местечке Кутна-Гора она хранится. Огромная книга высотой человеку по пояс. Ей лет пятьсот, наверное. Там изображен огромный портрет сатаны, а страницы вокруг этого изображения вырваны, но кое-что осталось. Осталась строчка, где написано, что придет тиран, которого поддержат темные силы зла, чтобы захватить весь мир, а спасет мир некий северный народ. Так может, это как раз про вас, Ваше королевское величество?
– А вот это намного интересней! – оживился Карл. – Надо будет как-то навестить Чехию и посмотреть эту удивительную книгу. Вы меня заинтриговали, пан Кмитич. Не то что мои священники-выдумщики!
– Ваше величество, вам не знакома такая особа как Аврора Кенигсмарк? – резко сменил тему разговора Микола, полагая, что, может быть, шведский король прольет свет на таинственное исчезновение Марии Авроры. Наверняка она сейчас жена какого-нибудь знатного шведского или немецкого вельможи… Карл не то удивленно, не то возмущенно взглянул на Миколу, сдвинув брови:
– Фамилия знакомая. Но… не о том думаете, господин Кмитич. Не о том! – и немногословный король пришпорил коня…
Кмитич, вздохнув, посмотрел ему вслед. «Ладно. Если уж и участвовать в этой войне, то на стороне Карла, – утешал себя оршанский князь, – в конце концов, это он пострадавшая сторона, это на него предательски напали. Это он самый приличный во всей этой ситуации король, и протестантская мораль на его стороне…»
Отставшие колонны наконец подтянулись, и на следующие сутки армия вновь двинулась в боевом порядке через Пурц и Гакгоф, стороною, полностью опустошенной московским войском. И вовсе не тридцать тысяч шло с Карлом, как полагали в русском лагере под Нарвой, а всего лишь 8430 человек. Причем сами шведы составляли мизерную часть этого сравнительно маленького войска – лишь отборные части гренадер и драбантов. В основном шведами были лишь офицеры, причем в составе высших офицеров было немало немцев, а среди офицеров младшего ранга – летгалл. Похоже, латыши были по ранжиру третьим после шведов и немцев народом в многонациональном Шведском королевстве…
Среди рядовых солдат основная масса являлась финнами, карелами, латышами и даже русскими. В том, что русские представляют существенную часть населения Шведского королевства, Кмитич убедился еще три года назад на похоронах Карла XI в Стокгольме, когда траурную речь вместе со шведским и немецким языками распечатали также и на русском, но латинскими буквами… В батальоне же Кмитича все были либо финнами, либо карелами, и лишь десять русских подданных Шведского королевства. И если финны понимали все основные приказы по-шведски и по-немецки, то карелы – едва ли, но, что удивило Миколу: солдаты из Карелии куда как лучше реагировали на русский язык. «Наверное, соседство с новгородцами сказывается», – думал оршанский князь. Впрочем, были здесь и литвины. Правда, не у самого Миколы, а в первом батальоне Жигимонта Врангеля.
Однажды на привале Микола Кмитич к собственному удивлению услышал веселую литвинскую песню, исполняемую сразу несколькими голосами:
Хлопец здуру ажанiўся,
Ой-ей-ей,
На век жонкай naдaвiўся,
Ой, божа ж мой!
Микола пошел на песню и вышел к биваку, где у костра сидели пять солдат в синих шведских камзолах, шапках-ушанках с желтой оторочкой и весело распевали, сжимая в руках жестяные кружки крепкого кофе, с мисками каши на коленях.
– Литвины? – улыбнулся им Кмитич, снимая в знак приветствия треуголку.
Все пятеро по-солдатски встали, держа кружки и миски в руках.
– Вечер добрый, пан!
– Я из Орши, – представился Микола, – меня зовут Миколай Кмитич.
– Так мы вас ведаем! – заулыбался самый веселый из них, курносый и рыжий солдат. – Ну а мы лявоны! – засмеялся он.
– Из Лифляндии, стало быть, – улыбнулся им Микола, – и много вас тут?
– Пятера!
– Пан, а переведите нас в свой батальон! – обратился к Миколе самый молодой из них, черноглазый парень лет восемнадцати.
– У пана Жигимонта не желаете служить? – удивился Кмитич.
– Он строгий уж больно, да нас гоняет, будто мы здесь самые умные да прыткие! – отвечал рыжий мужичок.
Кмитич засмеялся.
– Так может, так оно и есть! Ну, ладно, я с ним поговорю, – пообещал оршанский князь и кивнул на миски с кашей. – Смачнего вам! Что едите-то?
Рыжий, кажется, он был в определенно хорошем настроении, вновь засмеялся.
– Каша со шведами, пан Кмитич, – ответил он.
– Каша со шведами? – приподнял брови Микола.
– Да не! – также рассмеялся другой солдат. – Вы чего не подумайте, пан Кмитич! Мы людей не едим. Это мы так кашу со шкварками называем. У шведов переняли!
– Хм, разве у нас такой нет? – спросил удивленно Микола, впрочем, плохо знакомый с простой мужицкой кухней.
– Оно, вроде, дело простое, кашу со шкварками смешать! – вновь засмеялся рыжий лявон. – Да вот шведы как-то первыми догадались. Может, и у нас где такое есть, не знаем…
В тот же вечер Микола подошел к Врангелю. Жигимонт Врангель был типичным боевым офицером, высоким, широкоплечим, неулыбчивым вечно хмурым паном. Он был чуть младше Миколы, но смотрелся значительно солидней: мужественное скуластое лицо, прямой с горбинкой нос, повелительный взгляд и всегда, даже на войне, неизменный длинный бурый парик и треуголка с щегольскими галунами. Ему Микола даже завидовал – на войне этот человек чувствовал себя в своей тарелке. Кмитичу по-прежнему хотелось сесть на коня да поехать в любимую Оршу…
– Не, пан Миколай, лявонов я вам, любы мой, не отдам, – отрицательно покачал кучерявым париком Врангель, – они у меня огонь! На них весь батальон держится.
– А я вам за пятерых лявонов десять других русских дам. Тоже хлопцы хоть куда!
– Десятерых? Ну, ладно, – подумав, согласился в конце концов Врангель. И в тот же вечер обмен состоялся. Нельзя сказать, что новгородские русины приняли известие с большим энтузиазмом, но повиновались…
В Гакгофе Карл узнал, что впереди теснины финской речушки Пигайоки заняты большим войском графа Шереметева, опустошавшим округу: путь пролегал между двух отвесных утесов по топкому болоту, где через ручей наброшены были два деревянных моста. За ручьем и притаились драгуны Шереметева, до шести тысяч сабель, прикрытые кустарником. Имелись и пушки. Московский граф мог обстрелять болото и, по всей вероятности, легко остановил бы шведов, если бы распоряжался искуснее: вместо того, чтобы разрушить мосты, Шереметев послал за ручей на противоположную сторону, версты за три, восемьсот человек для фуражировки и окончательного опустошения окрестностей с приказом жечь все на своем пути – уж такую тактику выбрал сам Петр, скопировав ее, видимо, с предыдущих стратегий ненавистных им самим царей Московии.
Либо Петр не понимал, либо не хотел понимать, что тактика выжженной земли – это вырытая для себя же яма в темноте; это сотни, а то и тысячи местных крестьян, которые уже твои враги, убьют твоих же солдат как мародеров и бандитов… Не понимал царь… Как не понимал и его отец Алексей Михайлович, выжигая огнем всю Литву, как не понимал Иван IV Ужасный…