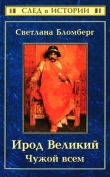Текст книги "Звезда Ирода Великого"
Автор книги: Михаил Иманов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 25 страниц)
Через несколько дней, оставив в Годаре небольшой гарнизон, он со всем своим войском выступил из города. Оно теперь значительно увеличилось и составляло около пяти тысяч воинов – по его призыву из Идумеи и Самарии к нему стекались искатели приключений, бывшие преступники, разорившиеся крестьяне, привлеченные именем самого Ирода и теми наградами, которые он щедро жаловал своим солдатам. Ирод не брал всех подряд, но выбирал самых лучших, причем объявлял каждому, кто вступал в его войско, что за малый проступок его ждет жестокое наказание, а за больший – смерть; отважным же и дисциплинированным он твердо обещал славу и богатство.
Разделив войско на несколько отрядов и поставив над каждым опытных и толковых командиров, он начал планомерную и жестокую войну против разбойников, разорявших окрестности Сирии. Он торопился, до него уже доходили слухи о недовольстве его действиями первосвященника Гиркана и членов Синедриона. Антипатр прислал к сыну гонца, прося его приехать для разговора в Иерусалим (послание Антипатра было на удивление мягким – просьба, а не приказ). Ирод передал гонцу, что приедет в Иерусалим к наместнику Иудеи, как только покончит с самыми неотложными делами. Главным же неотложным делом был полный разгром разбойничьих отрядов.
И в этом Ирод преуспел. Он оказался энергичным, хитрым, жестоким начальником. Для быстроты передвижения все свое войско он посадил на коней. Коней он забирал во всех встречавшихся на его пути селениях: щедро платил, если селение было сирийским, и отнимал, если оно было иудейским. Лишившись своих вождей – Пифолая и Иезеккии, разбойники были уже не так смелы и упорны, к тому же не могли противостоять маневренному и сильному войску Ирода. Иудейские же крестьяне, напуганные жестокостью иродовых солдат (при малейшем подозрении в помощи или сношениях с разбойниками солдаты сжигали дома, а то и целые селения, не щадя никого, не принимая во внимание ни пол, ни возраст), уже не оказывали разбойникам прежней помощи, а последние ощущали острую нехватку фуража и продуктов. В течение месяца с небольшим основные силы разбойников были уничтожены, мелкие же отряды уже не помышляли о разбое, но лишь о сохранении собственной свободы и жизни.
Слава о деяниях Ирода быстро распространилась по всей Иудее, Самарии и Сирии. И если в Иудее в каждом селении, в каждом городе, на каждой базарной площади, в каждом доме проклинали Ирода как врага всего иудейского народа, желая страшной смерти ему самому и всем его близким, то в Самарии, а особенно в Сирии (больше всего страдавшей от разбойников) его славили как избавителя и великого воина. Там люди встречали его приветственными криками, цветами и подарками.
Оставив свое войско завершать уже почти законченное дело, с небольшим конвоем и несколькими повозками, груженными частью добычи, Ирод направился в Антиохию, где тогда находился прокуратор Сирии, Секст Цезарь. Как один из самых главных даров Ирод вез прокуратору набальзамированную голову Пифолая.
Секст Цезарь встретил Ирода с неожиданным радушием и почетом. Вышел на площадку у лестницы дворца и, когда Ирод, взбежав по ступеням, низко склонился перед прокуратором, шагнул к нему и дружески обнял. Он провел Ирода в парадный зал дворца, усадил напротив себя, сказал, что хорошо помнит их первую встречу в присутствии Гая Цезаря, что молодой человек еще тогда понравился ему и он рад, что не ошибся. Когда Секст Цезарь попросил Ирода рассказать о его подвигах, о которых говорят во всей Сирии, Ирод скромно ответил, что никаких особенных подвигов не совершал, но старался честно служить Риму, что положено каждому подданному. Ответ Ирода понравился прокуратору, он ласково ему улыбнулся, сказав, что Рим никогда ничего не забывает: ни предательства, ни преданности.
Улыбка Секста Цезаря стала еще шире, когда слуги внесли в зал подарки, доставленные Иродом, они заставили сундуками всю длинную стену. Ирод встал, взял у слуги и поднес прокуратору небольшой ларь, обитый красным бархатом. Прокуратор откинул крышку и в первое мгновенье невольно отшатнулся – раскрытый тусклый глаз Пифолая уставился на него. Впрочем, он тут же взял себя в руки и, передав секретарю драгоценное подношение иудейского полководца (при этом лицо его выразило облегчение), сказал Ироду, что лучшего подарка он не получал уже очень давно. И сразу же пошел осматривать «не лучшие» подарки. Ирод с радостью отметил, каким жадным блеском загорелись при этом глаза прокуратора. Ирод не поскупился, привезенные дары составляли большую часть всей его добычи.
Прокуратор увлекся по-настоящему: перебирал пальцами золотые и серебряные монеты, с видом знатока рассматривал игру света на гранях драгоценных камней, прищурившись и шевеля губами, пытался читать витиеватые надписи на ножнах дорогого оружия. Наконец, с трудом оторвавшись, повернулся к Ироду и проговорил, не скрывая удивления:
– Ты щедр, Ирод, здесь целое состояние!
Ирод уже в который раз почтительно поклонился прокуратору и, обведя плавным жестом стоявшие у стены сундуки, ответил:
– Я лишь вернул украденное у тебя. Все это принадлежало Риму и тебе, благородный Секст.
Секст Цезарь остался доволен. Большую часть даров Ирода он отправил в Рим, сообщив в сопроводительном письме сенату о деяниях и преданности молодого человека. Впрочем, прокуратор не забыл и себя – некоторая часть ценностей осела в его подвалах.
Ирод пробыл в Антиохии несколько недель в качестве почетного гостя прокуратора. Секст Цезарь оказывал ему всяческие знаки внимания, на торжественных приемах сажал рядом с собой, в присутствии своих чиновников и мелких провинциальных царьков, во множестве толпившихся в его приемной, называл Ирода другом. Жизнь в Антиохии была для Ирода беззаботной и приятной, и он не торопился с отъездом.
Но главным образом он медлил с отъездом не по причине приятного времяпрепровождения, но потому, что ждал, как разрешится его дело в Иерусалиме. Доходившие до него слухи были неблагоприятны. Убийство Пифолая и Иезеккии, уничтожение разбойничьих отрядов вызвали гнев и возмущение всей Иудеи. Еще бы – ведь этих разбойников в Иудее почитали как национальных героев, последних истинных борцов за свободу страны. Со всех сторон раздавались призывы привлечь Ирода к суду. Наконец гонец из Иерусалима привез официальную бумагу, подписанную первосвященником Гирканом и несколькими самыми влиятельными членами Синедриона, где было изложено обвинение Ирода в государственной измене и требование незамедлительно ехать в Иерусалим, чтобы предстать перед судом. Ирод тут же отправился к Сексту Цезарю и показал ему послание. Он и сам не ожидал, что послание вызовет такой гнев всегда сдержанного прокуратора. Секст Цезарь разорвал бумагу и швырнул обрывки на пол, шея и лицо его налились кровью. С силой хлопнув по столу ладонью, он прокричал, брызгая слюной:
– Это бунт, бунт! Они посмели привлечь к суду человека, служащего делу Рима! Они посмели угрожать судом моему другу и гостю! Они горько пожалеют, безумцы, я сам явлюсь в Иерусалим во главе двух легионов, и тогда!..
Прокуратор снова хлопнул по столу ладонью и позвал секретаря. Лишь только встревоженный секретарь показался в дверях, Секст Цезарь велел ему подготовить приказ о вступлении легионов в Иудею. Секретарь утвердительно кивнул и, быстро взглянув на Ирода, ответил:
– Я сейчас же подготовлю такой приказ.
Он удалился, а прокуратор еще некоторое время кричал, взмахивал руками, называл первосвященника и членов Синедриона заговорщиками и врагами Рима. Лицо его из красного сделалось багровым, Ирод испугался, как бы прокуратора не хватил удар.
Наконец обессиленный прокуратор опустился в кресло, сидел согнувшись, тяжело и со свистом дыша, уставившись неподвижным взглядом в пол. Ирод подождал некоторое время и осторожно, ступая на носки, вышел.
Только следующим утром прокуратор прислал за ним. Сказал, глядя чуть выше глаз Ирода, что ему нечего опасаться и что он уже отослал первосвященнику письмо, где приказывал оставить Ирода в покое, а в случае неповиновения грозил жестоким наказанием. Ирод низко склонился перед прокуратором, пробормотал слова благодарности. С минуту он не распрямлялся, не в силах стереть с лица досаду. Он не очень верил вчерашним угрозам прокуратора прийти в Иерусалим с двумя легионами. Нынешний правитель Рима Гай Цезарь вел тонкую политику на Востоке, и ему вряд ли понравились бы грубые методы Секста Цезаря – военная операция по такому ничтожному поводу. Огонь недовольства был загнан внутрь и пока не вырывался пожаром восстаний, незачем было раздувать его опрометчивыми и опасными действиями. Ирод понимал это, но все же был раздосадован. Он уже представлял себе, как вместе с легионами римлян осаждает Иерусалим, как солдаты врываются в город, как… Но что думать о несбыточном! Ирод распрямился и попросил разрешения прокуратора покинуть Антиохию.
Он не боялся суда Гиркана и Синедриона, он даже желал его, как желал всякого обострения обстановки – он верил в свою энергию, силу, в свою звезду. Поучения отца быть терпеливым, подниматься к власти медленно, выверяя каждый свой шаг, сейчас казались ему особенно наивными и были неприемлемы. Если бы он, как учил отец, выжидал и присматривался, то до сих пор прозябал бы в Галилее, занимаясь скучными делами и чувствуя себя отверженным и всеми забытым. Но он не выжидал, а действовал решительно и смело. Пусть слишком смело, слишком решительно, рискуя проиграть все, чего достиг. Но он выиграл, добился благоволения прокуратора Сирии и теперь может не опасаться ничтожного и трусливого Гиркана и жалких стариков из Синедриона. Ему нечего ждать, они никогда не отдадут ему власть, он должен взять ее силой. А если кто-нибудь попытается помешать ему, даже отец, то тогда… Ироду не хотелось думать о том, что же он сделает, если Антипатр попытается помешать ему, и он просто уверил себя, что этого быть не может.
Покинув Антиохию, он направился в Галилею, собирая свои разрозненные отряды в единое войско. За время его отсутствия войско это еще приумножилось и теперь насчитывало до восьми тысяч воинов. При необходимости он в короткое время мог увеличить его вдвое. Брат Иосиф писал Ироду из Массады, что сможет набрать для него от пяти до восьми тысяч добровольцев. Ирод уже представлял себе, как во главе пятнадцати тысяч отборных воинов подходит к стенам Иерусалима. Впрочем, он был уверен, что для теперешнего Иерусалима хватит и восьми.
Не вступая в Годару, войско Ирода походным маршем двинулось на Иерусалим. Втайне он понимал, что не посмеет осадить город – это навлекло бы на него гнев не только отца и брата, но, главное, прокуратора Сирии. Нет, он не собирался устраивать осаду, но он хотел продемонстрировать свою силу. Пусть почувствуют, что Ирод не просто начальник над какой-то там Галилеей, но реальная угроза их власти. Пусть знают, пусть боятся!
Каждый раз в ночные часы, когда войско останавливалось на отдых, Ирод подолгу наблюдал за своей звездой. Звезда двигалась к Иерусалиму вместе с ним, сопровождая, и каждую следующую ночь она разгоралась все ярче и ярче.
До города оставалось всего два перехода, когда ранним утром Ирод увидел всадников, скачущих навстречу. Их было около сотни. Еще до того, как он успел разглядеть лицо, в переднем всаднике Ирод узнал отца. Вся его прежняя и казавшаяся неколебимой решимость исчезла в один миг, он почувствовал себя провинившимся подростком и, шагом тронув коня, поехал навстречу.
Он ожидал если не открытого гнева отца, то недовольства и строгих упреков. Но, к его удивлению, отец был настроен миролюбиво и даже улыбнулся, когда Ирод, соскочив с седла, взялся за повод его коня и поддержал стремя.
Сын и отец не виделись всего несколько месяцев, но Ирод с горечью заметил, как же за это время сдал Антипатр. Из цветущего, сильного пожилого мужчины он превратился в старика – черты его лица заострились, он горбился и даже шагал не очень твердо. В глазах не было обычного блеска, и голос, когда он заговорил, не звучал с прежней уверенностью. Бросив коней, они отошли в сторону от дороги, сели на траву. Указав пальцем на растянувшееся едва ли не на полмили войско, Антипатр вздохнул:
– Это ошибка, Ирод, ты играешь в опасную игру. Я не упрекаю тебя в смерти Пифолая, хотя и здесь ты поступил слишком опрометчиво. Что сделано, то сделано. Но сейчас ты должен один явиться в Иерусалим, без войска. Суд первосвященника всего лишь формальность – неужто ты думаешь, что я позволю осудить тебя, моего сына? Но следует соблюсти видимость законности. Пусть члены Синедриона потешатся, разбирая это дело. Сейчас мы у власти и должны показывать пример законности.
Ирод усмехнулся:
– Для чего же тогда власть, если нужно соблюдать законность? Я не понимаю, отец.
Ирод никогда не говорил с отцом в таком тоне и на какой-то миг испугался – опустив голову, ожидал резких слов. Но отец только снова шумно вздохнул и, не отвечая сыну, устало, с чуть заметной досадой продолжил свои объяснения о необходимости соблюдать законность, о том, что Ироду следует сделать вид, будто он чувствует себя виноватым, что нужно утишить страсти, не раздувать ненависть иудеев к их роду.
Отец говорил долго, монотонно, в какую-то минуту Ирод перестал слушать. Ему почему-то вспомнился Гиркан и почему-то подумалось, что сейчас отец так похож на первосвященника: то же отсутствие энергии, та же монотонность, те же протяжные вздохи. Казалось, что Антипатр, став наместником Иудеи, заразился слабостью Гиркана.
Очнувшись от своих дум, Ирод поднял голову – отец молча и изучающе смотрел на него. Спросил чуть слышно:
– Ты слушаешь меня? Ты понимаешь?
Ирод кивнул, ответил, отведя взгляд в сторону: – Да.
Он не прибавил «отец», как прибавлял всегда, – он уже не чувствовал себя послушным сыном, да и сыном этого усталого человека не чувствовал себя тоже. Как видно, Антипатр тоже ощутил это. Он тяжело поднялся, опершись руками о землю, сделал в сторону дороги несколько шагов, сказал, не оборачиваясь:
– Мать очень беспокоится о тебе. В последнее время она много болела, не огорчай ее.
Ирод смотрел в сгорбленную спину отца, с легким сожалением вспомнил, что давно не видел мать. Проводил отца до дороги, помог сесть В седло. Когда пыль, поднятая удаляющимся отрядом, рассеялась, дорога оказалась пустой.
Приказав войску разбить здесь лагерь, Ирод с пятьюстами тяжеловооруженными всадниками следующим утром направился по дороге на Иерусалим. Он не хотел так уж явно ссориться с отцом (тем более что тот был прав), но явиться на суд одиноким и виноватым он тоже не мог себе позволить. Отец говорил о войске, но ничего не говорил о конвое. Пятьсот отборных воинов – значительная сила в данных обстоятельствах, но все же не войско, а только конвой. Так что никто не посмеет утверждать, что Ирод не проявил уважения к отцу.
На закате солнца отряд Ирода въехал в Иерусалим через главные ворота. Его воины, построившись по четыре в ряд, заняли всю ширину улицы, ведущей к дворцу Антипатра. Жители жались к домам, с ненавистью и страхом смотрели на угрюмых, в полном боевом вооружении всадников. Казалось, что вражеская армия вступила в город. Не было криков негодования, проклятий, какие слышались почти всегда, когда Ирод проезжал по городу, – Иерусалим, казалось, оцепенел от столь неожиданного и наглого вторжения.
Мать встретила Ирода со слезами и причитаниями, долго не разжимала объятий, почти повиснув на нем. Он обнимал ее легкое, иссохшее тело, гладил седую голову и впервые за долгие годы почувствовал нечто похожее на жалость.
Отец лишь кивнул, сухо заметил, что трудно будет разместить такое количество всадников. Фазаель крепко пожал руку брата, сказал, что рад видеть его здоровым и что много слышал о его подвигах в Галилее и Сирии. Понизив голос, сообщил о назначенном на завтра суде Синедриона и добавил, подмигнув, что не о чем беспокоиться, но все же разумнее будет вести себя правильно. Нетрудно было понять, что имел в виду Фазаель, говоря «правильно», и, чтобы не отвечать резкостью, Ирод лишь презрительно скривил губы.
Ночью долго ворочался на ложе, не в силах уснуть. Но его тревожило не предстоящее судилище, а то, что домашние (кроме матери, пожалуй) стали его противниками, хотя и неявными. И отец и брат скрывали отчуждение, возникшее между ними и Иродом, но оно было, и Ирод ясно чувствовал его. Так же и этот дом, где он рос, и эта комната, где он сейчас лежал, – они тоже излучали незримое, но очевидное отчуждение. Не говоря уже о городе, который казался теперь Ироду не просто враждебным, но вражеским. Все и всё было против него, и он чувствовал себя одиноким. Но одиночество не порождало тоску, как это бывало раньше, но, напротив, укрепляло его дух и возбуждало энергию. К тому же он был не вполне один, у него была его звезда. Он встал, открыл окно, далеко высунулся наружу, запрокинул голову, нашел глазами свою звезду. Она висела прямо над ним, светила так ярко, что даже облака, проплывавшие под ней, не могли укрыть ее блеска. Ирод долго наблюдал за звездой, потом закрыл окно, лег и сразу же уснул.
Синедрион собрался в тот день в Каменном зале Иерусалимского храма, где проходили торжественные и особо важные заседания. Он подъехал к храму в сопровождении ста всадников (Фазаель все-таки сумел уговорить брата не брать всех), тридцать последовали за ним внутрь, остальные выстроились на площади у центральных ворот. Когда Ирод вступил в зал, возбужденно переговаривавшиеся члены Синедриона смолкли, наступила полная тишина. Шаги Ирода и сопровождавших его воинов гулко прогремели под сводами. Он был одет в пурпурный плащ, тиара на его голове [34]34
…тиара на его голове… – Тиара – головной убор восточных владык.
[Закрыть]блестела драгоценными камнями, волосы были завиты и напомажены. Не доходя до массивного трона первосвященника Гиркана, Ирод поклонился – не очень низко – и холодно проговорил слова приветствия. Гиркан болезненно улыбнулся, смущенно обвел взглядом членов Синедриона, потом воинов за спиной Ирода и наконец проговорил слабым голосом, еще глубже вдавливаясь в трон, и без того казавшийся огромным для его тщедушного тела:
– Мы пригласили тебя, Ирод, чтобы…
– Я знаю, зачем вы меня пригласили, – перебил Ирод и, взявшись рукой за расшитый золотом пояс, выставив вперед правую ногу, добавил: – Начинайте, у меня не так много времени.
Члены Синедриона недовольно загудели. Со своего места поднялся раби Симон-бен-Симая, один из самых старых и самых уважаемых в Иерусалиме священников. Он вышел на середину зала и, указав костлявой рукой на Ирода, заговорил, гневно блестя глазами и тряся белой курчавой бородой:
– Я в первый раз вижу – как и вы, судьи, как и ты, первосвященник, – подсудимого, который в таком виде осмеливается предстать перед вами. До сих пор обвиняемые являлись в траурной одежде, с гладко причесанными волосами, дабы своей покорностью и печальным видом возбудить в судьях милость и снисхождение. Но Ирод, призванный к суду вследствие тяжкого преступления, стоит здесь в тиаре, с завитыми волосами, среди своей вооруженной свиты для того, чтобы, если мы произнесем законный приговор, убить нас и посмеяться над законом. При этом я не упрекаю Ирода за то, что своей безопасностью он дорожит больше, чем святостью законов, – виноваты мы все вместе с первосвященником. Мы, которые так много позволяли ему до сих пор! Но не забудьте, что наш Бог велик! Придет день, когда тот, которого вы в угоду первосвященнику (Симон-бен-Симая гневно взглянул на Гиркана, тот втянул голову в плечи) хотите оправдать, убьет вас, не пощадив ни единого человека. За все преступления, совершенные в Иудее, за неуважение к нашим обычаям и святости законов я требую смерти для этого человека!
Симон-бен-Симая медленно опустил руку, которой во время всей речи указывал на Ирода, и, тяжело ступая, но с гордо вскинутой головой, вернулся на свое место.
Члены Синедриона молча переглядывались, никто не решался высказаться. Вдруг из задних рядов послышалось:
– Он враг Иудеи, он достоин смерти!
Все оглянулись на говорившего. Он уже стоял и тоже, как и Симон-бен-Симая, указывал рукой на Ирода. В этот раз рука была крепкой, мускулистой, была скорее рукой воина, чем священника. Это оказался раби Авталион, ученик и сподвижник Симона-бен-Симаи – сорокалетний, плечистый, с тяжелым взглядом из-под кустистых бровей. Его речь по смыслу была повторением речи учителя, но высказал он ее в более сильных, в более резких выражениях. В конце он не только назвал Ирода гнусным преступником, но объявил преступным все его идумейское семейство.
Речь раби Авталиона словно прорвала плотину страха. Члены Синедриона, перебивая друг друга, высказывали обвинения Ироду, требуя для него самого сурового наказания. То справа, то слева слышалось энергичное:
– Смерть, смерть ему!
Ирод стоял неподвижно, уже не так, как в начале заседания, с рукой на поясе и выставленной вперед ногой. Теперь ноги его касались одна другой, а руки безвольно свисали вниз. Спина сгорбилась сама собой, он не в силах был заставить себя распрямиться, затравленным взглядом косился по сторонам. Он не понял, каким же образом его гордое презрение к этому судилищу сменилось смущением, а смущение – страхом, не понимал, как же это могло случиться. Не мог он испытывать страха перед старцами, каждого из которых (за исключением, может быть, раби Авталиона) он в состоянии был убить одним ударом кулака. Они были немощны, безоружны, да и вряд ли кто-нибудь из них умел держать в руках меч, и их гневные речи не могли испугать Ирода. Здесь оказалось что-то другое, не относящееся к самим старцам, но как бы стоящее за ними. Может быть, их Бог, может быть, неколебимость их веры, может быть, избранность их народа, столько перенесшего, столько раз порабощаемого и все равно, несмотря ни на что, оставшегося свободным. И перед этой святостью, гордостью и свободой, незримо наполнившими все огромное пространство Каменного зала, Ирод почувствовал себя маленьким, безродным и ничтожным. Голос, похожий на голос Пифолая, произнес внутри его: «Идумей!» И в слове этом не было сейчас ни презрения, ни унижения, но лишь определение его настоящего места. И Ирод невольно кивнул, как бы соглашаясь с тем, что произнес голос внутри его. Ничего уже не имело значения: ни энергия Ирода, ни его смелость, ни его хитрость, ни воины, стоявшие за его спиной, ни воины, ожидавшие его на площади, ни войско, разбившее лагерь всего в одном переходе от Иерусалима. Значение имели лишь наполненное святостью, гордостью и свободой пространство Каменного зала и голос, произнесший: «Идумей!»
Ирод очнулся, скорее почувствовав, чем расслышав, что наступила тишина. Он поднял голову и встретил пристальный взгляд Гиркана, в нем была решимость. Губы первосвященника пошевелились, и Ирод услышал:
– Дело это слишком серьезное, чтобы его решать сгоряча. Я вижу, что Ирод виновен, но я желаю, чтобы уважаемые члены Синедриона утишили бы страсти, не давали бы волю гневу, ибо гнев никогда не приводит к правильным решениям, но всегда к решениям опрометчивым и неправым. Я переношу заседание на завтра и желаю выслушать умудренных опытом судей, а не площадных ораторов.
Взявшись за подлокотники трона, первосвященник Гиркан поднялся. Теперь он казался выше ростом, шире в плечах. Величественно оглядев собравшихся, он обратился к Ироду:
– Мы не хотим задерживать тебя силой, но ты должен пообещать суду, что не попытаешься скрыться.
И Ирод, сам не вполне понимая, что делает, низко склонился перед первосвященником, потом так же низко поклонился направо и налево и чуть дрогнувшим голосом выговорил:
– Обещаю.
Гиркан поднял руку и указал ему на выход:
– Тогда иди.
Низко опустив голову и стараясь ступать на носки, Ирод покинул Каменный зал. Он не слышал звука собственных шагов, но самое странное – не слышал шагов следовавшего за ним конвоя.
Выйдя из храма, он увидел толпу, встретившую его негодующим гулом и проклятиями. Когда его отряд стал удаляться, вслед ему полетели камни. Низко пригнувшись к шее коня, Ирод затравленно косился по сторонам.
23. Свидание
У ворот дворца Антипатра Ирода встретили отец и брат. Каким-то образом им уже было известно о произошедшем в Каменном зале Иерусалимского храма. И тот и другой не скрывали тревоги, особенно Фазаель. Он взглядывал то на Ирода, то на Антипатра, и его всегда спокойное лицо выражало растерянность. Когда все трое прошли в кабинет отца, он заговорил первым:
– У меня добрые отношения с несколькими членами Синедриона, я постараюсь убедить их…
– Оставь это, – угрюмо перебил Антипатр. – Ирод навсегда останется для них преступником. Они жаждут его наказания и будут идти до конца.
– Но Гиркан? Ты можешь переговорить с Гирканом, разве он посмеет отказать тебе! – горячился Фазаель, но при этом почему-то смотрел не на отца, а на брата.
– Гиркан здесь ни при чем, он боится Синедриона больше, чем нас. Однако он получил послание от прокуратора Сирии и не посмеет выступить против Ирода.
– Но тогда… – Фазаель вздернул и опустил плечи, – Но тогда они ничего не смогут сделать! Не так ли, отец? У них слишком мало сил даже на то, чтобы арестовать Ирода.
– Сил для этого у них нет совсем, – сказал Антипатр, – и ты все знаешь не хуже меня. Дело не в аресте, разве я допущу это!
– Но тогда в чем, в чем?!
– В мнении жителей Иудеи, – с очевидной досадой, ожидая возражений, проговорил Антипатр и взглянул на Фазаеля, а потом и на Ирода.
– Но я не понимаю, почему тогда… – больше растерянно, чем горячо начал было Фазаель, но Антипатр не дал ему договорить.
– Ты все понимаешь, Фазаель, – сказал он строго, – иначе судьба брата не вызывала бы в тебе беспокойства. Сила и реальная власть на нашей стороне. Мы можем поступить очень просто: ввести в храм солдат, разогнать или взять под стражу членов Синедриона и заставить Гиркана объявить Ирода свободным от суда. Да, толпы людей попытаются встать на их защиту, но разве у нас не хватит солдат, чтобы рассеять толпы?! Ты все это знаешь, Фазаель, – так почему же ты в тревоге?
Фазаель опустил голову, ему нечего было ответить. Он уже думал о тех действиях, о которых говорил отец, и понимал, что этого нельзя совершать.
Помолчав, Антипатр продолжил, скрестив на груди руки и глядя в пол. Голос его звучал глухо, он говорил словно для одного себя, размышляя:
– Мы добивались и добились власти не для того, чтобы обращаться с подданными как завоеватели. Это можно позволить себе в Египте, даже в Сирии, но только не в Иудее. Иудея и сама по себе не может жить в мире, а тем более не потерпит власти чужаков. Если мы попытаемся применить силу, произойдут волнения, и они будут нарастать с каждым днем, с каждым часом, пока не явится вождь и не поднимет открытое восстание.
– Но, отец, разве мы когда-нибудь страшились их вождей? – с напряженной насмешливостью спросил до того молчавший Ирод, – Только за последние годы дважды поднимал восстание Аристовул и дважды его сын Александр. И разве мы не встречались с ними на полях сражений, разве не побеждали?! Мы победим их столько раз, сколько они посмеют восстать.
При этих словах Ирода Антипатр вскинул голову и, презрительно взглянув на сына, ответил:
– Одно из двух: либо мы будем воевать с народом, либо править им. Нельзя одновременно и воевать и править.
– Но если они будут…
– Если они будут восставать, – возвышая голос, договорил за сына Антипатр, – то римляне уберут нас быстрее, чем иудеи. Риму не нужны восстания в провинциях. Если мы не сможем править так, чтобы народ доверял нам, а не боролся с нами, то римляне признают нас дурными правителями, лишат нас власти и призовут к ответу. А чтобы народ доверял нам, мы прежде всего должны подчиняться законам этой страны. Ты, Ирод, нарушил закон.
Он замолчал, и Ирод проговорил уже без насмешливости, чуть слышно, осторожно:
– Если и ты, отец, считаешь меня виновным, то как же мне надо поступить? Отдаться в руки судей? Но по их законам меня ждет смерть.
Антипатр нетерпеливо помахал рукой, указывая сыновьям на дверь:
– Идите, я буду думать.
Фазаель и Ирод, бесшумно ступая, вышли из кабинета отца. За дверью они переглянулись, ничего друг другу не сказали и разошлись.
Время до позднего вечера Ирод провел в ожидании – тревожном, томительном. Ни отец, ни брат не зашли к нему, не пригласили к себе. Мать он видел только за обедом. Она молча смотрела на него, вздыхала, и в глазах ее была печаль. Он слышал, как отец выезжал куда-то, потом слышал, как он вернулся, ждал, что вот-вот явится слуга и пригласит его к Антипатру. Но слуга не шел, и за дверью его комнаты стояла такая тишина, что казалось, все покинули дом и бросили его одного.
Ирод не ощущал в себе прежней уверенности, и сознание, что его войско стоит всего в одном переходе от Иерусалима, а пятьсот всадников расположились вокруг дворца, не успокаивало его. Иерусалим за занавешенными окнами враждебно затих. Минутами Ироду чудилось, что город окружил дворец и незаметно, но очевидно сжимает кольцо. Сначала падет кованая ограда, потом затрещат и повалятся толстые стены дворца и, наконец, тонкие стены его комнаты. Эти рухнут, а их заменят другие – стены домов, сжимающих кольцо. Там будут стены лачуг и стены дворцов, и даже, наверное, часть стены Иерусалимского храма. И отовсюду из окон на него будут смотреть лица: простых горожан, богачей, священников. Их взгляды, исполненные ненависти, сойдутся на нем, прожгут его, испепелят…
Ирод вскрикнул, открыл глаза и в страхе поднял голову. В комнате было темно, он не заметил, как задремал. Чуть успокоившись, долго лежал, прислушиваясь, – тревожная тишина висела и в доме и за стенами. Вдруг ему почудился звук, он шел от окна. Привстав на локте, Ирод замер и перестал дышать: тихие шаги, негромкий разговор. Почему-то он понял, что и шаги и голоса относятся к нему, и, когда они стихли, повернул голову в сторону двери. Он не ошибся: кто-то, мягко ступая, подошел к двери и не постучал, а едва слышно поскребся. Послышался голос слуги отца:
– Ирод.
– Кто? – испуганно отозвался Ирод, сбросив ноги с ложа, и нащупал в темноте рукоять меча, висевшего в изголовье, на спинке кресла.
– За тобой… – сказал слуга и почему-то не сразу, а после некоторого молчания добавил: – Пришли.
– Подожди, – отозвался Ирод, натянул сапоги (он лежал одетым) и, взяв меч, подошел к двери. Вытянул меч из ножен до половины и только тогда приоткрыл дверь.
Светильник в руках слуги ослепил его. Лицо слуги, искаженное светом снизу, было чужим, страшным. Почтительно наклонив голову, слуга прошептал:
– Человек от первосвященника. Говорит, что очень срочно.