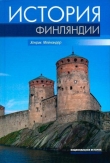Текст книги "Там, в Финляндии…"
Автор книги: Михаил Луканин
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 16 страниц)
Но нет, не вытравить из памяти горького осадка, и тщетны усилия избавиться от горестных воспоминаний. Заросшие травой жалкие холмики по обочинам дороги, эти безмолвные свидетели пережитой здесь трагедии, напоминают нам о суровой и жестокой действительности, об оставляемых здесь навеки товарищах.
– Как же мало осталось нас, выживших, и как много здесь этих безымянных могил! И так по всей трассе, – эта мысль буквально преследует каждого из нас. – Даже представить страшно, что здесь было и что здесь сделали с нами немцы. Такого и по гроб не забудешь!
Дойдя до поворота, мы еще раз оглядываемся назад и неожиданно замечаем над лесом огромные клубы черного дыма.
– Не лагерь ли горит? Заронили что при уходе? – недоумеваем мы, невольно сбивая шаг.
Не придавая этому зрелищу особого значения и нимало не беспокоясь, конвоиры продолжают подгонять нас.
– Похоже, сами подожгли, – решает Полковник, – потому и не беспокоятся. Им он больше не нужен – вот и жгут. Интересно бы все-таки узнать, что же такое происходит, почему они бросили и подожгли лагерь и куда это нас еще погонят? Вот бы разнюхать обо всем этом!
Жалкие и чудом уцелевшие остатки прибывшей когда-то сюда и неоднократно пополняемой тысячи, мы, полные неведения о своем будущем, продолжаем следовать дальше, подгоняемые прикладами конвоя.
Нет! Не забыть ничего! Ни этой чужой ненавистной земли, ни злой неволи, ни загубленных товарищей, незримые скорбные тени которых, кажется, и сейчас неотступно следуют за нами, заклиная живых к святому отмщению. О, если бы только знать, что нам еще уготовано?
Погрузиться в ожидающие нас вагоны не потребовалось много времени. Конвоиры лезут в них вместе с нами. Они рассаживаются по всем вагонам и ни на секунду не сводят с нас настороженных глаз. В последний раз пробегает вдоль вагонов отправитель, и до нас доносится столь знакомая по утренним поездкам команда отправления. Поезд медленно трогается с места, набирает скорость и переходит на полный ход, монотонно постукивая колесами на стыках и оставляя позади охватившую почти полнеба темную завесу дыма на месте недавнего лагеря. И снова тянутся перед нами бесконечные леса, дикий камень и унылые равнины осушенных болот, мелькают перед глазами вырубленные нами широкие просеки, котлованы заброшенных и безмолвных теперь карьеров, зеркала бесчисленных лесных озер. Ставшие до боли знакомыми и привычными, они напоминают нам обо всем здесь пережитом, и мы не имеем сил оторвать от них глаз. Оглушительные взрывы позади отвлекают наше внимание. Возникая в разных местах, то приближаясь, то удаляясь, они будят безмолвные леса, и стоголосое эхо их подолгу не умолкает в окрестностях. Мы напряженно прислушиваемся к взрывам, пытаясь разгадать причину их возникновения.
– Не иначе как последними нас вывозят, – прикидывает Колдун. – Выходит, за нами и духа нашего не осталось. Повывезли всех уже подчистую. Сдается мне, что голое место за собой ироды-то хотят оставить. Лагерь вот запалили, теперь, похоже, мосты на путях рвут. К чему бы?
– Черт с ним, с лагерем! – невозмутимо заключает Полковник вполголоса. – Хорошего в нем мало было! А что мосты взорвут, беда небольшая, наведут их, кому понадобится. Ничего не сделается дороге – цела останется и послужит, кому следует. Хозяева ей найдутся. А вот, что к чему это все, сам голову ломаю. Очень уж это на отступление смахивает, да только вот никакого наступления противника здесь не видно, не слышно и ничто о нем не напоминает. От кого и куда бегут и все кидают? Вот в чем вопрос-то.
– Вот и вспомнишь теперь Доходягу, – в тон ему вспоминает об Андрее Павло. – По его-таки вышло! Дорогу-то все-таки не для фрицев проложили. Сколь ни бились, не удалось им поездить-то – зря только старались. А о том, что творится, об этом не сегодня завтра обязательно все узнаем. Так что не ломай голову, она тебе еще понадобится.
Все дальше уносит нас эшелон… Уже скрылись из виду знакомые предметы и не узнать окрестностей. Только облако далекого дыма указывает нам место нашего заточения в финской глухомани.
Куда еще мы угодим и что нас впереди ожидает?
С верой в будущее
В маленьком финском городке эшелон разгружается. Отсюда, успевает разнюхать Павло, нас погонят в Норвегию.
– Пешочком потопаем! – с усмешкой дополняет он убийственную новость. – До Норвегии отсюда доплюнуть можно. С полтыщенки километров не наберется. Ну, а если и поболе, так самую малость.
– Мели больше! – раздаются недоверчивые голоса. – Нам только и делать теперь пешком по полтыще. На первой же сотне половина загнется. Придумает тоже!
– Значит, не хотите пешком? – подливает масла в огонь Павло. – Тогда машины затребуем. Чего тут стесняться в самом деле!
Час спустя сообщение Павло полностью подтверждается основательно разведавшим обстановку дядей Васей, и тотчас же стихают все разговоры. Всем нам хорошо известно, что такое пеший этап, и мы знаем, что немногим суждено одолеть этот путь и дойти до его конечного пункта. Угадав наше настроение и признав себя невольным виновником его, дядя Вася пытается выйти из неловкого положения и подбодрить нас.
– Ничего, мужики, не переживайте! – говорит он. – Я вас расстроил, я вас сейчас кое-чем и обрадую. Вы вот головы ломаете да допытываетесь все, с чего это вдруг, ни с того ни с сего, с немцами такое приключилось – сорвались вдруг с мест, как настеганные, да и давай бог ноги, словно за ними кто гонится: лагеря за собой жгут, мосты на железке взрывают, уничтожают по пути все, не только свое, но, к вашему сведению, даже финское, нас вот с вами куда-то в Норвегию гонят? Так все это, дорогие вы мои, потому только (вот теперь-то стойте крепче и не падайте), что четвертого сентября Финляндия капитулировала, вышла из войны с Советским Союзом и теперь больше с нами не воюет. Мало того, по требованию нашего правительства она разорвала все отношения с Германией и потребовала до 15 сентября вывести все ее войска со своей территории, иначе они будут интернированы. Ну, то есть задержаны и разоружены, а затем переданы их противнику в качестве военнопленных. Вот немцы и переполошились теперь. Дело-то у них здесь к «капуту» подошло. Ну как, признавайтесь, устраивает это вас?
Огорошенные этой поистине потрясающей новостью, мы некоторое время оцепенело молчим, как немые, не находя слов, а затем, словно сорвавшись с цепи, начинаем кричать и галдеть все разом, не слушая и перебивая один другого.
– Так вот, значит, почему они тикают-то: боятся, как бы самим в плену не очутиться. Выходит, пришла-таки и на старуху проруха! Здорово получилось, ничего не скажешь!
– Потикаешь тут, когда финны с нами замирились да против их повернули. Кому охота, наглядевшись на нас, в плену-то оказаться?
– Вот бы им самим побыть в нашей-то шкуре!
– Ну, в нашей-то шкуре им не бывать. Ни наши, ни союзники с ними бы не стали так-то обращаться. Это ведь только с нами, безродными да внезаконниками, так-то можно, а с ними никто такого не позволит.
– Интересно, что же теперь с нами-то будет? Для чего это они нас с собой прихватили?
– Радуйся, что хоть в яму-то за баней не уложили, а то – для чего с собой прихватили? Да для того, что думают еще работенку тебе подыскать да на ней тебя, олуха, задарма использовать.
– А хрен редьки не слаще: в яму не попал, так на этапе загнешься. Они и по дороге нас немало уложат. Дай-то бог хоть половине до Норвегии дотопать.
– Да, это им не впервой – постараются.
– Эх, вот бы когда драпануть-то! – слышится голос Павло. – В самый раз теперь только и бежать. Другого такого случая может боле не представиться. Залечь где-нибудь в лесу, выждать, когда фрицы из Финляндии смоются, а опосля финнам сдаться. Они теперь обязаны нас нашим передать. Как думаешь, Полковник, правильно я говорю?
– Да что и говорить, момент самый что ни на есть подходящий. Другого такого, пожалуй, и в самом деле не дождешься, – соглашается Полковник. – Подумать об этом, во всяком случае, стоит.
А возбуждение, разбуженное шахтером, не спадает, и разговорам не видно конца.
– Откуда это все ты выуживаешь? – допытываюсь я у него.
– А сорока-то на что? Сами же когда-то заподозрили, что мне все какая-то сорока на хвосте приносит. Вот от нее всю информацию и получаю, – скалит он свои лошадиные прокуренные зубы.
– Да будет тебе! – с досадой отмахиваюсь я. – С тобой всерьез, а ты все шуточками отделываешься. Можно бы, кажись, уже и поделиться секретом.
– Так ведь когда секретами делятся, они уже перестают быть секретами, а я этого делать сейчас не вправе, особенно в нашем-то положении. Сам должен понимать, не маленький. Ты уж понапрасну-то не обижайся.
– Да ладно уж, черт с тобой! Не говоришь – не очень-то и надо! – отступаюсь я от него. – В конце концов, не в этом суть. Важно не где и как, а что выудил. А выуживаешь ты, признаться, далеко не пескарей. За такие уловы даже награждать бы следовало.
– То-то вот и оно!
Переночевав в пустующем лагере для военнопленных, эвакуированных до нас, мы чуть свет получаем паек и, к немалому нашему удивлению, по паре одеял и по три комплекта латаного обмундирования. Скудный паек мы сразу поспешно и жадно уничтожаем, с обмундированием же и одеялами, этой непредвиденной и обременительной в пути поклажей, навязанной нам, как разъяснил переводчик, «для транспортировки», долго и нехотя возимся.
– Дождались «обновки»! – ворчит Колдун. – Зимой не то что обуть-одеть, остатные портки стягали, а теперь вот силом пихают. Не хошь да бери!
Немецкая скаредность надолго останется в нашей памяти. О ней зримо свидетельствуют наши гниющие пальцы и трупные пятна пролежней, и мы с содроганием вспоминаем о зимних бедствиях. В сквозящих отрепьях и развалившихся колодках, едва не на босу ногу, мы, что ни день, обмораживались на свирепых ледяных ветрах и месяцами валялись на голых нарах. Теперь, когда все это уже позади, а одежда и обувь на время несколько утратили прежнее значение и даже стали некой обузой, нас, словно в насмешку, заваливают ими. Бранясь и негодуя, мы заканчиваем наконец упаковку увесистых кладей и критически осматриваем их. Результаты осмотра нас окончательно добивают.
– Хм! Так себе ноша, – многозначительно хмыкает Павло. – Маловата бы словно. Еще бы с пудик – в самый раз была.
– У немца за этим не станет, – накаркивает Яшка, – добавит и еще на погибель нашу. Теперь бы впору и остальное кинуть, не то что лишней кладью обзаводиться. Многих она по дороге свалит.
Неудовольствие наше возрастает, когда час спустя нас оделяют еще и трехдневным сухим пайком, со строжайшим запретом расходовать его сразу. Обладание тройной порцией хлеба делает нас едва ли не самыми несчастными людьми на свете. Надо быть поистине железным, чтобы, будучи голодным и располагая неприкосновенным запасом, выдержать искушение и не прикоснуться к нему. Соблазн столь велик, что после долгих колебаний и опасения понести кару и трое суток оставаться без еды мы один за другим расползаемся по укромным углам и пытаемся обмануть себя, общипывая корки. Эта уловка увеличивает желание покончить с хлебом, и, махнув на все рукой, мы в один присест уничтожаем его весь, следуя укоренившемуся правилу наесться хоть раз да досыта и подбадривая себя сомнительной истиной, что будет день – будет и пища. Наша невоздержанность не проходит нам даром. Терзаемые ею, мы для успокоения совести опрашиваем один другого:
– Ну, как с хлебом? Цел еще?
Получив отрицательный ответ, утешаем себя:
– Все-таки не я один. У других с хлебом тоже не лучше. Отвечать и голодать в дороге, выходит, не мне одному придется.
В поисках единомышленников я подхожу к Яшке.
– Да нешто его уберегешь! – сокрушенно отвечает он на вопрос о хлебе. – Нашли тоже кому харчи вперед давать. В дороге-то одна поклажа половину положит, а голод теперь и остальных доканает.
– Сам-то думаешь дотянуть? – киваю я на его распухшую котому. – Нелегко с такой-то ношей будет.
– Поползу как-нибудь. Куды денешься? Ходули бы вот не отказали – припухать, замечаю, стали.
На ноги жалуется не только он. Еще хуже с ними у Папы Римского. Чудовищно распухшие, они лишают его всякой возможности передвигаться, и ходит он через силу, переваливаясь, словно селезень. Трудно даже представить, что с такими отеками можно преодолеть расстояние до Норвегии. С явным сомнением присматриваемся мы к обоим.
– Не сдюжить вам, подведут вас ноги! – высказываем мы вслух свои опасения.
– Поживем еще – рано хороните! – петушится Колдун. – Поутру я вшей во сне видел, а вошь – она завсегда к суетне снится. Через это, значит, должны мы в живых остаться, не иначе.
Неожиданный и столь несвойственный ему оптимизм никак не вяжется с нашим обычным о нем представлением и вызывает всеобщее недоумение.
– Ну, знать, война кончится! – встряхивается приунывший было Папа.
На наших глазах немцы начинают сжигать оставшееся имущество. В огромные костры они стаскивают все, что не в силах с собой взять. Белье и одеяла, неношеное обмундирование и добротный инвентарь, книги и ворохи чистой и исписанной бумаги – все это летит в пламя и, безжалостно пожираемое огнем, тотчас же превращается в летучий пепел. Стоя перед проволокой, мы наблюдаем за картиной уничтожения и делимся своими впечатлениями.
– Эх, сколько же, мужики, добра пропадает, подумать страшно! – с сожалением качает головой Яшка. – Да путное все жгут! Нас вот дерьмом завалили, а добро палят. Знать, здорово же их жмут, коль последнего ума лишились.
Покончив с имуществом, немцы решают заняться нами. Нас выстраивают и, неоднократно пересчитав, выводят за ворота, награждая при выходе кого парой кирок, кого увесистым ломом или двумя-тремя лопатами. Припомнив недавний разговор, Яшка с нескрываемым ехидством подталкивает Павло:
– Вот и добавили – горевал больно. По тебе теперь ноша будет.
– А инструментом-то не зря награждают. Теперь-то уж ясно, что решили использовать нас еще где-то на работах, потому вот и не прикончили тогда за баней, – делает вывод Полковник.
Кляня на чем свет стоит немецкую предусмотрительность, окруженные усиленным, неведомо откуда взявшимся дополнительным конвоем, мы выходим на дорогу, чтобы навсегда покинуть эти места, и растягиваемся в походную колонну. Движение сразу же начинается ускоренным темпом. Перегруженные вещами, мы, обливаясь потом и превозмогая себя, бредем, спотыкаясь едва ли не на каждом шагу. На третьем километре, изнемогая от слабости и непосильной поклажи, начинают заметно сдавать многочисленные отечники и больные ревирники. Ломая походный строй и замедляя движение, они один за другим оставляют свои места и оттягиваются в хвост колонны. Немцы не допускают даже мысли, что кто-либо может отстать в пути. Они набрасываются на несчастных и зверски избивают их, принуждая к движению. Но сейчас и это не помогает. Не имея сил двигаться дальше, безразличные к угрозам и побоям, люди опускаются прямо в дорожную пыль. И ничто не может заставить их подняться на ноги. Колонну останавливают. К ослабевшим подходит комендант Тряпочник и с мнимым состраданием на лице ободряет сообщением, что всех их подберут следующие за колонной автомашины. По его распоряжению полицаи обходят всю колонну.
– Кто еще не может идти дальше? – опрашивают они всех.
Перспектива ехать машиной весьма заманчива, и число охотников сразу же возрастает вдвое.
– Я!
– Я не могу!
– Меня запиши… У меня ноги больные! – слышатся отовсюду крики желающих.
Вопрошающе смотрит на нас Папа Римский.
– Попроситься разве и мне? Силов моих больше нет идти дальше! – колеблется он в ожидании нашего совета.
Лицо его, перекошенное болью, выражает такое неподдельное страдание и вызывает такую жалость, что мы сразу же отвечаем:
– Да чего тут думать-то? Просись, конечно! Одно только и остается. С твоими ногами все равно далеко не уйдешь.
Больных и отстающих опрашивают и бегло осматривают. Покончив с этим, немцы выстраивают их и ведут за поворот дороги, где их якобы ожидают машины. В их рядах мы успеваем приметить радостное лицо Папы Римского. Светлым и детски наивным взглядом прощается он с нами, радуясь, что ему не придется больше идти пешком.
– Доброго пути! Благополучно доехать! – от всей души бросаем мы ему вслед.
Не переставая улыбаться, он машет нам рукою. С чувством какого-то еще не осознанного сожаления провожаем мы товарищей глазами. Сгибаясь под тяжестью клади и еле волоча разбитые ноги, несчастные едва плетутся по дороге и скрываются за поворотом.
– А ты-то чего остался? – удивляемся мы, внезапно заметив Яшку. – С ногами-то у тебя не лучше. Ехал бы машиной, глядишь, и силы, и ноги бы сберег.
– Бог даст, можа, и так дойду, – глуповато отнекивается он. – На машинах мест для всех тоже не хватит.
– Смотри, тебе виднее. Пожалеешь потом, да уж поздно будет.
Проходит некоторое время после ухода товарищей, как из-за поворота до нашего слуха неожиданно доносится долго не умолкающее стрекотание автоматов и какой-то многоголосый жуткий душераздирающий вой. От неожиданности мы вздрагиваем и настороженно прислушиваемся.
– Постреляли!!! Даю слово, что постреляли ребят! – вырывается у Полковника. – Вот тебе и поехали машинами! Обдурили их проклятые фрицы! Эх, Папу Римского-то вот мы сами на смерть подтолкнули! Ну, твое счастье, Яков, что не пошел с ним. Лежать бы и тебе сейчас в кювете.
От волнения мы не можем вымолвить ни единого слова. Коварное и подлое убийство ни в чем не повинных товарищей ложится на сердце чудовищно тяжким камнем. Для нас, еще живых, оно приобретает отныне особое значение. Теперь мы можем судить о том, что нас ждет впереди и на что мы теперь можем рассчитывать в дороге.
Вскоре конвой, сопровождавший несчастных в их последний невозвратный путь, появляется из-за поворота. Немцы приближаются, оживленно переговариваясь и не переставая чему-то улыбаться, словно побывали на веселой вечеринке. Ни малейшей тени сожаления и угрызений совести мы не находим на их лощеных холеных лицах. Дойдя до нас, они, как ни в чем не бывало, расходятся по своим местам, и колонна снова продолжает путь.
– Дорвались стервятники до человечины, отвели душу! – весь трясясь от злобы, хрипит Яшка. – Теперь отведав, во вкус войдут, подавай только. Вот помяните мое слово!
Расправа над беззащитными пленными в самом деле разожгла интерес немцев к подобным изуверским сценам. Не прошло и часа, как мы действительно стали очевидцами события, подтвердившего слова Яшки, жертвой которого на этот раз стал сам Колдун. Как ни крепился Яшка, превозмогая себя, от нас не могло укрыться, что силы его на исходе и вот-вот он не выдержит и отстанет. Задыхаясь от усталости, он эле тащится, прихрамывая и корчась от невыносимой боли в ногах.
– Держись, Яшка! – делаем мы жалкую попытку подбодрить товарища. – Нельзя отставать! Сам видишь, что делают с отстающими. Тянись уж как-нибудь до привала. Захотят жрать – все равно остановятся.
Собрав остаток сил, Яшка некоторое время держится наравне с нами, но затем, убедившись в тщетности своих усилий, делает неприметную попытку поотстать от нас. Заметив это, Полковник тут же хватается за его котому.
– Давай подмогу! Передохнешь немного, пока несу, а после снова возьмешь.
– Уйди! – отталкивает его тот. – Свою еле прешь, а еще за чужую хватаешься. С непривычки это у меня – давно с ношей не хаживал. Втянусь вот, легше будет.
– Ну, как знаешь! А только уж раз сейчас отставать собрался, то скоро и в самом деле в хвосте окажешься.
– Ну-к, что ж! Оно даже и лучше позади-тось. Народу меньше и идти спокойней.
Оставив Колдуна в покое, за разговорами мы на время вовсе забываем о нем. Неожиданно колонну останавливают. Отыскивая причину остановки, мы озираемся по сторонам и застываем с раскрытыми от изумления ртами. Только что шедший рядом Яшка на наших глазах барахтается сбоку от колонны в дорожной пыли, окруженный глумящимися над ним конвоирами. Окончательно обессилев, он не думает подыматься. Его беспрецедентное упрямство выводит конвой из терпения. Зверея от злобы, один из унтеров подымает автомат и, не целясь, стреляет в несчастного. Пуля, однако, щадит Яшку. Она царапает ему скулу, оставив на лице кровавую борозду.
– Яшка, вставай! Вставай, Яшка! – испуганно кричим мы. – Убьют ведь, дурной!..
– Все одно теперь, – размазывая по лицу кровь, безразлично отмахивается он рукой. – Конец пришел, мужики, Колдуну. Отколдовался Яшка. Так что не поминайте лихом, ежли кому когда и досадил.
Он произносит это каким-то чужим и удивительно спокойным голосом, и на лице его, залитом кровью, мы не находим ни тени волнения, ни признаков боли.
Промах же распаляет унтера, и в приступе бешенства он выпускает по раненому целую очередь. Простроченный пулями, Яшка распластывается в пыли. Спустя несколько мгновений он приходит в сознание и предпринимает слабую попытку приподняться. Делает он это в глубоком молчании, ни единым стоном не выдавая своих страданий. Только по ощеренным в волчьем оскале зубам да по блуждающему затравленному взгляду, которым он шарит вокруг, мы догадываемся, чего это ему стоит. И есть в этом спокойствии и молчании что-то такое потрясающе жуткое, что даже немцы, не выдержав, отшатываются от него. Злобный взгляд Колдуна продолжает скользить по их лицам и неожиданно останавливается на его палаче. Приметив его, Яшка хриплым надорванным голосом кричит ему:
– Добивай, ирод! Мучиться из-за тебя!..
Видя, что унтер полон нерешительности, он нащупывает в пыли камень и швыряет его в своего убийцу.
– Кончай, говорю, гитлеровская сволочь!
С диким ругательством подскакивает к нему один из конвоиров и с маху всаживает в него примкнутый к карабину тесак. Пришпиленный им к земле, Яшка без единого звука мучительно долго бьется, извиваясь в последних предсмертных корчах, судорожно шарит вокруг руками и давится дорожной пылью, обагренной его кровью. Дождавшись, когда движения его окончательно прекращаются и он вытягивается во весь свой рост, убийца, хладнокровно опершись о него ногой, вытаскивает из тела Колдуна тесак и тщательно обтирает его придорожной травой. Необычное выражение лица убитого привлекает к нему внимание конвоиров. Окружив его, они с изумлением разглядывают странное существо с ощеренным в дикой злобе ртом и оскаленными волчьими клыками, лютую ненависть в лице которого не в силах была угасить даже сама смерть. Удовлетворив любопытство, конвоиры откидывают труп в сторону, и колонна как ни в чем не бывало трогается в путь.
– Вот тебе и добрый сон со вшами!.. – задыхаясь от волнения, с горечью роняет потрясенный Полковник. – Не водилось за ним прежде такого, хорошим-то нас тешить. Недаром, видно, только перед смертью и подбодрил всех. И умер-то не как все – без стона, без жалобы. А злоба, так та и в мертвом осталась. Впервые такую смерть вижу. И кто бы мог подумать, что Яшка-Колдун такой мужественной смертью кончит!
Нам не до рассуждений. Утрачены последние остатки надежд. И участь свою мы считаем окончательно предрешенной. За один день сегодня, а точнее, всего за каких-нибудь два часа, – это уже второй случай гибели наших товарищей, и перед глазами у нас неотвязно стоят застенчиво-простодушная улыбка обманутого Папы и непримиримый волчий оскал затравленного Колдуна. Такими, вероятно, они и останутся в нашей памяти до нашего собственного конца.
А немцы не ограничиваются этими расправами. Теперь не проходит и часа, чтобы они не пристрелили несколько человек. С убитыми они не церемонятся. Ударом сапога их попросту сбрасывают в придорожную канаву, и, минуя их, колонна продолжает двигаться дальше. Ко времени привала, когда конвоиры, поочередно меняясь, пожирают свой обильный обед, мы недосчитываемся нескольких десятков своих товарищей. И это в первый же день этапа и всего за несколько часов пути! Что нас ожидает дальше? Судьба, будь к нам милостива!
После того, как немцы изрядно подзаправились, колонна движется медленней, чем прежде. И тем не менее мы, сгибаясь под непосильной ношей, изнемогаем от слабости и еле волочим измученные ноги. Каждого отставшего немцы продолжают запросто приканчивать, не считая нужным приостанавливать движение колонны. Опасение отстать и очутиться в роковом хвосте придает нам сил, и, превозмогая себя, мы продолжаем тащиться вперед. Уныние не покидает нас. Все наши усилия избавиться от него ни к чему не приводят. Угроза близкой смерти нависла над каждым, она, как черная туча, заслонила от нас и солнце, и небо и безжалостно гасит малейшие проблески самых скромных надежд на лучшее будущее.
В самый короткий срок – за несколько месяцев – нам суждено было потерять две трети наших давних и неразлучных товарищей, самим стать свидетелями их гибели. Так, трагически и нелепо погибли Осокин, Кандалакша и Лешка Порченый. С помощью верных лагерных друзей свершился правый суд над ненавистным Иудой – предателем Козьмой. Теперь, с гибелью Колдуна и Папы, из прежней неразлучной девятки нас осталось трое: Полковник, я да Павло-Радио продолжаем по-прежнему держаться вместе. Рядом с нами шагает рослый шахтер. Он присоединился к нам при эвакуации из лагеря и с этого времени не отлучается от нас ни на шаг, деля с нами все тягости этапа.
– Ничего, ничего, парни! – ободряет он нас, заметив наше уныние. – Зря духом падаете! Сдюжим как-нибудь. То ли перетерпели – надо и сейчас тянуться.
– Эх!.. – с явной досадой вырывается у Полковника. – Сколько же можно тянуться-то? С этим терпением до того дойдет, что скоро ни одного в живых-то не останется. На явную ведь смерть все идем, а безропотно ждем, как скот на бойне, своей очереди и дождемся, конечно. Немцам же все равно, дойдем ли мы до Норвегии или нас погибель ждет, и надо на что-то решаться, наконец, а не уподобляться кротким убойным кроликам. Сбежать бы сейчас – вот что из головы не выходит, а как – не придумаю. Самый, кажется, удобный случай – другого такого более не будет. Только бы вот из кольца этого как-то неприметно вырваться, а там затаиться где в чащобе и отлеживаться. Чтобы к своим попасть, даже идти никуда не надо. Сами, возможно, подойдут. День-другой – и у них будешь.
– Да!.. Неплохо бы, – соглашается шахтер. – Разом бы от всех мук и иродов этих избавился. Да только разве уйдешь тут? Эвона их сколько понагнали. Не то что наш брат, пленный, – блоха не проскочит.
Заманчивая перспектива побега овладевает нами с огромной силой. Мысль, высказанная Полковником, на какое-то время отвлекает нас от суровой действительности, и, перебивая друг друга, мы строим планы, один фантастичней и невозможней другого. Неожиданно впереди происходит замешательство, и колонна замедляет движение.
– Что там еще? Что случилось? – слышатся отовсюду недоуменные возгласы.
Медленно продвигаясь вперед, мы достигаем перекинутого через овраг деревянного моста. Вступив на него, мы уясняем причину задержки. Развороченная, видимо, гусеницами прошедших здесь недавно танков, посредине моста зияет огромная щель. Несколько плах совершенно отсутствуют. Каждый из достигших щели невольно останавливается в растерянности и долго не решается преодолеть неожиданное препятствие. Сбившись перед ним в кучу, бранясь и толкаясь, люди толпятся на мосту, с трудом сдерживая натиск задних рядов.
Доходит очередь до нас. И в тот самый момент, когда мы собираемся преодолеть щель, происходит нечто поистине непредвиденное и буквально ошеломившее меня. На наших глазах Павло, всю дорогу загадочно молчавший, внезапно делает резкое движение и молниеносно проваливается в зияющее отверстие. И тут же его примеру следует Полковник. Воспользовавшись возникшей суматохой, они оба скрываются под настилом моста. Все происшедшее столь неожиданно и непостижимо, что из горла у меня готов был вырваться невольный крик изумления, когда широкая и жесткая ладонь шахтера, словно лопатой, наглухо запечатала мне рот.
– Нишкни-кось! – торопливо одергивает он меня и уже тоном приказа добавляет. – Мы с тобой ничего не видели и ничего не знаем. Усек?
– Да, да! Конечно! – придя в себя, соглашаюсь я.
– Вот то-то же! Язык тут треба наглухо задраивать. Он у нас без костей, и любое даже самое наиважнейшее дело запросто провалить может, да и им всю обедню испортить тоже.
Мы оба долго не можем опомниться и, только оставив позади мост, приходим в себя и полностью осознаем значение и смысл всего случившегося.
– Не засыпались бы!.. – с тревогой оглядываюсь я назад, наблюдая за происходящим на мосту. – На грех-то заглянут немцы под настил, и крышка ребятам – тут же прихлопнут.
Когда хвост колонны, благополучно миновав мост, сползает с него на дорогу, мы приходим в неистовый восторг.
– Ушли! – радостно бьет меня по плечу дядя Вася. – Вот-те хрен с цибулей – ушли! Ай, молодцы, ай да герои! И как быстро сообразили-то, ведь это надо же – так среагировать! Вот это парни так парни, ничего не скажешь! Люблю таких решительных да рисковых! Такие нигде не пропадут, из любой ситуации вывернутся, уж поверь мне!
– Ну, счастливого им пути да удачи! – от души напутствую беглецов я. – Доберутся вот до наших – порасскажут им о нас. Хоть знать там будут, где мы да куда еще нас гонят. Может, где и перехватят еще в дороге?
Но как ни велика радость по случаю успешного побега ребят, ее невольно омрачает неотступная мысль о постигшем меня одиночестве. Сознание, что с побегом Полковника и Павло я лишился последних товарищей из нашей девятки, приводит меня к унынию и тягостным раздумьям.
– Совсем теперь один остался! – с горечью вырывается у меня. – И когда это только они снюхаться успели? То я гляжу, они с самого выхода все вместе да вместе, такими вдруг неразлучными друзьями стали, что и водой не разольешь. И куда один, туда и другой – ни на шаг один от другого, да все о чем-то шушукаются да шушукаются. Теперь только дошло, о чем шептались, не иначе как о побеге и сговаривались.
– Что и говорить – осиротели мы с тобой оба, – поддакивает мне спутник, – из наших только я уцелел. Один, как перст, теперь. Положение, как видишь, и у меня не лучше.
Некоторое время мы идем молча, погруженные в свои невеселые думы.
– А давай-кось держаться вместе, – неожиданно предлагает шахтер. – Плюнь печалиться-то. Оба с тобой бобылями остались, вот и надо, выходит, объединиться. Все веселей будет. А там, глядишь, и еще кто примкнет. Ну, что скажешь на это? А?
Сдержанно улыбаясь, я пытаюсь прикинуться равнодушным.
– Придется, видно. Одно только и остается.
– Тоже, дескать, услугу делаю, – разгадав мою уловку, трунит дядя Вася, – а сам рад-радешенек. А ты не хитри! Вижу тебя насквозь. Хочешь ты, не хочешь, а деться тебе некуда. Одному остаться – гибель, а новых напарников еще поискать придется – не скоро сыщутся. Один я у тебя остался. Ну, ничего – жалеть не будешь. Положиться на меня можно – сам знаешь. Авось, поживем еще назло фашистам, вот увидишь.