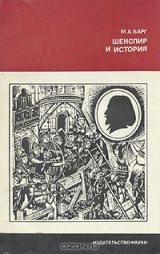
Текст книги "Шекспир и история"
Автор книги: Михаил Барг
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 14 страниц)
Тень Эссекса нависла над Англией. Его честолюбие все чаще вызывало на ум Генриха Болингброка. В письме Рауленда Уайта Роберту Сиднею от 5 ноября 1595 сообщалось: «В последний понедельник королева Елизавета показала графу Эссексу напечатанную книгу, в которой содержалась опасная похвала в адрес графа… По возвращении от королевы он выглядел бледным и огорченным. Он был очень болен». Среди государственных бумаг того времени есть заметка: «О мятежной книге, касающейся наследования короны Англии», показывающая, что автор оправдывает изменения в порядке наследования и выступает против короля Шотландии 11. В 1598 г., в канун отправки Эссекса в ирландскую экспедицию, появилась книга под названием «Первая часть жизни и правления Генриха IV», которую автор (сэр Джон Хейуорд) посвятил графу Эссексу. В обращении к читателю говорилось, что смена на престоле Ричарда Генрихом IV – «живой пример». Из 149 страниц книги 136 были посвящены Ричарду II. Таким образом, заглавие книги скрывало истину; это была книга о Ричарде II. По существу, в ней оправдывалось низложение этого короля. Однако, чтобы скрыть такую позицию, в книге приводилась речь епископа Карлейля, выступившего против данного акта. Не одобряет епископ и передачу короны Генриху Болингброку. Если Генрих искал корону как наследник, он должен был дождаться смерти Ричарда. Если он ее получил по праву завоевания, то кто королевского подданного назовет завоевателем? Ричард не мог при жизни на законном основании отдать свою корону, поскольку он даже не вправе отчуждать драгоценности, ей принадлежащие 18.
Известно, что Эссекс в том же 1599 г. самовольно вернулся из Ирландии и вскоре был взят под стражу. В июне 1600 г. его судили и оставили под стражей. На суде его поступки связывались с книгой Хейуорда. В июле того же года Хейуорд был вызван на допрос в Тайный совет и заключен в Тауэр. Архиепископ Кентерберийский распорядился: вырезать из книги Хейууорда посвящение Эссексу, все последующие издания ее сожжены. В августе 1600 г. Эссекса по распоряжению Елизаветы освободили из-под стражи. Он пытался заслужить расположение королевы, надеясь снова получить откуп на торговлю сладкими винами, приносивший огромный доход, но ему было отказано. Запутавшийся в долгах, Эссекс оказался в тупике. Его сторонники начали готовить мятеж. 6 февраля 1601 г. некоторые из них явились в театр Шекспира («Глобус») с требованием поставить драму о «низложении и убийстве короля Ричарда П». Актеры этому воспротивились, доказывая, что пьеса давно сошла со сцены и соберет мало зрителей. Но когда им обещали сумму более значительную, чем обычно приносил спектакль, сопротивление было сломлено.
7 февраля драма о «короле Ричарде» была показана, галереи театра заполнили сторонники Эссекса, а 8 февраля они вышли на улицы Лондона. Мятеж не удался, и его участники оказались в Тауэре. 19 июня Эссекс предстал перед судом и вскоре был обезглавлен. На суде ему предъявили обвинение в том, что на протяжении пяти-шести лет он готовил заговор с целью захватить корону Англии. Одним из доказательств этого обвинения служила посвященная Эссексу книга Хейуорда, а также спектакль о Ричарде, сыгранный по требованию мятежников. Характерно, что в изданиях драмы Шекспира о Ричарде II (1597 и 1598) сцена низложения Ричарда отсутствовала. Она восстановлена только в издании 1608г.
Мы столь подробно рассмотрели вопрос о политическом звучании истории Ричарда П (в последнее десятилетие правления Елизаветы), чтобы очевиднее стали тираноборческие мотивы в этой хронике Шекспира19. Итак, история Ричарда II – единственный в хрониках Шекспира эпизод, в котором мотивы низложения короля были даже в освещении тюдоровской историографии окрашены в тираноборческие тона. И хотя Шекспир ввел в драму всю аргументацию тюдоровской ортодоксии (относительно священности и нерушимости титула «помазанника божия»), она не могла затмить сам факт исторической победы аргументов прямо противоположных. Ведь Ричард, вопреки предупреждениям Карлейля, был все же низложен, более того, он сам «пожелал» участвовать в церемонии собственного низложения и передачи власти Генриху Болингброку. Для этой драмы – одной из наиболее «политических» среди хроник Шекспира – прежде всего характерно то, что в ней, по сути, отсутствует мотив провиденциализма. Низложение Ричарда II выступает как дело почти исключительно рук человеческих – как результат их свободного и сознательного решения. В самом деле, Генрих Болингброк ни разу не ссылается на волю божью. Его главный мотив – мотив политический: необходимость государственная,
К о р о л ь Г е н р и х.
Видит бог, об этом я не думал,
Если бы не нужды государства,
Не сочетался б я вовек с величьем.
«Генрих IV», ч. II, III, 1
Вторая, и, может быть, еще более важная, особенность анализируемой хроники заключается в том, что восстание против «законного монарха» рисуется в ней не только как дело рук феодальной знати, другими словами, что тираноборчество не носит на себе печать разновидности феодальной смуты. Шекспир это много раз подчеркивает ссылками на «страну», «государство», на поведение солдат, лондонцев и т. п. Это не обычный мятеж феодальных лордов – речь идет о воле народа, которая в конечном счете обеспечила успех Болингброка. С другой стороны, в драме разоблачены попытки Ричарда II связать свои интересы с провидением. Каждый раз, когда Ричард, не способный действовать как политик и военачальник, говорит о надежде на помощь неба, Шекспир находит повод разоблачить ограниченность, беспочвенность, иллюзорность подобных упований.
Итак, ортодоксии вопреки провидение осталось в стороне, и это потому, что от короля отвернулся народ. Речь идет, по сути, о всенародном выступлении против короля.
Белобородые на голый череп
Надели шлем, грозя тебе; мальчишки.
Стараются басить и заключают
В доспех тяжелый женственное тело,
Чтоб против власти выступить твоей.
Монахи учатся гнуть лук из тиса…
Грозя престолу;
И даже пряхи ржавым топором
Грозят венцу. Восстали стар и мал.
«Ричард II», III, 2
Убежденный в божественной природе собственной власти, Ричард II сделал вывод о безнаказанности своих действий, сколь произвольными они ни были. Но история его правления раскрыла глубокую ошибочность подобной концепции власти. Оказалось, что она основана на неписаном «договоре», на принципе «взаимности», нарушение которого наказуемо еще здесь, на бренной земле. Эту концепцию развивает не какой-то один персонаж драмы – к ней сводится «моральный урок», заключенный в пьесе.
Аристократические верхи
Мир Шекспира многолик. В поле его зрения, необычайно обширном, и такая этическая ценность елизаветинского общества, как «знатность».
Известно, что средневековая концепция знатности почти полностью базировалась на родословной, т. е. на принципе унаследования «благородной крови» от более или менее длинной цепи аристократических предшественников. Не отбрасывая этого критерия, гуманисты считали необходимым дополнить его критерием личных доблестей и моральных достоинств («virtu»). В конечном счете действенность традиционного критерия проверяется с помощью второго: выдающаяся доблесть и моральное превосходство, продемонстрированные в публичных делах, на службе государству, удостоверяют «цену» унаследованного титула. Наконец, одним из проявлений «virtu» в глазах гуманистов становится образованность. Знания – в известном смысле тоже проверка истинной знатности. В жизнеописании Пико делла Мирандолы, переведенной Мором, много места уделяется его учености. В частности, там сказано, что знания, «которые мы можем считать своими, в гораздо большей степени говорят о человеке, чем знатность его предков».
Перенесение центра тяжести на личные достоинства человека означало, что, чем более высоким является ранг знатности человека, тем больше требований должно предъявляться к личным его достоинствам. Унаследованный статус, таким образом,– не индульгенция, а обязательство, вексель, по которому наследник должен платить.
Однако превращение личных достоинств человека в критерий, удостоверяющий его благородство, не означало ниспровержения традиционного принципа наследственной знатности и перебазирования всей аристократической структуры на фундамент, краеугольными камнями которого являются личные заслуги. Отнюдь нет. Хотя Англия в XVI в. знала немало примеров возвышения простолюдинов благодаря их дарованиям или богатству (вплоть до верхних ступеней служилой иерархии), тем не менее гуманисты были далеки от мысли сменить наследственную аристократию аристократией таланта («добродетели не украшаются знатностью, а, наоборот, знатность украшается добродетелями»). Все сводилось к призыву: «Будьте достойны ранга». Так, Монтень придавал решающее значение личным достоинствам в сравнении с наследственным титулом человека, и все же он хотел бы их совместить. «Знатность,– отмечает он,– достойное и ценное качество, учитывающееся на здравом основании, но, поскольку оно во многом зависит от других [оснований], оно (в оценке личности) уступает личным достоинствам»20. Скорее всего, речь шла о том, чтобы использовать категорию «истинное благородство» для размежевания в рядах самой старой знати, для отбора из ее среды действительно достойных, истинных носителей «virtu» и тем самым заслуживающих своего высокого положения в государстве. Недаром все книги о воспитании того времени адресуются прежде всего титулованной знати.
Итак, цель всех ренессансных рассуждений насчет критериев «истинного благородства» заключалась не в том, чтобы облагородить простолюдина, а в том, чтобы возвысить знатного до морального и духовного уровня, к которому его обязывает сословный статус. Известный афоризм Филиппа Сиднея: «Я не геральдист, чтобы исследовать родословную людей, для меня достаточно, если я знаю их достоинства» – скорее относится к области личной морали гуманистов. Что касается социальной этики, то в ней господствовала презумпция, согласно которой знатный рожден с лучшими наклонностями и восприимчивостью к добродетели. Отсюда делалось заключение: знать – украшение государства.
Мы видим, таким образом, огромный разрыв между постулатами частной морали гуманистов и нормами их социальной морали. Ту же двойственность в истолковании понятия «знатность» легко обнаружить и в пьесах Шекспира: знатность как принадлежность родовая, сословная и благородство как характеристика личных достоинств человека. Наиболее ярким примером служит король Лир. Нет сомнения в том, что Лир благороден, и вовсе не потому, что он король, это свойство его натуры, оно выступает тем явственнее, чем дальше он отстоит от реалий, связанных с обладанием королевской властью. Лир униженный, бездомный, скитающийся в непогоду с непокрытой головой, по собственному убеждению, остается королем: на нем неизгладимая «печать сана».
Знатными являются и Гамлет, и Макбет, и в определенном смысле Отелло. Создается впечатление, что и Шекспир был убежден: истинное благородство имеет смысл искать только в среде представителей родовой или служилой знати. Однако, как уже подчеркивалось, Шекспир не декларирует этических идеалов, а исследует их в контексте истории. И здесь обнаруживается истинная суть абстрактных ценностей. Этика знати, если она традиционная, настолько себя изжила, что вместо восхищения способна вызвать лишь иронию, отвращение и возмущение; если же она ренессансная, то поразительно, как часто стремление проявить свои доблести порождает антисоциальную практику ренессансной личности, и более того – монстра. Как отмечал Элиот, «каждое» благородное сердце жаждет славы, но лестница, ведущая к ней, требует сердца не содрогающегося. Здесь заложен ключ не только к трагедии Макбета, но и к образу Хотспера – символа традиционной сословной этики знати: здесь объяснение истории его антипода – Генриха IV.
В драмах Шекспира мы, таким образом, находим массу оттенков в трактовке ценности, которая именуется «знатностью». Наиболее отчетливо сословное возвышение дворянства отрицается представителями простонародья. Устами могильщика Шекспир утверждает: «Нет стариннее дворян, чем садовники, землекопы и могильщики, они продолжают ремесло Адама» («Гамлет», V, 1). Гамлет раздумывает над бренностью земных почестей и титулов, наблюдая за могильщиком, который выбрасывает на поверхность череп. Кому он мог принадлежать: придворному, которому величие не позволяло замечать простых смертных, или лорду, кичившемуся славой предков?.. А теперь церковный сторож бьет его по скулам лопатой. «Поразительное превращение» (там же).
Наконец, в драме «Все хорошо, что хорошо кончается» глашатаем воззрений, отрицающих превосходство унаследованного титула над личной доблестью, выступает не кто иной, как король. Личное достоинство человека – более безошибочное основание для суждения о его благородстве, чем родословная. Когда граф Бертрам отказывается от брака с Еленой только на том основании, что она дочь бедного лекаря, король философски замечает: «Странно, что наша кровь, одинаковая у всех по цвету, весу и теплу, служит причиной для различий» (II, 3). Однако в последнем случае ситуация исключительная: Елена, исцелившая безнадежно больного короля, тем самым могла претендовать на личное (дарованное ей) дворянство.
И все же не эти примеры определяют типичную для драм Шекспира концепцию социальной этики. Идеальным, по-видимому, ему представлялся аристократический строй, воплощавший в себе оба критерия: принцип родовитости в государстве и принцип личного достоинства человека в гражданском обиходе. Этот идеал провозглашен устами короля Генриха V:
…Мы ценим лиц ученых…
Мы ценим родовитых…
……………………………………….
Украшенных дарами совершенства.»
«Генрих V», П, 8
Однако в окружавшем Шекспира обществе все еще безраздельно царил принцип «лучшей крови», и это не могло не сказаться в тех случаях, когда в пьесах прямо или косвенно отражалась идеология «власть имущих».
В той же хронике «Генрих V» один из приближенных короля обращается к нему с просьбой:
Позвольте обойти нам поле битвы,
Убитых сосчитать, предать земле
Дворян отдельно от простых людей.
Там же, IV, 7
Павших в сражении дворян называют по имени, у простых солдат нет имен, в лучшем случае справляются об их численности.
Только в одном отношении елизаветинское общество отступило от средневекового идеала знати: оно было враждебно старой феодальной знати – своевольной, мятежной, привыкшей вступать с королем в «отношения договорные», но не желавшей мириться с безраздельным господством королевского права, с положением подданных и королевских слуг.
И хотя ко времени Елизаветы такого рода знать была уже крайне малочисленной, тем не менее ее своеволие, вероломство, мятежность представляли определенную опасность для королевского мира. Уничтожающая характеристика этой знати содержится в драме «Генрих IV». Ее типичный представитель – Гарри Перси, сын графа Нортемберленда, весьма недвусмысленно прозванный «горячей шпорой». Слава – вот тот идол, которому Хотспер молится, служит, посвящает всю свою жизнь. Однако поле, на котором она произрастает,– не труд, не творчество, а война, кровопролитие. «Скорее смирюсь с утратой хрупкой жизни, чем гордой славы…» («Генрих IV», ч. I. V, 4). Хотспер безрассудно храбр, он признан первым рыцарем королевства.
Нет дворянина, признает его соперник принц Уэльский, кто бы был
…Средь дворян… такой
Отважно юный, ревностно отважный,
Бесстрашный рыцарь, что украсить мог бы…
Подвигами наше время.
Там же, ч. 1, V, 1
Сам же он не скрывает, что им движет лишь мысль одна – о подвиге, неутомимая жажда славы, которую «делить не надо с соперником своим». Неудивительно, что он бредит войной: «Носов разбитых, черепов дырявых побольше нам давай!» (II, 3). Разумеется, принц Генрих, в юности далеко не образец «благочестивой жизни», имел повод потешаться над безрассудной воинственностью Хотспера. Перебив до завтрака шесть или семь дюжин шотландцев, он затем, вымыв руки, обращается к жене: «Мне надоела эта спокойная жизнь! Мне не хватает «дела»!» – «О милый Гарри,– спрашивает она,– сколько человек ты убил сегодня?» – «Напоите моего Чалого,– говорит он и отвечает через час: – Человек четырнадцать, сущие пустяки» (там же). Поиск «настоящего дела» выливается для него в конечном итоге в заговор против короля и в мятеж, потрясший все королевство.
Ослушник королевской воли (Перси отказывается передать королю захваченных в плен шотландцев), он признает только одну форму связи с королем – «договорную», на условиях «уступка за уступку», иначе говоря, он признает себя не подданным, а только «договаривающейся стороной». Естественно, что рамки «королевского мира» ему тесны, поскольку «право» определяется для него лишь силой, к тому же королевскому праву он противопоставляет свое «родовое право». Итак, перед нами столкновение двух начал: государственного и феодального. Мятеж Перси – предвестник растянувшейся почти на целое столетие феодальной смуты и усобиц. Он – олицетворение тех общественно-политических нравов, которые известны в истории Англии как «незаконнорожденный феодализм» 21.
Характерен «механизм» феодального (антигосударственного) заговора. Все заговорщики – родичи Хотспера: его отец, Нортемберленд, его дядя, Вустер, его шурин, Мортимер, тесть Мортимера – Глендауэр, наконец, шотландец Дуглас, всегда готовый воспользоваться внутренней смутой, чтобы поживиться на английской земле. Очевидно, что перед нами не «возмущенные подданные», не политическая оппозиция, не общественное движение, а выступление феодального клана, который хотя и не может претендовать на английский трон, но стремится им распоряжаться по своему усмотрению. «Коль жить, так королей свергать; коль смерть, так славная, чтобы принцы гибли с нами!» – провозглашает Хотспер (там же, V,3).
Еще одна деталь: восстание только «планируется», а его участники уже готовы сцепиться из-за неподеленной добычи. Англию делят на части руководители мятежа, и «идеальный рыцарь» Хотспер предстает скорее главарем банды грабителей, чем политиком, преследующим государственные интересы. «По-моему, – заявляет он, глядя на карту Англии, – владение мое от Бертона на север меньше ваших. Взгляните, как излучина реки большой кусок… моих владений лучших отрезает» (там же, III, 1).
Естественно, что при наличии сколько-нибудь эффективной центральной власти феодальный мятеж подобного рода был обречен на поражение. Нортемберленд под предлогом болезни не поддержал мятежников, Глендауэр с войсками задержался, Хотспер был сражен в поединке с принцем Генрихом, а Дуглас попал в плен. Таковы принципы этики и политики феодальной знати. А какова их изнанка? На этот вопрос призван ответить сэр Джон Фальстаф – рыцарь лишь по званию. Средневековая Англия – не Германия. Дворянин, лишенный имущества и доходов, не занятый ни на государевой, ни на частной службе и вместе с тем желающий жить, как «джентльмен», т. е. не зная физического труда, не может заниматься систематическим грабежом на большой дороге. Путь к виселице здесь сравнительно короток. Нужен недюжинный ум, изворотливость, ловкость и, если угодно, юмор, неистощимый юмор, чтобы долгое время получать в кредит пищу и ночлег 22.
Оказавшись по воле судьбы вне рамок своего сословия и наблюдая окружающее со стороны, деклассированный дворянин выступает нередко проницательным критиком «театра жизни». Оказавшись «на дне», он видит ее изнанку. Фальстаф воссоздает эпос целой эпохи. В данном случае мы остановимся только на одном высказанном им наблюдении, потрясающем и неожиданно открывшейся истиной, и мерой выхолощенности одной из величайших средневековых этических ценностей – чести.
Фальстаф, прикинувшийся мертвым на поле битвы, чтобы остаться в живых, затем, когда опасность миновала, вскакивает и наносит мечом удары уже сраженному – в поединке с принцем – Хотсперу, чтчобы приписать себе победу над «первым рыцарем Англии». Именно он, изолгавшийся, трусливый, «жирный рыцарь», берется рассуждать на тему: что такое честь? И следует признать, что он убедительнейшим образом показал миру абсурдность феодального понимания этой ценности.
«Может ли честь приставить ногу? – задается вопросом Фальстаф и отвечает: – Нет. Или руку? Нет. Или уменьшить боль от раны? Нет. Значит, честь не очень искусный хирург? Нет.
Что же означает честь? Слово. Что же заключено в этом слове? Воздух… Кто владеет честью? Тот, кто умер в среду. А он ощущает ее? Нет… Слышит ее? Нет. Значит, честь не ощутима? Да, для мертвых она не ощутима. Но не может ли она остаться среди живых? Нет. Почему? Этого не допустит злословие. Поэтому я и не хочу чести. Она не более как щит с гербом, который несут за гробом (там же, V, 2). Таков новый век: предания о рыцарских подвигах питают буффонаду, рыцари превращаются в буффонов, буффоны пародируют рыцарей. Для этого достаточно, чтобы о чести поведал Фальстаф.
Итак, честь как монопольный атрибут знатности, как нечто, завоеванное индивидом исключительно для себя, вопреки общему благу, честь как военная добыча – цена бессмысленных убийств и кровопролитий, честь как повод для бесконечного местничества и соперничества, то и дело приводящих к новым смутам,– эта честь была с помощью здравого смысла низведена с пьедестала на землю, где она искони означала и нечто более глубокое, и неизмеримо более существенное и драгоценное в жизни народной.
Народные низы
В XVI в., когда низы столь красноречиво продемонстрировали свою роль в судьбах народов и государств, достигшая вершины ренессансная историография объявила, как это ни парадоксально, двигателями истории одних лишь правителей, просвещенных и мудрых, ибо только они якобы знают пути достижения «общего блага». Отсюда двойственное отношение даже исторически мысливших гуманистов к народным низам: их бедственное положение вызывает у них искреннее сострадание, служит поводом для морализирования на тему о порочности сильных мира сего, «неустроенности» государства, толкает на создание проектов идеального государства и т. п.; вместе с тем они считают, что народные низы, отмеченные, по их мнению, всеми пороками невежества, должны «дожидаться» улучшений сверху, т. е. оставаться объектом истории. Об их благе следует заботиться тем, кому дано знать, «что такое благо» и каковы пути его достижения. Каждая же попытка низов вмешаться в ход истории вызывает у гуманистов искренний ужас. Народные движения – бич государства, они разрушительны, угрожают хаосом и поэтому должны быть искоренены в христианском мире 23.
Пример великого Мора более чем показателен. Известно, что среди гуманистов Европы XVI в. не было другого мыслителя со столь острым социальным зрением, столь глубоко проникшего в классовую сущность господствующих в стране порядков.
«Что это за справедливость,– заявляет он в «Утопии» устами путешественника Гитлодея,– что богатые банки и ростовщики… либо ничего не делающие, или занимающиеся тем, что приносит мало пользы общему благу, должны жить в таком богатстве и удовольствиях… Когда в то же время бедные работные люди, возчики, кузнецы, плотники и пахари, великим и постоянным трудом, подобно вьючным и упряжным животным, едва могут существовать. Между тем их труд столь необходим, что без него государство не могло бы просуществовать и года. Условия рабочего скота могут казаться много-лучшими в сравнении с жизнью бедных тружеников» 24. Почему же этот великий обличитель социальных зол и пороков современного ему общества, после написания «Утопии» выступил с решительным осуждением Крестьянской войны в Германии, вызванной, по его мнению, Реформацией?
Обрушиваясь на Лютера за отступничество от католической ортодоксии, он, между прочим, писал: «Весь свой яд Лютер приправил особым средством – свободою, которую он всячески восхвалял перед народом… внушая людям, что раз они верующие христиане, то Христу они приходятся чем-то вроде двоюродных братьев; поэтому, кроме евангелия, они от всего полностью свободны и не подвластны магистратам, обычаям и законам страны как духовным, так и светским. Хотя Лютер утверждает, что терпеливо сносить власть папы, князей и других правителей, называемых им тиранами, добродетельно, он все же считает верующих настолько свободными, что повиноваться властям им нужно ровно в такой же мере, в какой вообще следует сносить всякую несправедливость» 25.
Очевидно, что Мор разошелся с Лютером не только из-за вопросов вероучения, он явно испугался социальных последствий Реформации и народных движений. В том же памфлете Мор продолжает: «Они стремятся перевернуть мир вверх дном», прикрываясь как щитом евангельской свободой. Простой народ радовался, когда он слышал нападки на духовенство и князей и вообще на всякую власть в городах и общинах. Наконец, дело дошло до того, что движение перешло к открытым насильственным действиям». Восставших крестьян Мор называет «толпой безбожных еретиков». «Лютеровские крестьяне,– заключает он,– вскоре настолько осмелели, что поднялись против своих светских государей». Те спаслись, за одно лето уничтожив 70 тысяч лютеран, «но все это было сделано уже после того, как те успели причинить много зла» 26.
Не правда ли, если бы на этом памфлете не значилось имя Мора, трудно было бы предположить, что он принадлежит перу автора «Утопии», настолько он откровенно враждебен народным движениям, которые угрожают гражданскому порядку и служат помехой на пути к действительным «улучшениям». В этом отразилось столь характерное для ренессансного гуманизма глубокое недоверие к историческому сознанию масс, к степени их политической зрелости.
Отчетливо обнаруживавшаяся двойственность гуманизма в его отношении к низам не могла не проявиться и в творчестве Шекспира. Специфика этой двойственности может быть выявлена лишь при попытке ответить на основной вопрос: в какой роли выступает простой народ в хрониках Шекспира – «фона» или деятельного фактора истории, «свидетеля» соперничества между знатью и королевской властью или участника более глубокого движения, в котором отражен конфликт между угнетенными низами и господствующими верхами?
Перед нами один из наиболее интересных вопросов современного шекспироведения. Со времени Георга Брандеса существует традиция, подчеркивающая резко отрицательное отношение Шекспира к народным низам, причем как черту личную, биографическую: тонкая нервная организация художника «не выносила плебейскую атмосферу». Презрительные выражения, отпущенные в адрес простонародья Кориоланом, или саркастическое изображение восстания Кэда и т. п. истолковываются как свидетельства «личного недружелюбия» драматурга к толпе, его стремления «облагородиться», утвердить свое достоинство «джентльмена», возвыситься на социальной лестнице и т. п. Выше уже подчеркивалось, насколько неправомерно приписывать Шекспиру те или иные суждения героев его драм. Максимальное, что может попытаться в данном случае сделать современный исследователь, это выяснить, в какой мере изображение народных низов в драмах Шекспира совпадает или отклоняется (и в какую сторону) от литературного стереотипа тюдоровской эпохи. Тюдоровская эпоха вообще, а елизаветинская в особенности была чрезвычайно чувствительной («комплектарной») к образу мыслей и намерениям народных низов. Общественным верхам всюду мерещились искры народных мятежей, грозящих опрокинуть «устоявшийся порядок», в каждом пуританине подозревали «скрытого анабаптиста», в каждом уличном проповеднике – нового Джона Болла. Исторические имена – Уота Тайлера, Джека Строу, Джека Кэда, уже давно ставшие нарицательными в тюдоровской «охранительной» пропаганде, превратились в клеймо, к которому то и дело прибегали для запугивания обывателя и натравливания имущих на «возмутителей спокойствия».
Приведем лишь одну иллюстрацию: сценический герой елизаветинского театра – Джек Строу, исторический прототип которого был одним из предводителей Крестьянского восстания в Англии 1381 г. Его «исповедь» содержала признание в «самом „страшном” – стремлении восставших установить в стране и общность имущества» и завершалась наивным воспроизводством тюдоровского стереотипа – заклинанием: «Пусть никогда не забудутся наши изменнические имена. Страшная тропа, на которую мы ступили, богом проклята».
Раскрытие той же темы в драмах Шекспира намного сложнее. Традиционно христианское возвышение «меньшого брата», его морального превосходства, его близости к источнику истины переплетается в них с гуманистическим недоверием к толпе, неспособной к самостоятельному историческому творчеству. Эта двойственность в изображении места и функции низов в историческом движении народа нашла в творчестве Шекспира многоплановое воплощение. Прежде всего она сказалась в противоположении народа как объекта истории и народа как субъекта ее, народа рассуждающего и народа действующего, но, быть может, нагляднее всего – в противоположении морального и духовного облика простолюдина как обособленного индивида и того же простолюдина, когда он выступает в сообществе себе подобных, т. е. толпы.
При этом нужно иметь в виду, что двойственность сводилась к двум планам: субъективному (осознанному) и объективному (неосознанному).
Двойственность первого рода лежит на поверхности. С одной стороны, в хрониках легко найти реплики, в которых отразился господствующий стереотип, т. е. пренебрежительное отношение к простонародью, массе. Она невежественна, вспыльчива, легковерна, неустойчива, стремится к разрушительным действиям.
…Даже страшный многоглавый зверь —
Изменчивая, бурная толпа…
«Генрих IV», ч. II, пролог
«От злобной черни можно ждать услуги – что растерзает нас подобно псам» («Ричард II», II, 2). Такого рода клише почти всегда вложены в уста представителей власть имущих: королей, знати, магистратов. Подобные суждения о простонародье были столь распространены в этой среде, что, воспроизводя их, Шекспир лишь запечатлел одну из характеристик социальной этики верхов.
С другой стороны, если судить по тем репликам, которые Шекспир вкладывает в уста простолюдинов, то трудно удержаться от заключения, что в народе он видит самого проницательного мудрого и неподкупного судью в делах государственных 27.
Вспомним, что наиболее глубокие причины низложения Ричарда II Шекспир излагает устами простого садовника:
Кто не навел в саду своем порядка,
Тот сам теперь увянуть обречен.
Он дал приют под царственной листвою
Прожорливым и вредным сорнякам,
Считая, что они – его опора…
Как жаль, что не хранил он, не лелеял,
Свою страну, как мы лелеем сад!








