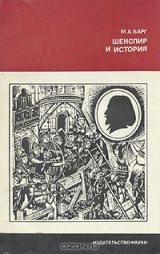
Текст книги "Шекспир и история"
Автор книги: Михаил Барг
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
Там же, III, 4
Более того, именно садовнику Шекспир «поручил» изложить программу гармонического государства: Тебе же надлежит, как палачу, Отсечь чрезмерно длинные побеги, Которые так вознеслись надменно: Пусть в царстве нашем будут все равны,– Я ж сорняки выпалывать начну, Которые сосут из почвы соки И заглушают добрые цветы.
Чтоб не смогли плодовые деревья
Погибнуть от переполненья соком,
Весной мы надрезаем им кору.
Когда б с вельможами так поступал он,
Росли б они на пользу государству,
А он вкушал бы верности плоды.
Мы обстригаем лишние побеги,
Чтоб дать простор ветвям плодоносящим.
Там же
Примерами политической проницательности и государственной мудрости народа изобилуют и другие хроники. Напомним только, что ренессансную концепцию моральной ответственности короля перед подданными Шекспир вложил в уста простого воина, «беседовавшего» с Генрихом V в канун битвы при Азинкуре.
Разумеется, более чем наивно видеть в Шекспире «народолюбца» или проповедника сострадания к «меньшому брату», но было бы и непростительной близорукостью не замечать, что Шекспир, как великий реалист, усматривал в народе (а не в его властителях) источник высших моральных и духовных ценностей, в том числе и политической мудрости. Таков «осознанный» план хроник. Обратимся теперь к плану «неосознанному», т. е. присутствующему в тексте не как явно сформулированная позиция, а неявно (косвенно), за сообщенным фактом, оброненным замечанием по другому поводу и т. п. Но сначала коснемся того, почему вопрос об исторической роли народа мы отнесли именно к этому плану. Прежде всего потому, что для современной Шекспиру исторической мысли – и тем самым для него – этого вопроса еще не существовало. Народ и история были понятиями несовместимыми, взаимоисключающими. Народ как субъект к истории отношения не имел, точно так же как история проносилась где-то высоко над народом. И это нетрудно объяснить. Историческая традиция, восходившая к средним векам, из всех сфер социально-исторического процесса держала в поле зрения только сравнительно узкую полоску его, именуемую ныне политической историей. Это была история династий, войн (внешних и внутренних), фактов законодательства, управления, суда и т. п. Естественно, что на форуме этой истории народ отсутствовал. В ней речь шла почти исключительно о прослойке правителей, а не о массе управляемых. Следовательно, хроники должны были лишь предполагать существование народа, платящего налоги, поставляющего ополченцев для войн, жалующегося, покорного или мятежного,– и все это происходило где-то за исторической сценой или в незримой глубине ее. Таков стереотип эпохи. Однако Шекспир, сам едва ли сознавая это, нарушил конвенцию и, по сути, поставил вопрос о роли народа в судьбах государства, в истории. Наиболее отчетливо это выражено в «Кориолане». Кориолан, возведенный сенатом в сан консула, нуждался в публично выраженном одобрении народа.
М е н е л а й.
Обратись теперь к народу с речью, как велит обычай
К о р и о л а н.
Позвольте мне его не соблюсти.
Не в силах я стоять перед толпою…
Молить ее отдать мне голоса.
С и ц и н и й.
Избранье без народа – незаконно,
А он не даст обычай нарушать.
«Кориолан», II, 2
Но Древний Рим того времени – республика, а в Англии наследственная монархия. «Голос» народа в государственных делах Рима, конечно, не может служить критерием для оценки положения вещей в Англии. Наиболее характерна в этом смысле беседа горожан на лондонской улице в дни, когда распространилась весть о смерти короля Эдуарда IV.
П е р в ы й г о р о ж а н и н.
Сосед, день добрый! Вы куда спешите?
В т о р о й г о р о ж а н и н.
Скажу вам правду, я себя не помню. Слыхали вести?
П е р в ы й г о р о ж а н и н.
Да, король (Эдуард IV.– М. Б.) наш умер.
В т о р о й г о р о ж а н и н.
Плохие вести; уж добра не ждите.
Боюсь, вся наша жизнь пойдет тут прахом.
……………………………………………….
Т р е т и й г о р о ж а н и н.
Тревожное нам время предстоит.
……………………………………………….
В т о р о й г о р о ж а н и н.
Нет, правда, все сердца дрожат от страха.
Ты, с кем ни говори,– глядит он грустно,
И полон ужаса печальный взгляд.
Т р е т и й г о р о ж а н и н.
Пред бедствием всегда бывает так!..
«Ричард III», II, 3
Казалось бы, о какой роли народа в истории можно говорить, будучи свидетелем данной беседы? Не значит ли это, что можно согласиться с мнением, будто народ у Шекспира не представлял самостоятельной, а тем более решающей, политической силы, с которой должны были считаться власть имущие? Отнюдь нет. Из истории, воссозданной в хрониках, следует вывод иного рода: народ не только свидетель событий, даже когда он не проявляет свою волю в самостоятельных действиях, его отношение к событиям (выраженное как «настроение», ропот, недовольство и т. п.) – фактор, определяющий их течение и исход. Ричард Глостер, замысливший овладеть короной, хорошо учитывал это обстоятельство. Поэтому он счел нужным призвать лорда-мэра Лондона для объяснения «причин» столь поспешной (без суда и следствия) казни Гастингса; поэтому и было поручено проповеднику Шоу публично отрицать законность брака Эдуарда IV с Елизаветой Грей и, следовательно, законность титула его наследников; поэтому Бекингем и отправился в ратушу столицы, чтобы подготовить горожан к предстоящей коронации Ричарда Глостера. В конечном итоге отвращение народа к узурпатору и тирану и предрешило его скорое падение. Желал Шекспир или нет, он увидел в народе силу, которая только своей «эмоциональной реакцией» на происходящее поворачивает ход политических событий. Хотя роль масс сводится, как правило, к одобрению или порицанию тех или иных поступков правителей и происходящих событий, с ними явно приходится считаться.
Г л о с т е р.
Ну как? Что горожане говорят?
Б е к и н г е м.
Да что!.. Безмолвствуют, не говорят ни слова.
Г л о с т е р.
Сказал, что дети Эдварда ублюдки?
Б е к и н г е м.
Ну да. Сказал…
О похоти сказал и о насильях
…………………………………………
Над горожанами, о казнях страшных
За пустяки; о том, что он ублюдок,
Что не похож он вовсе на отца;
Потом о вашем сходстве говорил я,—
…Я ничего
Не упустил, что было б вам полезно.
Когда же кончил речь, я предложил
Всем…
Кричать: «Да здравствует король наш Ричард!»
Г л о с т е р.
Ну, а они кричали?
Б е к и н г е м.
Помилуй бог, ни слова не сказали,
Как будто камни или истуканы…
Роль «народа», «одобряющего» замыслы Ричарда, выполнили «молодцы» Бекингема, стоявшие в ратуше «поодаль».
Вверх шапки кинули…
И жидко крикнули: «Король наш Ричард!»
Там же, 111, 7
Это безмолвие народа в момент «избрания» разве не предвещает скорого падения узурпатора?
Еще более убедительно решающая роль народа в судьбе венценосцев изображена в драме «Ричард II». Ликование лондонцев при встрече Болингброка и нескрываемое презрение к Ричарду предрешили в конечном счете согласие Ричарда на коронацию Болингброка.. Вот слова Генриха IV:
Похитил я приветливость у неба,
Облекся я смирением таким,
Что стали все сердца ко мне стремиться,
Меня встречали дружным криком…
«Генрих IV», ч. I, III, 2
А вот случай, когда непосредственное выступление народа круто изменило расстановку сил при дворе Генриха VI.
С о л с б е р и.
Властитель, просит вам сказать народ,
Что если Сеффолка не обезглавят
Иль не изгонят из страны родной,—
Они его отсюда вырвут силой…
«Генрих VI», ч. II, III, 2
И хотя лорд Солсбери только передал королю требования толпившегося у ворот народа, хотя он явился уполномоченным «от медников», а голос народа, как значится в авторской ремарке, раздавался за сценой, этот голос был достаточно грозным, чтобы «святой» король тотчас уступил и Сеффолк был изгнан из пределов Англии. Разумеется, от изображения подобных эпизодов «вторжения народа» в ход истории до подлинного осознания его исторической роли еще очень далеко, однако несомненно, что сама эта проблема, пусть неосознанно, для Шекспира уже существовала. И это объясняет, почему действия народа становятся в хрониках важнейшим, типическим обстоятельством, определяющим развитие истории в ее решающие моменты.
В заключение остановимся еще на одном вопросе: как трактуются Шекспиром народные движения?
Как мы могли убедиться, Шекспир лишь продолжал ренессансную традицию, усматривавшую в народных движениях источник общественного хаоса и помеху на пути к «улучшениям», ожидаемым от просвещенных магистратов, философа-монарха. С данной точки зрения не делалось различия между феодальными смутами и народными движениями. И в том и в другом случае вместо установленного порядка, мира и гармонии утверждался якобы волчий закон сильного.
В «Речи» Томаса Мора, обращенной к восставшим подмастерьям, обрушившим свой гнев на живших в городе чужеземцев, «речи», как предполагают, сочиненной Шекспиром (в драме «Сэр Томас Мор»), мы читаем:
Допустим, что они изгнаны и что этот ваш мятеж
Низвел на нет все чины и степени в стране,
Представьте, что вы видите жалких чужестранцев,
С младенцами на руках и жалким скарбом,
Бредущих к пристаням в поисках кораблей.
И что вы восседаете на троне своих желаний,
Что в шуме буйном мятежа умолкли власти
И вы невозбранны в своем самомненье.
Что же приобрели вы? Я скажу вам: вы преподали урок,
Как торжествует наглость и грубая сила,
Как разрушать порядок. Но, поверьте, в подобных условиях
Никто из вас не достигнет почтенной старости.
Ибо другие головорезы, по вашему примеру и прихоти своей,
По праву голой силы поглотят вас, и люди, подобно хищным
Акулам, будут пожирать один другого 28.
Поразительно, до чего изображение последствий мятежей в «речи» Мора созвучно заключению речи Улисса:
…Если б только сила
Давала право власти; грубый сын
Отца убил бы, не стыдясь нимало,
Понятия вины и правоты…
………………………………
Исчезли бы и потеряли имя,
И все свелось бы только к грубой силе,
А сила – к прихоти, а прихоть – к волчьей,
Звериной алчности, что пожирает…
…………………………………….
Самое себя.
«Троил и Крессида», I, 8
Но поскольку в этом откровенно отрицательном, даже враждебном отношении Шекспира к народным восстаниям и мятежам нет ничего специфического, индивидуально присущего только ему, его мировидению, то вряд ли в этом заключен ответ на интересующий нас вопрос. Наше внимание должно быть направлено на те черты шекспировской трактовки проблемы, которых нет или которые, во всяком случае, крайне редки в литературе этой эпохи и поэтому составляют особенность только его пьес. Поиски в данном направлении приводят к наблюдениям и идеям, которые отражают чаяния низов,– к системе воззрений, во всех отношениях противоположной господствующему стереотипу.
В самом деле, еще в одной из первых хроник – в «Генрихе VI» (ч. II) – мы слышим о жалобах народа на огораживания общинных земель, предпринимаемые лордами. Так, герцог Сеффолк обращается к явившемуся к королю просителю: «Ты о чем? Что там? (Читает.) На герцога Сеффолка, огородившего мелфордские выгоны. Что это значит, господин плут?». Второй проситель: «Ах, сэр, я ведь только бедный проситель от всего нашего города» («Генрих VI», ч. II, III, 3). В сцене на кладбище, глядя на выброшенный могильщиком из ямы череп, Гамлет замечает: «Вот еще один. Вообразим, что это череп законника… Гм! В свое время это мог быть крупный скупщик земель…» («Гамлет», V, 1). Эта тема в творчестве Шекспира приобретает в дальнейшем все более громкое звучание.
Трагического пафоса она достигает в «Короле Лире».
Л и р.
Бездомные, нагие горемыки,
Где вы сейчас? Чем отразите вы
Удары этой лютой непогоды —
В лохмотьях, с непокрытой головой
И тощим брюхом?..
«Король Лир», III, 1
Не менее красноречиво представлено и положение городской бедноты в драме «Кориолан». «Пекутся о нас! – иронически замечает горожанин.– Нечего сказать! Да они (т. е. отцы города.– М. Б.) никогда о нас не заботились, у них амбары от хлеба ломятся, а они морят нас голодом. Да издают законы против ростовщичества, которые идут на пользу ростовщикам, для бедняков, что ни день, издают новые постановления, чтобы покрепче скрутить и прижать их» (I, 1).
Созвучна «Утопии» и критика Шекспиром наступившего всевластия золотого тельца.
Тут золота достаточно вполне,
Чтоб черное успешно сделать белым,
Уродство – красотою, зло – добром.
Трусливого – отважным….
Оно
Подушку вытащит из-под голов
У тех, кто умирает. О, я знаю,
Что этот желтый раб начнет немедля
И связывать и расторгать обеты…
Заставит обожать, возвысит вора,
Ему даст титул и почет всеобщий…
Ты – шлюха человечества…
«Тимон Афинский», IV, 3
Золото – причина вражды и войн народов, всех бед, оно превращает общество в скопище льстецов, в котором «пред каждой из высших ступеней нижайшая стоит благоговейно». Оно уродует природу человека: найти дружбу можно только во сне, доброта оказывается худшим из зол, «все вкривь идет – прямого ничего» (там же).
Воззрения Шекспира на причины и цели народных движений с течением времени претерпели значительный сдвиг: от иронии и открытой насмешки – до глубокого проникновения в суть народных бедствий. Так, в изображении Шекспиром восстания Джека Кэда в хронике «Генрих VI» (ч. II) явно преобладает ирония: настолько он в ту пору еще находился под влиянием идеологического стереотипа.
Но даже из этой ранней пьесы можно узнать о целях восстания Кэда куда больше, чем из исторических и драматических источников, которыми пользовался драматург при создании хроники. Дело в том, что многие из современных ему идей и реминисценций Шекспир вложил в уста восставших в середине XV в. Так, они «заявляют» о своем желании «изменить все порядки» в стране, что означало прежде всего ликвидацию феодальной собственности на землю («все в королевстве будет общим, и мой конь будет пастись в Чипсайде»), Помимо этого, они хотят установления низких цен на продовольствие и уничтожения сословного неравенства («чтоб все ладили между собой, как братья»), отмены старых и издания новых (т. е. справедливых) законов и т. д. Но что означают эти повторяющиеся обещания Кэда: «Отныне все будет общим»? Отзвук плебейских требований, раздавшихся впервые в Англии в дни восстания Уота Тайлера и повторявшихся затем в каждом крупном народном движении (включая восстание в восточных графствах Англии в 1549 г.), или своеобразное «резюме» «Утопии» Томаса Мора? Возможно, и то, и другое, и даже третье – отражение плебейских устремлений, проявлявшихся на рубеже XVI и XVII вв.
Однако в пьесах периода зрелости драматурга и наступившего затем упадка мы, к своему удивлению, сталкиваемся в той или иной форме с теми же идеями29. С одной стороны, в этом факте как будто нет ничего удивительного. Слишком велик был в Англии слой людей, которые являлись носителями социально-уравнительных (не говоря уже о сословно-уравнительных) идей, слишком часто эти идеи связывались – в среде имущих – с народными движениями (одно из них вспыхнуло в центральных графствах Англии в 1607 г.). Естественно, что Шекспир не был бы великим реалистом, если бы в той или иной форме не отразил эти устремления. С другой стороны, мы не можем не задуматься над вопросом, в какой мере неизменным оставалось его личное отношение к страданиям и чаяниям низов. В «Гамлете» могильщики – явные враги сословных различий. В ответ на замечания одного из них о том, что звание землекопа и дворянина «от Адама», второй не без иронии спрашивает: «Разве он был дворянин?» – и первый могильщик говорит: «В писании сказано: „Адам копал землю”». Смысл этих речей хорошо уловил Гамлет: «С этим народом надо держать ухо востро… Клянусь богом, Гораций, за последние три года я заметил: все так осмелели, что простой народ наступает дворянам на ноги» (V, 1). Вообще вся эта сцена несет на себе печать реминисценции знаменитого вопроса Джона Болла, проповедовавшего перед восставшими крестьянами в 1381 г.: «Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто тогда был дворянином?». Здесь все примечательно. И ссылка на писание, и восхождение к «первому человеку» – Адаму, и установление его «сословной принадлежности», равной сословию землекопа,– все это характерно для идейного багажа народных низов тех дней и способа, каким они аргументировали свои сословно-уравнительные требования («Гамлет», V, 1).
Тенденция к имущественному уравнению явно обнаруживается в реплике одного из восставших горожан в «Кориолане»: «…Все добро – у патрициев. Нас могло бы спасти одно то, что богачам уже в горло не лезет. Если бы они отдали нам объедки со своего стола… мы сказали бы, что нам помогли по-человечески…» («Кориолан», I, 1).
Однако то, что говорили представители низов, не имело моральной силы в глазах респектабельной публики. Поэтому обратимся к Лиру. Король, пусть безвластный и нищий, но именно потому ставший символом высшей нравственности,– разве он не заявил:
Богач надменный! Стань на место бедных,
Почувствуй то, что чувствуют они,
И дай им часть от своего избытка
В знак высшей справедливости небес.
«Король Лир», III, 4
Наконец, вспомним кредо Тимона Афинского: кто он – олицетворение феодального мотовства или выразитель евангельской притчи «дарение – благо» – в данном случае безразлично, важно лишь, какой смысл «его слова» приобретали в Англии тех дней:
…И что мы можем назвать своей полной собственностью, если не имущество наших друзей? О, какое драгоценное утешение заключается в мысли, что такое множество людей может, подобно братьям, располагать состоянием друг друга!
«Тимон Афинский», I, 2
Итак, уравнительные идеи, которые в первых произведениях Шекспира проповедовали представители низов, в период зрелости драматурга исходят из уст «прозревших» представителей верхов. Правда, в последнем случае перед нами скорее мотивы евангельской благотворительности, нежели свидетельство осознания несправедливости существующего строя. Но вот другой пример: мысль об идеальном устройстве общества, высказанная представителем «правителей», оказавшимся (в результате бури) на пустынном острове. Гонзало («старый честный советник короля неаполитанского») говорит:
И королем бы здесь я стал, то, что бы
Устроил я?… Устроил бы я в этом государстве
Иначе все, чем принято у нас.
Я отменил бы всякую торговлю,
Чиновников, судей я упразднил бы…
Я б уничтожил бедность и богатство,
.Здесь не было бы ни рабов, ни слуг…
Ни прав наследственных, ни договоров,
Ни огораживания земель.
«Буря», II, 1
Перед нами противопоставление справедливого строя («возможного» на «неведомом острове») подразумеваемому несправедливому строю (на родине). Упоминание об огораживаниях как об одном из наиболее вопиющих воплощений этой несправедливости весьма характерно. И хотя в мечтаниях Гонзало нетрудно разглядеть мотивы, почерпнутые из описаний быта «дикарей» в новооткрытых землях, тем не менее как они созвучны «Утопии» Мора!
Наконец, вспомним восклицание Имогены в пьесе «Цимбелин» (III, 6):
О, если бы на земле существовали
Такие короли, под чьим господством
Исчезли б рабство, голод и нужда,
Дворцы такие, где одна лишь совесть
Мерилом бы величия служила.
Разумеется, контекст этих идей от пьесы к пьесе меняется, меняются и «эпоха», к которой они относятся, и «география» их распространения. Не сомневаемся, анализ этих идей в контексте надлежащих драм выявил бы не только разнородность обстановки, которой они были навеяны, но и различия их по существу. Однако сама возможность «составить» цепочку социально-утопических, уравнительных идей (первое упоминание которых мы находим в «Генрихе VI», а последнее – в «Цимбелине») приобретает важное значение для понимания специфики шекспировского историзма.
Итак, народные низы в хрониках Шекспира, даже когда они лишь словесно выражают свое отношение к происходящему на вершине власти,– великая историческая сила, в конечном счете – сила, решающая судьбы противоборствующих «партий». Постоянно исходящая от народа угроза активного вмешательства в ход исторических событий заставляет правителей действовать с оглядкой на него. Так или иначе – без «голоса народа» не происходит ни одно крупное событие в политической жизни страны. Но в то же время народные низы – сила стихийная; оказавшись на политической сцене, они тотчас же обнаруживают политическую незрелость, наивность. Характерно, что Шекспир в такой же мере отказывает восставшим низам в разумности действий (усматривая в последних лишь силу, разрушительную для государственного начала и, следовательно, с его точки зрения, столь же пагубную для блага самих восставших), в какой наделяет их высшей мудростью, когда они выступают в роли посторонних наблюдателей, судей политики власть имущих. В то же время сами низы отнюдь не склонны прислушиваться к устрашающим назиданиям «старшего брата» по поводу пагубности их действий: когда они оказываются на грани, за которой дальнейшее ухудшение уже невозможно, на грани отчаяния – они восстают. По этой причине всякое активное действие с их стороны может только вселять надежду на улучшение. Отсюда неустрашимость восставшего народа. И тем не менее не подлежит сомнению, что гуманистический идеал «гармонии в государстве», отразившийся в творениях Шекспира, основывался на сохранении и существующей монархии и унаследованного сословно-иерархического строя, при том, однако, непременном условии, чтобы этот строй базировался на принципе «взаимной полезности» и «добрососедства». В противном случае он теряет всякое разумное основание.
Глава VI
ХРОНИКИ В ЗЕРКАЛЕ ИСТОРИИ
Драма историй – неоценимая школа. Среди вещей, о которых человеку ради его же собственного блага следовало бы знать как можно больше, важное место занимает историческое прошлое народов. История! Как много мы хотели бы от нее узнать и, увы, как мало подчас она нам сообщает, как мало в состоянии сообщить!
Провалы исторической памяти огромны. Но что еще хуже это внедренные в память, сознательно или неосознанно, мистификации и легенды, занявшие место исторической истины. Мозаика из фрагментов подлинной истории и искусного вымысла, фиксация «преданий» в качестве «былого» и «достоверного» – как густо ими усеяны летописи отдаленных исторических эпох! Требуется огромный труд, чтобы, подобно расчищенной фреске на стене храма, открылся миру чистый лик исторической правды.
Известно, что одной из наиболее искусных легенд, включаемых до недавнего времени в «достоверную» историю Англии, являлась легенда о короле Ричарде III, правление которого совпало с завершающим этапом гражданской смуты – войны Роз. Портрет Ричарда, пути, которыми он шел к трону, его политика – все эти сведения, почерпнутые из хроник и перенесенные на страницы бесчисленных исторических повествований, рассматривались как нечто твердо и окончательно «установленное». И вдруг все это сооружение зашаталось…
Ричард III сценический
Если так случилось, что Ричард, герцог Глостер, а в последствии король Англии, являлся на протяжёнии столетий олицетворением самой демонической личности в Англии, то немаловажную роль в этом сыграл, несомненно, «Ричард III» Шекспира. Десятки поколений разноязычных зрителей (и, прежде всего, разумеется английских) усваивали шекспировскую трактовку этого характера, были потрясены лицемерием, коварством и цинизмом Ричарда-актера, его неслыханной жестокостью и дьявольским хладнокровием, его пренебрежением законами божьими и человеческими. Это историческое «образование» зрителей и читателей продолжается без малого четыре столетия. Неудивительно поэтому, что, если даже человек не очень сведущ в истории вообще и в английской истории в частности, он, тем не менее, о Ричарде III знает, и, знает, разумеется, по Шекспиру. Какие же исторические сведения преподносит зрителю шекспировская драма? Впервые мы сталкиваемся с Ричардом еще в “Генрихе VI”. Королева Маргарита, жена Генриха VI обращается к Ричарду со словами:
А ты не вышел ни в отца, ни в мать,
Но безобразный, мерзостный урод
Судьбой отмечен, чтоб тебя бежали,
Как ядовитых ящериц илы жаб.
«Генрих VI», ч. III, 2
Но Маргарита – враг, она ненавидит весь клан Йорков, и, кажется, больше всего совсем еще юного в ту пору Ричарда Глостера. Поэтому любопытно узнать, что думает о своем облике сам Ричард. И тут нас подстерегает неожиданность: в суждениях о себе самом он столь же беспощаден, как и его враги.
Я в чреве матери любовью проклят.
Чтоб мне не знать её законов нежных,
Она природу подкупила взяткой
И та свела, как прут сухой, мне руку
И на спину мне взгромоздила гору,
Где, надо мной, глумясь, сидит уродство,
И ноги сделала длины неравной,
Всем членам придала несоразмерность.
Стал я, как хаос
«Ричард III», I, 1
Таков в изображении Шекспира Ричард: ниже среднего роста, горбатый, кривобокий, правое плечо намного выше левого, хромой. Но могла ли природа быть более милосердной к внешности этого человека, если она должна была вселить в него еще более отвратительную душу? По крайней мере, для зрителей шекспировского театра в этом заключалась гармония: моральное и физическое уродство должны были обязательно сочетаться, одно предполагало другое. Исчадием ада во плоти человеческой предстает перед нами Ричард сценический. Его почти с колыбели обуяла одна страсть – жажда высшей власти. «Отец, подумай,– говорит еще дитя Ричард,– как сладко на челе носить корону» (там же, I, 1) . Эта всепоглощающая страсть на протяжении долгих лет определяла каждый шаг его, каждое слово. В монологе, венчающем вторую сцену третьего акта «Генриха VI», Ричард говорит:
Но раз иной нет радости мне в мире,
Как притеснять, повелевать, царить
Над теми, кто красивей меня,—
Пусть о венце мечта мне будет небом.
Всю жизнь мне будет мир казаться адом,
Пока над этим туловищем гадким
Не увенчает голову корона.
Столь же откровенно излагает Ричард свои затаенные помыслы и в монологе, которым открывается драма «Ричард III»:
Меня природа лживая согнула
И обделила красотой и ростом.
Уродлив, исковеркан я до срока…
Такой убогий и хромой, что псы,
Когда пред ними ковыляю, лают.
Чем в этот мирный и тщедушный век
Мне наслаждаться?..
Объяснение этой неутолимой жажды высшей власти для современников Шекспира звучало весьма убедительно. Во-первых, «моральное право» Ричарда принадлежность к королевскому роду, высшей феодальной знати воспринималось как нечто данное. Во-вторых, власть казалась не бременем, а родом удовольствия. Наконец, политическая история Англии – и не только Англии – была настолько полна феодальными усобицами, что никого уже не удивлял захват короны удачливым узурпатором. Но если обладание короной превращается в смысл всей жизни, то разве стоит задумываться над выбором средств, к которым приходится прибегать на пути к власти? И Ричард становится «сверхчеловеком», т. е. полностью свободным от «тщедушных» предписаний морали «простых смертных»:
Решился стать я подлецом и проклял
Ленивые забавы мирных дней.
Там же
Стоят меж мной и троном много жизней.
……………………………………………
Так мучусь я, чтоб захватить корону.
И я от этих лютых мук избавлюсь,
Расчистив путь кровавым топором.
«Генрих VI»,ч. III, III, 2
Если не считать правившего в ту пору короля – старшего отпрыска дома Йорков (и следовательно, старшего брата Ричарда) – Эдуарда IV, то на пути Ричарда к трону стояли прежде всего низложенный и находившийся в заточении в Тауэре король из дома Ланкастеров Генрих VI (слабовольный и слабоумный, годившийся только в «святые») и его жена, француженка Маргарита, энергии и отваге которой мог позавидовать любой полководец. Затем сыновья Эдуарда IV, появившиеся на свет к концу беспутной и скоротечной жизни «красавца-короля», и средний брат Ричарда – герцог Кларенс, у которого вскоре также родился сын и наследник. Если к этому списку прибавить внебрачных детей Эдуарда IV которые, невзирая на действующее право, также могли стать в решающий момент опасными для Ричарда, то понятно, какая ‚ трудная борьба предстояла ему, какие нужны были ловкость, изворотливость, ум, воля и целеустремленность, чтобы, отправляя соперников одного за другим в могилу, уберечь собственную голову для короны. В этом смысл обещаний Ричарда превзойти в жестокости сирену, а в коварстве Макиавелли. Не правда ли, как «трогательно» в устах Ричарда сравнение самого себя с Макиавелли! В нем, естественно, отразились суждения самого Шекспира (скорее, по-видимому, «наслышанного», чем начитанного) о характере и наставлениях великого итальянца государю.
Заметим, что вопрос о влиянии этой популярной версии «макиавеллизма» на формирование сценического образа Ричарда III представляется не столь существенным, как иногда кажется 1. Исторические судьбы творения родоначальника политической науки, каким является Макиавелли, примечательны: преподанные им уроки политической морали были восприняты и усвоены современниками (и Шекспир не был в этом смысле исключением) в «превращенном» виде, т. е. как уроки повседневной, житейской, «общечеловеческой морали». Поэтому, если уж говорить о влиянии «макиавеллизма» на формирование сценического образа Ричарда III то лишь в определенном смысле, как о «вторичном» его «превращении», т. е. о превращении «простого», житейского «макиавеллизма», свойств низменной натуры в орудие политики. А этому, как известно, Макиавелли не учил.
Сценический Ричард обладает всеми качествами популярного «макьявеля»: он не демагог, а человек демонической энергии, «дьявольский мясник». Ричард участвует в убийстве принца Эдуарда Ланкастера. Не успев еще вложить меч в ножны, он скачет в Лондон. «В Тауэр! В Тауэр!» – раздается клич на сцене. Достигнув цитадели, он врывается к заключенному там коронованному узнику Генриху IV и собственноручно закалывает его. Затем наступает черед братьев Ричарда. «Нет братьев у меня – не схож я с ними»,– признается Ричард (там же, V, 6).
И пусть любовь, что бороды седые
Зовут святой, живет в сердцах людей,
Похожих друг на друга,– не во мне.
Один я…
Там же
Итак, братская любовь, выдуманная «седыми бородами», выброшена на свалку.
Братья будут убраны так же хладнокровно, как враги – отец и сын Ланкастеры. Впрочем, короля Эдуарда IV Ричард предоставил судьбе. Обжорство и чрезмерно «легкий нрав» и так уже зримо сокращали срок его пребывания на троне.
Камнем преткновения становился герцог Кларенс. И Ричард решает его убрать, но… по воле самого короля.
… Кларенс, берегись: ты застишь
Мне свет,—
Я черный день тебе готовлю.
Я брату нашепчу таких пророчеств,
Что станет Эдуард за жизнь страшиться;
Чтоб страх унять, твоею смертью стану.
Там же
Семена интриги падают на благодатную почву: ведь королева (жена Эдуарда IV) и многочисленные ее родственники открыто ненавидят Кларенса – вероломного, несдержанного на язык, не выносившего весь клан королевы. Когда же Кларенс сначала попадает в Тауэр а затем погибает, Ричард разыгрывает – и как искусно! – роль жалостливого ходатая и преданного родственника осиротевшей семьи. В «Генрихе VI» уже звучит угроза потомству короля. Эдуард IV обращается к сыну:








