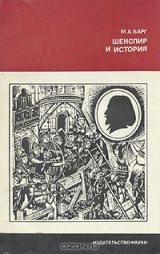
Текст книги "Шекспир и история"
Автор книги: Михаил Барг
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 14 страниц)
Зову я смерть. Мне видеть невтерпеж
Достоинство, что просит подаянья,
Над простотой глумящуюся ложь,
Ничтожество в роскошном одеяньи,
И совершенству ложный приговор,
И девственность, поруганную грубо,
И неуместной почести позор,
И мощь в плену у немощи беззубой;
И прямоту, что глупостью слывет,
И глупость в маске мудреца, пророка,
И вдохновения зажатый рот,
И праведность на службе у порока…
Сонет 66
И хотя социальный контекст в этом описании «современных нравов» переплетен с моральным, он тем не менее выступает с полной очевидностью. О том, что это не было выражением случайного наплыва чувств, свидетельствуют следующие весьма созвучные этому сонету строки:
Кто снес бы плети и глумленье века,
Гнет сильного, насмешку гордеца,
…Судей медливость,
Заносчивость властей и оскорбленья,
Чинимые безропотной заслуге…
«Гамлет», III, 1
Если перед Гамлетом этот, мир предстает как «дикий сад, заросший сорняком», в котором зреет все, что в природе есть дурного и грубого, то это потому, что открывшееся ему зло по масштабу – зло «вселенское»: «бесплодны все мне кажутся дела на этом свете»; «из людей меня не радует ни один» (там же, II, 1).
В чем же усматривал Шекспир причину моральной порчи современного ему общества? В отличие от христианских моралистов, он не считал эту порчу «изначальной», т. е. следствием грехопадения. В его глазах она – явление историческое: человек поставлен в новые условия существования. Если он как общественный индивид у Шекспира – надысторичен, то «природа», мораль его подвержены влиянию и изменениям 3. Действительность, какой она виделась Шекспиру, вносила в человека «порчу»: его «природа» становилась «больной» (отсюда – «больная», «страдающая совесть»). Извращение человеческой природы приводило к извращению сути всех общественных связей, к нарушению социальной гармонии, к общественному хаосу. Личные отношения больше не существуют вне общества, за пределами социальной ответственности. Личное и общественное теперь взаимопроникают.
Каковы же наиболее гибельные для общества причины морального недуга? Весь обширнейший перечень человеческих пороков сводится Шекспиром, по сути, к двум главным: жажде богатства и жажде власти. Стремление к богатству порождает скупость, алчность, хитрость, бессердечность. Под лучами золота испаряются все христианские добродетели и каменеет человеческое сердце. Жажда власти, в свою очередь, порождает лесть, коварство, вероломство, жестокость, гордыню, презрение к нижестоящим, погоню за показным величием и славой.
В сложное переплетение сюжетных линий трагедии «Король Лир» включена и притча на тему «Без обмана не разбогатеешь». Честность и прямодушие Корделии лишили ее отцовского наследства – она ушла из дома бесприданницей, в то время как хитрость и обман доставили ее старшим сестрам по «половине наследства» короля Лира вместо причитавшейся им «законной трети» его.
Богатство определяет не только характер отношений отцов и детей:
Отец в лохмотьях на детей
Наводит слепоту.
Богач-отец всегда милей
И на ином счету.
«Король Лир», II, 4
Так выродились люди…
Что восстают на тех, кто их родил!
Там же, III, 4
Мошна становятся критерием общественного положения человека, его достоинства.
А в знак того, что я гораздо больше,
Чем я кажусь, вот вам мой кошелек…
Там же
Погоня за блестящим металлом извратила суть понятий, назначение всех общественных институтов, и прежде всего назначение власти. Власть – «арбитр» между сословиями, «страж» справедливости, «защитница» слабых, какой она рисовалась в традиционных «увещаниях» и проповедях,– теперь больше не скрывала свою извечную суть прислужницы имущих. С тех пор как золото стало движущим нервом общественной жизни, в судах исчезло правосудие, судья поменялся местом с вором, правый с неправым, порок с добродетелью. Все прежние представления вывернулись наизнанку.
Ты уличную женщину плетьми
Зачем сечешь, подлец, заплечный мастер?
Ты б лучше сам хлестал себя кнутом
За то, что в тайне хочешь согрешить с ней.
Мошенника повесил ростовщик.
Сквозь рубища грешок ничтожный виден,
Но бархат мантий прикрывает все.
Позолоти порок – о позолоту
Судья копье сломает, но одень
Его в лохмотья – камышом проколешь.
Виновных нет, поверь, виновных нет:
Никто не совершает преступлений.
Берусь тебе любого оправдать,
Затем что вправе рот зажать любому.
Купи себе стеклянные глаза
И делай вид, как негодяй политик,
Что видишь то, чего не видишь ты,
Там же, IV, 6
И так же как Мор в свое время пришел к знаменитому заключению, что государство есть не что иное, как «заговор богатых против бедных», Шекспир сравнил государство со сторожевым псом на службе у богатых. Послушаем короля Лира: «Видел ты, как цепной пес лает на нищего, а бродяга от него удирает? Это символ власти… Пес этот изображает должностное лицо на служебном посту» (там же).
Что же касается меры общественного зла, проистекавшего из обуявшей имущих жажды власти, то она мало в чем уступала злу, порождавшемуся жаждой богатства, ибо в конечном счете к нему же сводилась. Известно, что категория власти в эпоху абсолютизма вообще и абсолютизма Тюдоров в частности приобрела принципиально иной смысл в сравнении со средними веками (хотя цель власти, разумеется, оставалась той же) 4. Поскольку единственным источником власти в стране стал король, то все лица, к власти причастные, могли быть лишь его «порученцами», агентами. Власть же «на местах» именем «родового права» ее носителей ушла в прошлое, стала анахронизмом. Если на языке политики этот переворот в конституировании власти означал конец феодальной раздробленности, то на языке «гражданского обихода» речь шла о том, что король стал единственным получателем публичных (государственных) доходов страны и, следовательно, монопольным их распорядителем 5. Отсюда очевидно, что «жажда власти» в особенности в тюдоровскую эпоху, вовсе не означала, будто охваченные ею прослойки оспаривали королевский суверенитет. Вовсе нет. Речь шла для них лишь о месте «под сенью» короны, говоря проще – о степени причастности к королевской казне. Именно такой характер уже носила гражданская смута в Англии XV в.– война Роз; такова, по существу, подоплека эпидемии местничества, охватившей английское общество (в первую очередь английское дворянство) в XVI в. Масло в огонь подлило усилившееся при Тюдорах проникновение на государственные должности – вплоть до самых высоких – «неродовитых», «выскочек», «простолюдинов». То обстоятельство, что такие «новые люди», как Уолси (достигший сана архиепископа Кентерберийского и кардинала) или Томас Кромвель (сменивший Мора на посту лорда-канцлера королевства), оказались при дворе Генриха VIII на голову выше многих представителей «древних родов», должно было представляться последним «угрожающим самим основам» государственного бытия, поскольку традиционно власть рассматривалась как прирожденная функция и «право» знати. В результате местничество как общественное явление в Англии XVI в» имело две стороны: 1) соперничество «степеней» знатности в рамках дворянства «родовитого» и 2) соперничество между представителями последнего и «дворянства дарованного»6. За дикостью (с современной точки зрения) проявлений местничества скрывались мотивы, вполне объяснимые. Степень близости к вершинам власти – это мера благодатного дождя, который в виде пенсий, синекур, подарков и т. п. изливался на головы служителей трона. И хотя об английском дворянстве речь впереди, мы все же не можем не привести здесь известную сцену из пьесы «Генрих в которой изображено местничество в XV в.
С о м е р с е т.
Прочь, прочь, достойный Уильям Де-Ла-Пуль;
Беседовать с мужланом – много чести.
У о р и к.
Клянусь, его порочишь, Сомерсет:
Ведь герцог Кларенс Лайонел, который -
Эдварда Третьего был третьим сыном,
Дед Ричарду. Таких корней глубоких
Нет у мужлана, что лишен герба.
……………………………………………
С о м е р с е т.
Иль не был Ричард Кембридж, твой отец,
При Генрихе казнен, как злой изменник?
Иль той изменой не запятнан ты
И не изъят из древнего дворянства?
Отцовский грех живет в твоей крови;
Пока не обелишься, ты – мужлан.
«Генрих VI», ч. I, II, 4
Так рисовались современникам Шекспира да и ему истоки ужасной, растянувшейся на долгие десятилетия гражданской смуты, словесные истоки кровавой реки! И хотя местничество в XVI. в. к чему-либо подобному привести уже не могло, тем не менее в различных формах и различных слоях оно еще сильно отравляло общественную жизнь в стране.
Итак, в той мере, в какой золото было способно доставить нуворишу и титул и власть, титул и власть, в свою очередь, ценились прежде всего как источник золота.
Все общественные связи отныне базировались на корысти я расчете, золота превратилось в конечную цель человеческой деятельности.
Неудивительно, что эталоном всех общественных связей стала открыто или завуалированно выступать сделка купли-продажи.
. «В наше продажное время, – замечает Фальстаф, – добродетель так упала в цене, что истинным храбрецам остается только водить медведей. Люди остроумные сделались трактирными слугами, и вся их изобретательность тратится на составление счетов. Все остальные качества, свойственные человеку, в наш подлый век, стоят дешевле крыжовника» («Генрих IV», ч. II, I, 2). В этом поставленном на голову, жестоком мире трудно стало дышать. Еще труднее стало думать. Там, где торжествует вселенское зло, разум превращается в пытку, наделенному им остается скоморошничать.
Отклонилась река жизни от исконного русла, и ее берега оказались усеянными людскими пороками. Однако, может быть, самое невообразимое отклонение от «исконного» порядка вещей заключалось в том, что вывернулся наизнанку смысл самого понятия «порок» 7. Понимание сорока как категории моральной, как свойства «природы» человека (присущего ему от рождения или приобретенного) сменялось представлением о пороке как о категории социально-имущественной. XVI век и здесь полностью отошел от средневековых «поучений». В самом деле, средние века льстили бедности, поднимали ее на ступень «святости» или по крайней мере приближали к ней на кратчайшее расстояние. Этика Возрождения и в особенности Реформации исходила из тезиса противоположного: бедность отождествлялась априори с пороком, она – зримый знак порока, более того, «гнездо», «источник» всевозможных пороков. Другими словами, бедность – свидетельство человеческой неполноценности ее носителя. И не было в елизаветинской Англии фигуры более осуждаемой и презираемой, более отверженной, чем бедняк. О бедняках говорили не иначе как о «подонках общества», «бродягах», заведомых «ворах» 8.
Покуда нищий я, браниться стану
И говорить, что худший грех – богатство:
А став богатым, буду говорить,
Что нет порока, кроме нищеты.
Все различие в социально-этической значимости этих оценок заключалось в том, что греховность богача имела отношение к его статусу в «мире потустороннем», в то время как «порочность» бедняка указывала на его статус в жизни земной, т. е. в обществе. Очевидно, что этика, построенная на данном принципе, не могла не быть классово ярко выраженной, эгоистичной. И это наиболее убедительное свидетельство бессодержательности – в плане социальном – абстрактного идеала ренессансной личности. Его историческая ограниченность обнаруживается, в частности, в том, что в этом идеале добродетель имущественной обеспеченности, освобождающей от изнурительного физического труда, была чем-то вроде молчаливой предпосылки. Нет ничего удивительного, что за пределами круга самих гуманистов личность, наделенную выдающимися моральными и духовными качествами (если следовать указанному идеалу), имело смысл искать почти исключительно в среде «сенаторского класса» 9. Сама мысль о возможности обнаружить подобную личность среди пахарей и поденщиков, горшечников и медников показалась бы просвещенному уму дикой, в частности в условиях тюдоровской Англии. Недаром же все наставления о воспитании по примеру трактата Элиота «Правитель» адресовались дворянам – как прирожденным магистратам.
Между тем Шекспир неоднократно повторяет мысль, что ограничить человека заботой о хлебе насущном – значит свести его до уровня животного, лишить его всех возможностей проявить свое подлинное, духовное, творческое призвание. «Сведи к необходимости всю жизнь,– заметил Лир,– и человек сравняется с животным» («Король Лир», II, 4). Так же думал и Гамлет:
Что человек, когда он занят только
Сном и едой? Животное, не больше,
Тот, кто нас создал с мыслью столь обширной,
Глядящей и вперед и вспять, вложил в нас
Не для того богоподобный разум,
Чтоб праздно плесневел он…
«Гамлет», IV, 4
К этому замечательному рассуждению Гамлета требуется лишь небольшой комментарий. Одно дело – люди, по своей воле считающие «еду и сон» высшим благом на земле, другое дело—люди, поставленные в общественные условия, вынуждающие их всю жизнь смотреть на вещи так же. Первых гуманисты по достоинству высмеяли, вторых просто не замечали. Моралисты Возрождения наиболее интенсивно разрабатывали проблему моральной ответственности личности перед обществом. Индивид обретает, утверждает себя только в обществе себе подобных, через общество. Между тем Шекспир ясно различал и другую сторону этой проблемы – социальную ответственность общества за судьбу индивида, за то, в какой мере условия позволят ему проявить, реализовать свои «божественные потенции». Только очень немногие гуманисты XVI в. заметили эту сторону проблемы – человек и общество 10.
Тираноборческие идеи
В картине общественной организации, как она рисовалась человеку XVI в., королевской власти принадлежало центральное, ключевое место. В ней усматривали начало и конец всех общественных связей, истоки «общественного блага» или социальных зол, обрушивавшихся на народ. Разумеется, это была идеализация роли государственного начала в общественной жизни. Однако она не столь уж далека была от действительности. Если вспомнить, что речь идет об эпохе абсолютизма, когда стечение исторических обстоятельств действительно дало возможность королевской власти возвыситься настолько, чтобы па время превратиться в вершительницу судеб европейских народов, то значение, которое придавалось ей в общественном сознании интересующей нас эпохи, легко объяснить.
Почти одновременно с новой (позднефеодальной) формой государственности возникло и новое политическое учение. Его создателем был итальянский гуманист Макиавелли. Известно, для того чтобы вскрыть природу публичной власти как таковой, Макиавелли счел нужным освободить эту категорию от всех элементов житейской морали, которые в его глазах только затемняли суть дела. И в этом действительно заключалась предпосылка превращения политики в науку. Однако политическая мысль Англии XVI в. продолжала двигаться в традиционном русле средневековых доктрин. Она просто не была в состоянии рассуждать о политике иначе, как в связи с личной моралью правителя, ее осуществляющего 11. И это потому, что общественное сознание тюдоровской Англии еще не видело различий между моральными основаниями отношений частных и публичных отношений между «соседями», с одной стороны, и между королем и его подданными – с другой. Кем бы ни был король с точки зрения политической доктрины, поскольку он смертен – он человек, а потому ко всем его поступкам применимы постулаты «общечеловеческой» морали, и первым среди них являлся в глазах современников Шекспира принцип «добрососедской взаимности».
Одно из величайших открытий Лира – открытие его родства с бедняком, у которого даже нет лохмотьев, чтобы защитить тело от непогоды. «Лучше бы тебе лежать в могиле, чем подставлять свое голое тело под удары непогоды. Неужели вот это, собственно, и есть человек? Присмотритесь к нему. На нем все свое, ничего чужого. Ни шелка от шелковичного червя, ни воловьей кожи, ни овечьей шерсти… Все мы с вами поддельные, а он – настоящий. Неприкрашенный человек и есть именно это… голое двуногое животное и больше ничего. Долой, долой с себя все лишнее» («Король Лир», III, 4). Такой должна быть точка отсчета во всех рассуждениях о венценосцах. Разумеется, Лир сделал свое открытие не восседая на троне, а при обстоятельствах для короля чрезвычайных, когда он сам оказался в положение бездомного бродяги, на пустыре, застигнутый неистовствующей бурей. Точно так же и Ричард II открыл для себя ту же истину только тогда, когда корона Англии стала ускользать из его рук.
Итак, чтобы применить моральные критерии к королевской власти, нужно было прежде всего очеловечить ее носителя. И тогда цель этой власти будет заключаться в гарантии «справедливости». Как и его современники, Шекспир не сомневался, что вне государства, т. е. в конечном счете вне существующей монархии, эта цель не достижима. Следовательно, подлинная проблема заключалась в том, при каких условиях королевская власть может обеспечить подданным это желанное «царство справедливости».
У Шекспира и его современников – если об Аристотеле они были бы только наслышаны – имелось много возможностей на опыте прийти к пониманию фундаментального различия между королем и тираном: тиран блюдет только личные интересы, король заботится об интересах народа. Для первого государство есть прежде всего воплощение его воли, для второго его назначение – «благо общества». Общество же есть не что иное, как взаимосвязь и взаимозависимость членов, его составляющих, включая и государя, оно есть выражение нужды одного человека в другом 12. Здесь проходит водораздел между концепцией произвольной власти, власти как родовой или приобретенной монополии – и концепцией власти как моральной ответственности, обязательства перед теми, над кем она осуществляется. «Добрый правитель» не рассматривает возвышение над народом как освобождение своего «я» от моральных уз, связывающих человека с человеком, оно есть их лучшее проявление. Социально-этическое истолкование природы, целей и средств публичной власти характерно не только для таких «политических» драм Шекспира, как «Кориолан» и «Юлий Цезарь», но и для хроник. В конечном счете оно восходит к гуманистическому идеалу государя: народ «выбирает» правителя для собственной, а не для его пользы. Государство «учреждается» для того, чтобы благодаря заботам королей и их усилиям подданные могли жить в безопасности и были ограждены от несправедливости. Поэтому государь, подобно пастуху, должен пасти своих овец и беречь их от волков.
Если какого-нибудь монарха настолько не уважают и ненавидят подданные, что он может сохранить власть не иначе как с помощью страха, то для него лучше оставить престол, чем удерживать его всеми возможными средствами.
Шекспир ни разу не ставил под сомнение политическую целесообразность сословного членения современного ему общества, его аристократический строй, но вместе с тем он вскрывал более глубоко лежащие основы всякого общественного устройства: – принцип взаимозависимости правителя и управляемых. В этой «общности человеческого начала», объединяющего короля с подданными, «общности», которой не могли скрыть ни титулы, ни сан, он усматривал основание принципа «взаимности», который единственный цементирует государство, гарантирует его устойчивость и долговечность 13.
Вспомним, как Генрих V, переодевшись простым воином, в ночь накануне решающей битвы при Азинкуре (1415) беседует со своими солдатами. «Ведь, между нами говоря, король – такой же человек, как я,– замечает он.– Фиалка пахнет для него так же, как и для меня; небо представляется ему таким же, как и мне; все чувства у него такие же, как у всех людей. Если снять с него королевские его уборы, он окажется в наготе своей обыкновенным человеком, и, хотя его стремления взлетают выше наших, они опускаются на землю так же, как у всех нас» («Генрих V», IV, 1). И в другом месте:
Коль царственную пышность исключить?
То что же ты такое, идол – пышность?
Итак, король – всего лишь человек. Вся символика его величия – мишура. Чего стоят претензии на божественность и непогрешимость, если их олицетворяет подверженный всем слабостям смертный, если все завершается превращением его в «кусок глины», разве что пригодной для замазки щелей, чтобы остановить ветер («Гамлет»,V, 1).
Не потому ли Генрих V наиболее близок к шекспировскому идеалу «доброго короля», что именно его устами наиболее отчетливо выражено сознание родства «всех людей» (невзирая на их сословные различия). Из этого сознания и вытекали: во-первых, сама возможность «доверия» подданного к правителю, принцип «послушания», во-вторых, «моральная ответственность» государя за свои деяния перед подданными.
Эту взаимосвязь выразил один из «собеседников» Генриха V – воин по имени Вильямс. «Да, но если дело короля неправое, с него за это взыщется, да еще как. Ведь в судный день все ноги, руки, все головы, отрубленные в сражении, соберутся вместе и закричат: „Мы погибли там-то!”. И одни будут проклинать судьбу… Боюсь, что немногие солдаты умирают… с благочестивыми мыслями, когда у них одна кровь на уме? И вот если эти люди умрут не так, как подобает, тяжелая ответственность падет на короля, который довел их до этого…» («Генрих V», IV, 1). Та же идея моральной ответственности короля перед подданными в известном монологе Генриха передана следующим образом:
Все, все – на короля! За жизнь, за душу,
За жен и за детей, и за долги!
И за грехи – за все король в ответе!
Там же
Совершенно очевидно, что речь идет об «идеальном короле», которого действительная история не знала. Исторические короли Англии – либо узурпаторы и рабы собственной прихоти, либо никуда не годные правители, вскармливавшие временщиков-тиранов.
Изображая историю английских королей как постоянный конфликт между произволом государя (исповедующего концепцию власти «божьей милостью») и интересами народа (испытывающего на себе горестные последствия его политики), Шекспир раскрывает глубоко трагедийный характер публичной власти (основанной на этом коренном противоречии). При этом отчетливо выступают две стороны трагедийного: внешняя (обреченность всякой власти, основанной не на «любви народа», а на страхе и рабском послушании королю) и внутренняя, личная (правитель рано или поздно предстает перед судом своей совести). Напрашивается вывод: ни один человек не достоин королевского венца, ибо, не будучи богом, он не может быть эталоном справедливости. Но если это так, то узурпатор, наделенный умом и «доброй волей», более полезен на троне, чем глупец, увенчанный короной по наследству. Порочный, но «законный» король нередко сохраняет корону ценой столь же кровавой, что и захват трона узурпатором. Для «общего блага» важно не то, каким путем добыл король корону, а то, каким человеком оказался ее обладатель. Беды, проистекавшие для парода от пребывания на троне порочных королей, неисчислимы. Но судить правителя, согласно тюдоровской концепции «порядка», подданные не вправе:
Избави боже!..
Как может подданный судить монарха?..
Божьего величия подобье.
Правитель, вождь, наместник, им избранный,
Помазанный, венчанный, полновластный,—
Судим ли будет подданным и низшим?..
«Ричард II», IV, 1
Правители-тираны точно так же существуют благодаря попустительству божьему, как и «добрые» короли. В одном случае – это бич божий, ниспосланный народу за грехи, в другом – благость. Восстать против тирана – значит восстать против неисповедимой воли божьей. У верующего нет альтернативы: его долг неукоснительное послушание любому правителю. «Абсурдно, чтобы мятежники, являющиеся худшими из людей, превратились в судей над королями, решая, кто из них добр и терпим. Но если даже король порочен и бесчестен и если очевидно для всех, что он таков, восстание – негодное и нежелательное средство. Если правители порочны, то потому, что бог этого желает как воздаяние [подданным] за прошлые грехи. Поэтому непозволительно разрешать кому-либо судить в таких делах. Единственное, что остается подданному,– молиться… Восстать – значило бы прибавить новый грех к тем, что уже совершены. Воздаяние принадлежит лишь господу» 14.
В хрониках Шекспира, разумеется, мы не найдем теоретического обоснования права подданных низлагать короля-тирана, но зато тем большее значение приобретает освещение в них тех периодов истории, когда короли действительно низлагались. В десяти пьесах на сюжеты новой (для современников Шекспира) истории Англии таких эпизодов три: низложение Генриха VI Эдуардом Йорком; вторжение в Англию Генриха Ричмонда и гибель Ричарда III в битве при Босворте; низложение Генрихом Болингброком Ричарда II.
Смысл первых двух событий крайне затемнен: в первом случае характером Генриха VI, во втором – тюдоровским мифом.
Во-первых, Генрих VI никак не мог быть изображен королем-тираном, хотя его неспособность управлять создала предпосылки для произвола временщиков. Его низложение трактуется поэтому как акт, продиктованый то честолюбием Йорков, то политической необходимостью. Правда, сам Генрих VI видит свою вину в том, что его безвольность разожгла честолюбие герцога и тел самым ввергла страну в кровавую усобицу: «Как станет вся страна за эти муки клясть государя в горе безутешном» («Генрих VI», ч. III, II, 5).
Тем не менее в акте низложения и последовавшего за этим умерщвления Генриха VI нет ничего тираноборческого. Клятва, верности новому королю не воспринимается как измена.
К о р о л ь Г е н р и х.
На царство в колыбели я помазан;
Отец и дед мой были королями,
И клятву верности вы дали мне.
Скажите ж, не нарушила вы клятву?
П е р в ы й с т о р о ж.
Нет:
Пока царили вы, верны мы были.
Там же, III, 1
И уж вовсе нет ничего тираноборческого в акте убийства Генриха VI Ричардом Глостером:
Когда убийство жертв невинных – казнь,
То кто же, Глостер, ты, как не палач?
Там же, V, 6
В отличие от Генриха, Ричард III – классический для тюдоровской историографии образ тирана, Неудивительно, что история его падения содержит поэтому, немало тираноборческих мотивов. Вспомним речь Ричмонда перед решающей битвой:
Уж с вами говорил я, земляки…
Одно запомните – что бог и право
Сражаются на нашей стороне…
…Друзья, ведь правда,
Что он тиран кровавый и убийца,
В крови поднявшийся, в крови живущий,
Не разбиравший средств, ведущих к цели,
Убивший тех, кто средством в этой был…
Коль вы потрудитесь тирана свергнуть,
Заснете сладко вы, убив тирана.
«Ричард III», V, 3
Достаточно сопоставить эту речь Ричмонда с тюдоровской ортодоксией послушания, чтобы обнаружить, насколько она отклоняется от последней. Какими бы путями Ричард ни добыл корону, он был венценосцем «по праву»: ведь он – Йорк!
Узурпация Ричарда нарушила порядок престолонаследия, но не свергла правившую династию и, следовательно, не могла оправдать появление нового узурпатора. Между тем «право» Ричмонда на английскую корону было куда меньшим, чем у Ричарда Глостера. Отсюда подчеркивание Ричмондом «тиранического» характера правления Ричарда, чтобы самому предстать избавителей страны, а не узурпатором ее короны, мятежником против законного короля. Речь Ричмонда перед битвой при Босворте была бы истинным образцом тираноборческой проповеди, если бы не одна особенность – изображение (в соответствии с тюдоровским мифом) предприятия Ричмонда как акта провидения. В самом деле, в этой речи Ричмонд предстает не как политик, не как выразитель мирского порядка или гражданской нравственности, а как простое орудие всевышнего. Дело Ричмонда – дело божье, его мотивы и оправдание – в неисповедимой воле ей. Иначе не понять эту сверхчеловеческую самоуверенность Ричмонда, его предсказание благоприятного исхода битвы и т. д. В ранее цитированной проповеди говорится: «Если случайно восстание [против короля] оказывается успешным, то это только потому, что господь избрал мятежников как орудие своего дела» 15.
В таком случае, разумеется, от идеологии тираноборчества мало что остается.
Обратимся теперь к третьему эпизоду – низложению Ричарда II. Однако в данном случае требуется большое отступление. Дело в том, что к концу правления! Елизаветы история низложения Ричарда II неожиданно приобрела животрепещущий политический характер. Она широко использовалась многоликой оппозицией королеве в антиправительственной агитации в качестве исторического прецедента и юридического аргумента.
Так, в 1584 г. увидел свет анонимный памфлет под названием «Копия письма, написанного магистром искусств Кембриджа своему другу в Лондоне относительно беседы двух почтенных людей о современном положении и некоторых действиях графа Лейстера и его друзей в Англии» (авторство приписывается иезуиту Парсонсу). Главное обвинение, выдвинутое против Елизаветы, заключалось в том, что она окружила себя фаворитами, которые руководят ею, вместо того чтобы прислушаться к совету тех, кто заслуживает доверия. «Короли и королевство часто терпели крушение из-за неумеренного расположения к лицам, его не заслуживающим». В качестве подтверждения приводились примеры из истории Англии: низложение Эдуарда II (из-за чрезмерного фавора к Гавестону и двум Спенсерам), Ричарда II (из-за чрезмерного расположения к графу Оксфордскому) и др. Мораль была ясна: короли могут низлагаться, когда этого требует благо государства. С тех пор судьба Ричарда II все чаще воспринимается и как предупреждение королеве, и как прямой призыв к действию 16.
Итак, ситуация в Англии в правление Елизаветы превратила в монархомахов иезуитов, подобно тому как при Марии Тюдор ими являлись протестанты. Устами «доктора гражданского права» автор «собеседования» провозглашает «право государства освободиться от правительства тирана, тигра, льва, жадного волка, врага общества, кровавого убийцы». «Есть много примеров,– продолжает он,– когда христианские государства низлагают своих правителей и господь споспешествует им в этом, ниспосылая им очень хороших правителей (взамен низложенных.– М. Б.)». Далее, имея в виду судьбу Ричарда II, автор одобряет такой способ действий: во-первых, низложение этого короля совершилось без убийства, во-вторых, король был низложен парламентом и по его «добровольному согласию».
В 90-х годах внутриполитическая ситуация в Англии многим напоминала ситуацию, предшествовавшую вторжению в Англию Генриха Болингброка. «Великое правление» заканчивалось, когда все сильнее ощущались признаки глубокого кризиса. Упадок торговли, продолжающиеся огораживания множили армию бездомных и бродяг; все более ясно проявлялось общественное недовольство, участились локальные беспорядки и мятежи. На этом фоне бросаются в глаза распространение пуританизма, рост оппозиции королеве в парламенте, наконец, все менее успешная борьба с Испанией. В 1597 г. Эссекс возглавил экспедицию против Испании. Однако вместо нападения на испанские гавани, как планировалось, он направил корабли к Азорским островам с целью перехватить «Золотой флот». Потерпев полную неудачу (испанцы изобрели систему конвоирования судов), Эссекс вернулся в Англию с пустыми руками. Времена великих флибустьеров канули в лету. «Весь механизм моего правления,– жаловалась Елизавета французскому королю,– мало-помалу приходит в негодность».








