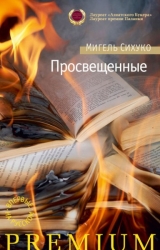
Текст книги "Просвещенные"
Автор книги: Мигель Сихуко
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 22 страниц)
Поэт:
– …мой рот – моя ложка. Мой член – трепетный нож.
Рита (повышая голос, чтобы заглушить поэта):
– Вот что, дорогой, я не престарелый бунтарь, как наш добрый Фурио. На самом деле, чтобы писать правду, чтобы проливать свет, нужно быть журналистом. С тех пор как Мутю Диматахимик зарезали возле редакции в восемьдесят первом, у нас так и не появилось бескомпромиссных правдолюбов…
Фурио:
– Это было в восемьдесят втором. Я до сих пор уверен, что это был заказ Маркоса. Старик Авельянеда так и не оправился после потрясения. Если б не ребенок, за которым надо было присматривать, он пошел бы по той же дорожке, что и этот пидор Криспин.
Рита:
– Раньше я думала, что Мутя погибла напрасно. Ведь журналистов до сих пор отстреливают. Но это естественно, когда в бесправной стране есть какая-то свобода прессы. Что касается Криспина… Ну кто поедет в Штаты убивать всеми забытого старика, пишущего книгу, которую никто не видел? Как только киллер доберется до Штатов, ему снесет голову распродажами от производителя, и только его и видели.
Фурио:
– Обнаружен в Западном Голливуде, работает распорядителем в закусочной, грин-карта, все дела.
Рита:
– Если кто и хотел убить Криспина, то только сам Криспин.
Фурио:
– А в определенный момент и каждый из здесь присутствующих. В «Автоплагиаторе» он хорошенько по всем прошелся…
Рита:
– Правда глаза колет.
Фурио:
– Но только Криспину хватило бы злости убить человека. Себя в том числе.
Рита:
– В особенности себя.
Фурио:
– У каждого свой предел падения.
Я:
– Вы правда считаете, что это было падение? Но он лауреат многих премий. Благодаря ему мир обратил внимание на нашу национальную литерату…
Фурио:
– Премии – это литературная лотерея, паре. Премия не сделает тебя пилотом. А если по счастливой случайности ты и оказался у штурвала, вовсе не обязательно быть таким гондоном.
На сцену выходит третий стихотворец и начинает читать на тагалоге. Рубашка на нем такая же, плюс на голове повязан плетеный аборигенский шарфик. Его стихи оказываются переводами из Эмили Дикинсон. Он сердито выкрикивает каждое слово, правой рукой, как львиной лапой, акцентируя рифмы.
Я:
– А может, его беспокоило что-то, помимо творческого кризиса?
Рита:
– Знаете, с кем вам нужно переговорить? С Марселем Авельянедой. Если кто что-то и знает, то это он.
Фурио (ухмыляясь):
– Да, удачи тебе. Ты сначала попробуй его разговорить, а потом остановить его разглагольствования о том, каким никчемным писакой был Криспи.
Я:
– А вам нравится что-то из его произведений? Например, его шедевр – «Из-за те…»
Фурио:
– «Дахил Са’Йо»? Не хватает подлинности. Он не смог ухватить суть филиппинского характера.
Рита:
– Проблема этой книги в том, что при всех потугах стать новым словом в литературе на самом деле она весьма старомодна.
Фурио:
– Когда он честно старался добиться признания, мне он был симпатичнее.
Я:
– А «Европейский квартет»?
Фурио:
– Элитизм чистой воды.
Я:
– Трилогия «Капутоль» была довольно…
Рита:
– Ну что вы! Слишком манилоцентрично.
Я:
– А «Красная земля»? В конце концов, это книга про крестьян-марксистов…
Фурио:
– Слишком провинциально.
Рита:
– И спорно.
Я:
– «Просвещенный»?
Рита:
– Фу! Постколониальный мачизм.
Я:
– Полагаю, «Автоплагиатор» вам тоже не понравился.
Фурио:
– Это как раз было в тему.
Рита:
– И то только потому, что хуже некуда. Позлорадствовать мы все любим.
Фурио:
– Нет, сестренка. Криспин действовал от души и без оглядки. Но если уж собрался высказать всю правду сильным мира сего, важно, чтоб они не заскучали. Пусть лучше смеются.
Рита:
– Проблема «Автоплагиатора» в том, что это книга в большей степени о филиппинцах, чем для филиппинцев.
Фурио:
– Из тех книжек, что так любят американцы и так ненавидим мы. Мы должны писать для своих сограждан.
Рита:
– Согражданок.
Я:
– Почему ж тогда за границей ее никто не хотел издавать?
Фурио:
– А почему филиппинцев вообще так мало печатают? Вот потому же.
Я:
– Была ли у Криспина тайна, что-то, о чем он сожалел или…
Рита:
– Я же говорю – спросите Марселя. Когда еще в семидесятых распались «Пятеро смелых», Криспин сильно изменился. Из-за этого он и уехал в Штаты.
Фурио (глядя на выступающего поэта):
– Я-то всегда считал его скрытым педерастом. Они с Авельянедой были любовниками. Потому так и разосрались.
Рита:
– Довольно гомофобии! У нас всегда так, когда есть чему завидовать.
Фурио:
– Да брось! Даже свою кончину он срежиссировал в типично пидорской эстетике. Раскинув руки. Только креста и не хватало.
Рита:
– Или пентаграммы.
Фурио (хихикая):
– Вот это была бы тема.
Рита:
– Избитая тема. В каждом бестселлере есть пентаграмма.
Фурио:
– Чуешь зловещую закономерность? А ты свою душу заложила б?
Рита:
– За что?
– За деньги, – говорит Фурио, – чтоб на виллу в Италии хватило. Виллу Гора Видала видала? [125]125
*Американский писатель Гор Видал (1925–2012) приобрел виллу La Rondinaia («Ласточкино гнездо») в горах над Равелло в 1972 г., а в 2006-м продал ее сети отелей «Амальфи»; сумма сделки, по слухам, составила 17 млн долл.
[Закрыть]
– Ах ты, старая продажная рожа! – Рита похлопывает Фурио по плечу.
– Было б что продавать! – улыбается Фурио.
И они смотрят друг на друга, довольные собой.
– Ты на ужин собираешься? – спрашивает она, как будто меня уже нет.
– He-а, у меня праздник в Форбс-парке. Устроился литературным негром – пишу историю семейства Лупас. Там подают канапе и «Блю-лейбл» [126]126
* «Блю-лейбл» (Blue Label, «Синяя этикетка») – самый дорогой из регулярных сортов купажированного шотландского виски «Джонни Уокер».
[Закрыть].
Я допиваю шампанское и поднимаю пустой бокал. Фурио и Рита вскидывают брови и отработанным движением поворачиваются ко мне спиной – оба решили найти себе нового собеседника. На сцену выходит четвертая поэтесса – долговязая пацанка. Я поспешно ретируюсь.
Захожу в книжный этажом ниже посмотреть книги Криспина или о Криспине. В проходах между полками никого. Пахнет клеем и средством от комаров. Книги толково разнесены по категориям, хотя толпа, налетевшая перед презентацией, и переставила все как попало. Некоторые тома стоят корешками внутрь, с других сорвана полиэтиленовая оболочка. Безвкусно одетая продавщица сидит за прилавком и, строча эсэмэски, недовольно поглядывает на меня, как будто это я ее здесь держу. Сверху бормотанием доносятся стихи. Потом голос поэтессы тонет в аплодисментах, сливающихся со звуками дождя. Какой-то мужчина выкрикивает: «Добро пожаловать на презентацию моей книги! Благодарю за мужество, с которым вы встречаете конец света!» Смех и возгласы одобрения.
Единственный экземпляр «Просвещенного», разделяя два ряда книг, стоит ко мне корешком. Когда я протягиваю руку, книжка буквально отпрыгивает. Ряды книг заваливаются.
– Эй! – возмущаюсь я.
«Просвещенный» тем не менее исчезает. Слышно движение. Я выглядываю сквозь щель. Оттуда с неменьшим любопытством на меня глядит симпатичный глаз, полуприкрытый темным локоном. Глаз мигает. Рука заправляет локон за ушко (я замечаю бриллиантовый гвоздик). Позвякивает золотой браслет с брелоками (стремя, подкова, седло, сапожок). Глаз косится. Смешок.
– Бля! – произносит она, как ребенок, только что выучивший это слово. – Пардон!
Иду до конца прохода и выглядываю из-за угла. Передо мной стоит девчонка – пальчики оближешь и, улыбаясь, протягивает мне книгу.
– Ты первый дотронулся, – говорит она.
Крошка, лет двадцать с небольшим, наматывает на палец локон длинных волос. На ней длинные шорты цвета хаки и футболка с принтом, изображающим фрак.
– Нет-нет, – говорю, – ничего страшного. Это не лучший его роман. Пожалуй, даже вторичный.
– Вот здорово! Спасибо.
Она проводит рукой по рисованной обложке с изображением всадника во главе небольшого отряда. На заднем плане есть даже выбеленный солнцем череп, тень которого складывается в одну из букв названия.
– Приятная обложка, – говорит она.
– Это ранняя работа. Я бы посоветовал более поздние книги.
Она изображает кривую ухмылочку:
– Да я бы с удовольствием. Я пишу по нему диплом. Еще один семестр – и свобода! Йу-ху!
– Я знал его лично. Ну то есть Сальвадора. И читал все его книги. Он был вроде как мой наставник. В Нью-Йорке.
– Так ты из Нью-Йорка? Круто! И правда с ним знаком?
– Правда, угу. Ну то есть вообще я отсюда. Но несколько лет прожил на Манхэттене. Магистратура.
– Правда? И где?
– А, в Колумбийском. А ты – писатель?
– В мечтах! Ну, я пробую писать стихи. И рассказы. Но писателем себя назвать еще не могу. Пока что. Надо пожить сначала.
– А я пошел в магистратуру на писательское мастерство. – (Ладошки вспотели; она смотрит на книгу.) – А вообще я пишу его биографию. Я, наверное, мог бы помочь с дипломом.
Неужели она покраснела?
– Тебе точно не нужна эта книга? Я могу и в библиотеке взять. Я покупаю книжки только потому, что это условно оправданная трата денег – такая же приемлемая форма шопинг-терапии, как покупка си-ди с классикой. Одни девочки покупают туфли, другие – книги. Так родительскую кредитку и просаживаю. – (Неужели она нервничает?) – У меня даже не до всех руки доходят. Но книги – это еще и лучшая деталь интерьера. И еще очень круто знать, что они у меня есть. Это как бескрайние возможности, понимаешь? Вот почему книжные магазины стали такими популярными. Это консьюмеризм, за который не стыдно. – И снова эта кривая ухмылочка.
– Да, я понимаю, о чем ты. Я точно такой же. – (Ну не задрот ли?) – Слушай… э-э…
– Сэди. Сэди – это я.
– Сэди. Круто! А почему ты по нему решила диплом писать?
– Господи, это долгая история. Мои родители. Даже скорее мама. Он ее любимый писатель. Прикол, да? Кого читают мамы? Ну, Даниэлу Стил. В лучшем случае – Джейн Остин. А я выросла на его детских книжках, ну знаешь, трилогия «Капутоль» про эту пацанку Дульсе и ее команду? Потом перешла на его детективы и с ума сходила по Антонио Астигу. Да так долго, что стыдно сказать. Я хотела стать детективом, как он. Обожала его «миднайт спешл» с перламутровой рукояткой, навороченные баронги и клеша и еще эту его фразу: «Oh, pare, akala mo astig ka? Ästig ako!» Это же как «Грязный Гарри» с Иствудом. «Ты думаешь, ты крутой? Крутой – это мое второе имя!» Хе-хе. Я тут недавно перечитала все это. И поразилась: как я могла не считывать все, что там скрыто между строк? Все это метаповествование. Родители хотели, чтоб я читала филиппинскую литературу. Национальное самосознание. Ничего не поделаешь – семидесятые.
– Мои-то… хм… были более консервативные. К сожалению.
– У тебя здесь семья или ты просто приехал на время из Большого Яблока? – Произнося «Большое Яблоко», она сложила ручки, как в танце шимми.
– Нет, семьи нет. Приехал на время, да.
– А почему Нью-Йорк – это Большое Яблоко? И правда, что это город, который никогда не спит? Слушай, а ты куришь? Ну, сигареты то есть. Ха. Может, выйдем на улицу на минуту? В дождь красиво.
– А ты разве не на презентацию пришла?
– Не, я уже отстрелялась. Я пришла только к своему преподавателю поэзии. Не, ну не то чтобы… Ха-ха! Еще подумаешь, что я Лолита какая-нибудь.
– Ло-ли-та. Свет моей жизни, огонь моих чресел.
– Мм? Это типа цитата? В Атенео я тоже на писательском мастерстве. Папа, конечно, был в шоке. Но знаешь, как это бывает: читать мне нравится, так, может, писать тоже не скучно. Путь наименьшего сопротивления. Подожди, тебя-то как зовут?
– Да, прости. Я – Мигель. Мигель Астиг. Шутка.
Она сдержанно смеется. Я рассчитывал на большее. Мы идем к кассе, она расплачивается за книгу. Выходим, стоим под навесом. С углов беспрерывным потоком льет вода. Границы света и тени в прямоугольном пространстве создают ощущение, будто мы находимся в картине Эдварда Хоппера [127]127
*Картины американского художника Эдварда Хоппера (1882–1967), сдержанные, прохладные по тону и сравнительно небольшие по формату, проникнуты лирической меланхолией, поэзией пустых пространств или, при наличии человеческих фигур, мотивами одиночества.
[Закрыть]. Сэди отдает мне книгу, вставляет мне в рот «Мальборо» и щелкает зажигалкой «Зиппо» с пин-ап-девицей на боку. Мне нравится курить, но как следует я никогда не затягивался. Поэтому, наверное, вопреки своей увлекающейся натуре, заядлым курильщиком так и не стал. Мне просто нравиться делать что-то, ничего при этом не делая. Но ей я говорю совсем другое:
– Знаешь… э-э… Сэди, Джон Чивер [128]128
* Джон Чивер(1912–1982) – американский писатель, лауреат Пулицеровской премии; в его рассказах сочетается психологический анализ американского провинциального среднего класса и магический символизм.
[Закрыть]уделял внимание деталям – в частности, как люди курят. В одном из интервью он вспоминал, как на похоронах его друга молодая вдова «курила так, будто сигареты были тяжелые». Мне это как-то врезалось в память.
– Да, круто, – говорит она.
Она пытается изобразить курение тяжелой сигареты, медленно поднося ее ко рту слегка дрожащей рукой.
– А ты в курсе, что имя Сэди…
– Ага, песня «Битлз». Только не пой. Я, кстати, довольна, что они распались. Иначе Джон не написал бы свои главные песни.
– Да нет, я хотел сказать, что Сальвадор…
– Знаю. У него есть персонаж по имени Сэди. В «Европейском квартете». Моя мама его обожает. Она читала всю серию в последние месяцы беременности и прикололась от Сэди, какая она своевольная и дерзкая. Я почти уверена, что меня и назвали в честь этой распутницы. Когда я вылезала из утробы, то выла, как подстреленная собака. Папа, правда, говорит, что имя от «Битлз». Ну, по крайней мере, в честь святой меня не назвали. Бля, пардон. Я просто того… атеистка.
– Слава богу, – смеюсь я. – Меня «Мигель» вполне устраивает. Меня назвали скорее в честь пива, нежели в честь архангела. Как это: «Нет Бога, и Мария мать Его»?
Сэди улыбается и покачивает головой.
– Кто ж это? Сантаяна, по-моему, верно?
– Гитарист? «Ойе комо ва» [129]129
*Джордж Сантаяна (1863–1952) – американский философ-гуманист испанского происхождения; основные работы: шеститомная «Жизнь разума» (1905–1906), «Скептицизм и животная вера» (1923), «Последний пуританин» (1935). «Oye como va» («Смотри какая!», исп.) – композиция Тито Пуэнте, ставшая хитом в исполнении Карлоса Сантаны (альбом «Abraxas», 1970).
[Закрыть], – напевает Сэди.
– Нет, да бог с ним. Бог умер, да и был ли Он когда-нибудь? Ты наверняка еще и веган и кофе покупаешь только тот, что выращен свободными тружениками, без эксплуатации. А такое слыхала: «Компромисс – это когда все остаются недовольны»?
– Не-а.
– На самом деле у Криспина была девушка по имени Сэди. Сэди Бакстер, американский фотограф. У нее есть очень крутые работы, на самом деле. – Начинаю повторяться. – Можешь на самом деле посмотреть в интернете, набери «Сэди Бакстер». Он так сильно ее любил, что это подорвало их отношения. Красиво, на самом деле.
Она кивает и поджимает губки. Ей, вообще, интересно? Она куда милее Мэдисон. Она миниатюрнее, ее можно было бы схватить по-мужски в охапку и унести куда-нибудь. Кроме того, она, очевидно, более начитанна. Но, черт побери, почему я всегда западаю на девушек, с которыми у меня нет шансов?
– Бля! – Сэди встрепенулась, как будто кто-то кольнул ее сзади. – Не знаешь, который час? Я должна быть дома к ужину в семь.
– Без десяти семь. Интересный маневр.
– Как ты меня раскусил!
Она бросает сигарету и тушит, наступив модным шлепанцем с филиппинским флагом. Мой взгляд останавливается на ее ножке. Ногти аккуратно выкрашены в поросячье-розовый, ступня нежная, как у кролика, совсем не такая, как у Мэдисон. Я теряю дар речи.
Сэди ловит ртом мятный леденец.
– Удивительно сильная штука. Бля, прости. Это последний, а родители… сам понимаешь. Они не курят. Ну то есть официально папа тоже не курит. Да и кто сейчас вообще курит?
– Я – нет, – говорю я, бросив окурок на дорогу.
– Вот и я тоже. Ну, приятно было познакомиться. Мне пора скипать.
Она раскрывает зонтик с фрагментом Сикстинской капеллы с внутренней стороны, выбегает в темноту и исчезает. Стихает шлепанье ее вьетнамок. Я поднимаю ее растоптанный окурок и смотрю на фильтр. От ее губ остался след бальзама. Принюхиваюсь – вишневый.
Да, знаю, я облажался. «Sexy Sadie, – тихонько напеваю я, пытаясь подражать Леннону, – oooh, what have you done?» [130]130
*Из песни «Sexy Sadie» с битловского «Белого альбома» (1968).
[Закрыть]Спешить особо некуда, смотрю на дождь.
Вдруг рядом притормаживает машина. Что за нафиг? Сердце начинает колотиться. Черный «лексус». Бежать? Стекла затонированы в ноль. Звать на помощь? Боковое стекло опускается. Из салона доносится древний хип-хоп. За рулем Сэди, она улыбается, лицо мягко подсвечено приборной панелью.
– Эй, нигга, – говорит, – я кое-что забыла.
Уф, отлегло, но я стараюсь не показывать виду и развязно улыбаюсь:
– Когда это ты успела?
– Ну как – у тебя моя книга.
Смотрю на «Просвещенного» у себя в руках и передаю его в приоткрытое окно.
– Прости, забыл.
– Интересный маневр.
– Но ты меня раскусила.
В мягком свете Сэди очень привлекательна, ее лицо блестит от капель, упавших в то неловкое мгновение, когда закрываешь зонтик и прыгаешь в машину. Я чувствую смешанный запах кожаного салона, мятного леденца и ее ванильных духов.
– Слушай, Мигель, родственников у тебя здесь нет, да и выглядишь ты как-то потерянно, так, может, поедешь со мной поужинать? Давай. Наш повар готовит такое адобо, оно изменит твою жизнь.
6
Когда Лена, Нарцисито, я и родители вернулись из Баколода в Манилу, город выглядел как через неделю после Армагеддона. Наш дом был одним из немногих уцелевших на нашей улице. Многие соседи погибли. Каждая семья потеряла как минимум одного человека. Всего в ходе освобождения города погибло около ста тысяч мирных жителей.
Однажды утром, разделив воды этого моря скорби, к нам во двор, победно сигналя клаксоном битого джипа, въехал дядюшка Джейсон. Он был жив! Да еще как жив! Он изменился с того Нового года, когда он так внезапно исчез. Блестящий пистолет, кожа, отливающая, как на новых ботинках, его голос, громкий и счастливый, – все это было вызовом окружавшей нас со всех сторон смерти. Много вечеров просидел я подле него на веранде, где он смаковал свой «кэмел», скрываясь от шума большого семейства, от которого уже успел отвыкнуть. Он рассказывал мне истории из партизанской жизни. Моя любимая была о том, как во время освобождения города он служил проводником при 2-м батальоне 148-й пехотной бригады США и на пути им попался пивоваренный завод «Балинтавак». Дядя смеялся чуть ли не до слез, рассказывая, как он и его сослуживцы плавали и плясали по колено в хмелю, наполняя фляжки и каски холодным как лед пивом, хлеставшим из цистерн, специально поврежденных японцами при отступлении. Если дядюшка Джейсон был в хорошем настроении, он показывал мне свои пулевые ранения, по форме напоминавшие военные медали. Когда я задавал правильные вопросы, он делился со мной соображениями о том, как стать хорошим человеком, а став им, сделаться еще лучше. Именно от него я впервые узнал о коммунистических идеалах. Мне было уже почти десять, и я считал, что уже вот-вот стану мужчиной. Ничего подобного тому, что он мне говорил, я больше не слышал.
Позднее он снова ушел в джунгли, чтобы сражаться в составе армии Хук, но на этот раз не с японцами, а с буржуями, которых американцы, уходя, оставили у власти. И хотя его повторное исчезновение случилось так же внезапно, я уже не чувствовал себя покинутым. Дядюшка Джейсон был моим героем. Мое юное воображение превратило его в фигуру куда более значительную, чем он мог предполагать, но, может, это и не так важно. Когда до нас дошло известие, что он угодил в засаду правительственных войск и был убит, моя скорбь по его мученической кончине окончательно утвердила его в роли кумира. Всю жизнь я гадал, а знал ли отец о подготовке той операции?
Криспин Сальвадор. «Автоплагиатор» (с. 1088)
* * *
Кузена Бобби оправдали по всем статьям в деле об изнасиловании, но после нескольких столкновений с правоохранительными органами он снова оказывается на скамье подсудимых. На этот раз за контрабанду порнографических DVD.
Судья:
– Разве это не печально? Прошло два года, и мы с вами снова в этом зале суда!
Эрнинг, сидящий позади брата, вскакивает:
– Протестую, Ваша честь! Мистер судья, мой брат не виноват, что вас не повысили!
* * *
Сэди идет в свою комнату освежиться, я же отправляюсь в гостевую ванную на первом этаже. Гонсалесы – типичные представители высшего общества, такую семью, наверное, одобрили бы мои бабушка с дедом. Мэдисон им никогда не нравилась, возможно, потому, что отец у нее был иностранец, и уж точно потому, что мать ее была из тех филиппинок, которые мечтают выскочить за иностранца.
Резиденция Гонсалесов в роскошном районе Расмариньяс-Виллидж, прилегающем к Форбс-парку, окружена высокими стенами, за которыми ландшафтный дизайнер устроил висячие сады и грот, служащий прибежищем Деве Марии с Младенцем Иисусом. Гостевая ванная отделана розовым мрамором, крошечные мыла в виде ракушек, такой же формы свечи и табличка с игривой надписью: «Если прыснули вы мимо, подтереть было бы мило». В ванной стоит сильный запах антисептика, детского масла и сушеной лаванды.
Я сижу как на иголках на диване в гостиной. Как мне все это знакомо! Бабушка обожала этот стиль испанского поместья, перелицованного на филиппинский лад, – оштукатуренные в пастельный цвет стены, потолочные балки из старого дерева, люстры из стеклянных шариков, китайская мебель, буддийский антиквариат, выточенные из слоновой кости головы святых в ассортименте. Резные лица разглядывают меня с болезненным вниманием.
Я так нервничаю, что не знаю, куда себя деть. В один день познакомиться с прелестной девушкой и тут же быть представленным ее родителям! Я чувствую себя как в очереди в караоке, следующим после Карузо. На кофейном столике сегодняшняя газета. В разделе светской хроники Диндон Чжанко-младший позирует в окружении Альбона Алькантары, Артуро и Сеттины Лупас, Виты Новы и Тима Япа на празднике открытия недели «Сделай сам себе Гавайи» в торговом комплексе «Рокуэлл». Диндон лоснится, как никогда. Если б мне предстояло с ним фотографироваться, я б немедленно побежал домой отшелушиваться.
Сэди спускается, вся такая чистая да свежая. Кажется, она даже немного подкрасилась.
– Вот что, паре, – говорит она со своей кривой ухмылочкой, – я же говорила, что мы будем раньше всех. Филиппинское время. Пойдем ко мне в комнату? Я хочу тебе кое-что показать.
Ее комната пахнет невинностью, как девочка, прежде чем журналы мод сделают из нее женщину. В углу – «фендер-стратокастер».
– Я хочу прочесть тебе стихотворение, но его еще нужно найти, – говорит она. – Присаживайся где хочешь.
Латунная кровать почти полностью завалена плюшевыми зверями. Я продолжаю стоять. Со стен на меня уставился целый пантеон: Steely Dan, Spiders from Mars,истекающий по́том Нил Даймонд [131]131
*Steely Dan – популярная американская группа 1970-х гг., работавшая на стыке джаз-фьюжна, фанка, софт-рока и ритм-энд-блюза и в 2000 г. воссоединившаяся; название для своей группы Уолтер Беккер и Дональд Фейген позаимствовали из романа Уильяма Берроуза «Голый завтрак». The Spiders from Mars («Пауки с Марса») – аккомпанирующий состав Дэвида Боуи в начале 1970-х гт. (Мик Ронсон, Тревор Болдер, Мик Вудмэнси), периода концептуального альбома «The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars» (1972) и следующего за ним, «Aladdin Sane» (1973). Нил Даймонд (p. 1941) – популярный американский автор-исполнитель, прославившийся песней «I’m a Believer», ставшей в 1967 г. мегахитом в исполнении группы The Monkees.
[Закрыть]. Сэди склоняется над ящиком стола, демонстрируя свои красные стринги и сомкнутую расщелину. Поверх заваленного стола лежит дневник «Хелло, Китти», блокнот и раскрытый пластиковый чемоданчик, внутри которого виднеется почерневшая ветошь и разобранный глок.
– Осторожней, – говорю я, глядя на пистолет. – Знаешь, Чехов говорил, что, если в первом акте на стене висит ружье, в финале оно должно выстрелить.
– Ты так думаешь?
– Уверен.
– Где, блядь, мой блокнот? – Сэди рыщет повсюду, разбрасывая грязную одежду.
Я просматриваю книжные полки вдоль стены, где тома расставлены от Абада и Аристофана до Зафры и Золя [132]132
*То есть в алфавитном порядке, от А к Z (Zafra, Zola).
Абад,Антонио Меркадо (1894–1970) – филиппинский поэт, прозаик, драматург, писавший по-испански.
Зафра,Джессика (р. 1965) – современная филлипинская писательница и журналист, в 1990-е гг. менеджер группы Eraserheads.
[Закрыть]. Возле кровати лежит стопка книг, которые она читает сейчас: Гоббс, Милль, «Кальвин и Гоббс», Джон Эванс, «Бетти и Вероника» [133]133
* Милль, Джон Стюарт (1806–1873) – британский философ-либерал и экономист, автор трудов «Система логики» (1843), «О свободе» (1859), «Размышления о представительном правлении» (1861).
« Кальвин и Гоббс»(«Кельвин и Хоббс», Calvin and Hobbes) – комикс Билла Уотерсона о мальчике Кельвине и его плюшевом тигре Хоббсе, выходивший в 1985–1995 г.; на пике популярности издавался в 2400 газетах по всему миру. Персонажи названы в честь швейцарского теолога Жана Кальвина (1509–1564), основателя кальвинизма, и «отца политэкономии» Томаса Гоббса.
«Бетти и Вероника» – популярный комикс издательства Archie Comics, выпускавшийся в 1950–1987 гг. под названием «Archie’s Girls Betty and Veronica», а после 1987-го – как «Betty and Veronica». Основу большинства сюжетов составляет любовный треугольник между Арчи Эндрюсом, Бетти Купер и Вероникой Лодж.
[Закрыть], «История пропагандистского движения Илюстрадо, 1880–1896».
– Одни книжки для учебы, другие – для поддержания душевного равновесия, – поясняет Сэди.
– А что сейчас читаешь?
– Эту. «Смерть нектарницы». Американского писателя Эванса.
– О чем это?
– О жизни инструкторов по сноуборду в Колорадо.
– И как – интересно?
– Когда хорошо написано – что угодно будет интересно. Кроме того, я обожаю современную американскую литру. Можешь считать меня осколком колониального прошлого, я вообще такая.
На маленьком столике, рядом с вазой с хризантемами, возвышается монолит томов Криспина Сальвадора.
– Ага, – говорит Сэди, оглядев стопку, – это типа «Близкие контакты витиевато-многословного вида» [134]134
*Аллюзия на фантастический фильм Стивена Спилберга «Близкие контакты третьего вида» (1977).
[Закрыть].
– К слову, о пришельцах. Ты уверена, что мне дозволено находиться в твоей комнате?
– Расслабься. Когда мне исполнилось двадцать один, предки смягчили режим. Они ж просвещенные. Иногда мне кажется, в семидесятых они сами были типа свингеров. Бе-е, как представлю! Короче, они сказали, что лучше я буду в открытую дома, чем прятаться где-то по закоулкам. Какая разница! Кроме того, ничего не случится.
Когда она отворачивается, продолжая искать свои стихи, я проверяю, застегнута ли у меня ширинка. Какой бы трепет я ни испытывал от этой неожиданной близости, от скорой перспективы внимать ее стихам, напряжение внезапно как-то испарилось. Ничего не случится? Я протираю уголки глаз, чтоб там, не дай бог, не было козюлек. Сейчас, видимо, не самый подходящий момент для поцелуя.
– Слушай, – говорю я, уставившись на плакат, – обожаю Steely Dan.
– Да, я тоже.
– Особенно гитарная партия в «Bad Sneakers».
– Какая еще гитарная партия?
– Ну, там, эта… партия, которую играют, ну гитары.
– А-а.
– Ну.
Черт! Выставил себя дураком. Нужно было сказать, что я люблю тонкую лирику Дональда Фейгена. Но все, поезд ушел.
– Слушай, – говорит Сэди, – к слову, о Сальвадоре… – Она садится за стол и принимается шуровать в завалах. – Я только что вспомнила: моя мама училась у его тетушки в Успения. Матушка-то уж наверняка что-то знает про дитя любви, о котором ты рассказывал в машине. Ты же знаешь, как это в Маниле, – все всех знают… но где, блядь, мой поэтический дневник?
– А вот этот, «Хэлло, Китти», перед тобой?
– Это дневник снов.
– А тот, что с Фабио на обложке?
– Это дневник-дневник.
– А как выглядит поэтический?
– Такой зеленый и… хм… да вот он! Я на нем сидела. Хе-хе. – Она открывает его и пролистывает до конца. – Ты готов? Ну, надеюсь, тебе понравится. Да, не знаю. Только говори честно то, что думаешь, хорошо? Но и про тактичность не забывай, хор? Ничего, короче, не получится.
Она делает глубокий вдох и читает стихотворение этаким полным отчаяния, неестественным голосом, и каждое слово дается ей с трудом, будто нечто тяжелое:
– Перегруженной темой / Падает ночь; / Прилив начался / В море слабых метафор. / О цвет, / О дождь, / О древо. / Все поэтические клише! / Придет ли озарение с последними словами? / Иль апогей, развязка – все выдумки безумцев? / А вдруг уж приходило откровенье, / а я все пропустила, / глядя в телевизор?
Сэди внезапно замолкает. Впечатление такое, что она вот-вот заплачет. Уж как я ни хвалил, она все равно не поверила, что мне понравилось ее стихотворение.
* * *
Когда Кристо обнял каждого из сыновей, мальчики не узнали его. Нарцисо-младший завопил, остальные просто заплакали. Мария-Клара положила ему руку на талию:
– Может, когда ты сбреешь бороду?
Он в своей комнате, над тазиком клубится пар. Он правит бритву и заглядывает в зеркало. Он зарос кустистой черной бородой, испещренной ярко-рыжими прожилками. Он спрашивает себя: должен ли я стыдиться, что, оказавшись наконец дома, чувствую облегчение? Он промакивает лицо водой. Вечером я сяду за стол и съем приличный ужин. Он взбивает в чашке пену. Мария-Клара, может, захочет мне спеть. Он водит помазком по лицу. Мы с мальчиками сможем прогуляться по усадьбе. Он бреет левую щеку. Посмотреть на звезды. Ополаскивает бритву. По крайней мере, созвездия все те же. Бреет правую. Но что же нам делать теперь, когда все разбрелось? Он снова ополаскивает бритву. Старые друзья уже заискивают перед американцами. Он бреет подбородок, аккуратно повторяя его изгибы. Даже те, что так отважно сражались с испанцами. Он сбривает под носом. Изучает свое отражение. Кто это? – спрашивает он. Кого-то он мне напоминает.
После ужина Кристо прогуливается с женой и детьми. В ночной прохладе куда приятнее, чем в жарком доме. Мальчишки все еще поглядывают на него с опаской, зато Мария-Клара весела и прелестна. Она ненатужно шутит с детьми, и они смеются. Он им завидует.
На обратном пути Кристо смотрит на ярко освещенные окна своего дома, к которому бегут его сыновья. Мария-Клара сжимает его руку. Он говорит:
– Давай заведем еще ребенка. Давай попробуем девочку.
Она останавливается и крепко обнимает его.
– Мы станем американцами, – говорит Кристо. – Наши дети научатся говорить как американцы. Когда придет время, мы отправим их на учебу в Америку, как когда-то я поехал в Европу. А когда они вернутся, вся эта земля будет принадлежать им. Они вернутся, чтобы изменить что-то вокруг.
– Наконец-то ты перестанешь воевать внутри себя, – говорит Мария-Клара.
– Да, – отвечает Кристо, – возможно.
Криспин Сальвадор. «Просвещенный» (с. 270)
* * *
Помню, перед самым концом худо было недели напролет.
– И что мы будем делать друг без друга? – спрашивала Мэдисон; я смотрел, как в креманке тает мороженое.
Мы так долго строили планы. Любовь – это же и есть совместные планы. А может, это только у нас так было. Все было выверено, выяснено и скорректировано. Наша нерелигиозная свадебная церемония. Наши экологические похороны. Мы хотели пожениться в каком-нибудь священном месте, но чтоб на нас не взирало никакое божество, кроме нашей любви, нас самих и, как выражалась Мэдисон, чудесного сообщества близких нам людей. Мы хотели, чтоб нас похоронили вдали от кладбищ, под деревьями, в муслиновых саванах, ближе к земле, которая легко приняла бы нас; мы хотели, чтобы, во избежание лишних выбросов в атмосферу, родственники устроили по нам светские поминки в городах, где они живут. Мы составили саундтрек на все случаи жизни (ария Лакме вместо свадебного марша; проигрыш из «Лэйлы» Эрика Клэптона для моего похоронного кортежа [135]135
* …ария Лакме вместо свадебного марша… – Из оперы «Лакме» (1883) французского композитора Лео Делиба (1836–1891) на либретто Эдмона Гондине и Филиппа Жиля, основанном на романе Пьера Лоти «Рараю, или Женитьба Лоти». Действие романа и оперы происходит в колониальной Индии.
…проигрыш из «Лэйлы» Эрика Клэптона для моего похоронного кортежа… – «Layla» – песня с альбома «Layla and Other Assorted Love Songs» (1970) группы Derek and the Dominos. Эта двойная пластинка – единственная студийная запись данного проекта Клэптона.
[Закрыть]). Мы решили, что единственный нравственный выбор в сегодняшнем мире – это усыновление, и дискутировали, из какой страны спасем сироту. Иногда, впрочем, Мэдисон говорила: «Может, я еще захочу одного нашего»; или: «Может, и неплохо было бы в соборе обвенчаться». На что я приводил свои логичные и благоразумные доводы.
Я оторвал глаза от своего тающего мороженого и посмотрел на нее.
– Что мы будем делать друг без друга? – повторила она вопрос, на этот раз со слезами на глазах.
Я мог бы честно ответить, что ничего страшного с нами не случится. А мог соврать, как она этого хотела, сказав, что ничего страшного с нами не случится. Я помню, как она перегнулась через стол, чтобы взять меня за руку. На рукав ее блузки попала капля кетчупа и начала впитываться. Мы и любили по-разному. Для меня каждый день вместе был как благословение. Она воспринимала все как должное и была уверена, что мы вместе навсегда.
– Мы… то есть ты и я, – сказала она, – мы будем в порядке. Я верю в это.
И меня, и Мэдисон воспитывали католиками. И свой атеизм мы исследовали вместе. Мы подводили друг друга к упрямым вопросам. Возможно ли, что никакого Создателя не существует? Неужели наша жизнь заканчивается со смертью? Борьба за рациональное восприятие мира сковала нас вместе. Наши родственники с их вдохновенными эсэмэсками и мейлами, в которых они настоятельно советовали нам отказаться от донорства органов, только усугубляли отчуждение, а значит, и обоюдную близость. Вечерами мы выстраивали свою систему взглядов, и усомниться в ней я мог только на вершине счастья, когда сложно было смириться с тем, что нет никакой высшей силы, которую можно за это поблагодарить.
– И что ты вот так, запросто, это говоришь? Что с нами все будет в порядке? – не унималась Мэдисон.
Официантка подошла подлить нам чаю со льдом, но, заметив, что Мэдисон плачет, развернулась на каблуках.
– Тсс, дорогая, – произнес я чуть громче, чем нужно, чтоб было слышно окружающим, – все образуется.








